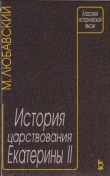Текст книги "Украденный трон"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
– Шалит? – остановился Пётр перед Власьевым.
– Шалит, спасу нет, – продолжал бормотать Власьев, всё ещё стоя с приложенной ко лбу рукой.
– А как будет шалить, – прошипел Пётр, – в цепи его да палкой, чтоб не шалил да что ни попадя не плёл...
Всё это он уже прокричал по-немецки, и его не поняли ни Власьев, ни Чекин. Но Унгерн нашёлся и тут же перевёл всё по-русски:
– Будет шалить – в цепи, да есть не давать, да палкой...
– Слушаюсь, – вытянулся Власьев.
Но гости уже гурьбой выдирались вслед за Петром из маленькой узкой двери.
Всю обратную дорогу Пётр кипел, исходил злостью. Всю дорогу сочинял казни египетские на голову бледного узника, доказывая самому себе, что таких людей не должно быть на свете, что их надо давить и уничтожать, как давят насекомых, как давят комья грязи под ногами. Никто из сопровождавших его не смел сказать слова.
Александр Иванович Шувалов, начальник Тайной канцелярии, принял на себя удар государева гнева, но тут же и успокоил его:
– Тайная канцелярия, ваше величество, не дремлет. Запишем в инструкцию такие слова: «Ежели арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойно, то сажать на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью»...
– Так, так, – обрадовался Пётр, – именно так, палкою и плетью.
– Запишем ещё далее, – как по писаному продолжал Александр Иванович, угадывая невысказанное Петром, – «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться, сколько можно, и арестанта в руки живого не отдавать...»
– Работает Тайная канцелярия, – сиял Пётр, – именно так, живого в руки не отдавать.
Через несколько часов указ Тайной канцелярии был готов, написан и скреплён печатью, и Пётр самолично подписал его. Теперь он успокоился, и бледное лицо узника больше не тревожило его ума до самых трудных часов его недолгой жизни.
Через полчаса после того, как кавалькада с императором рассеялась возле дворца, в приёмные покои Екатерины проскользнул Николай Андреевич Корф. Он попросил доложить о себе Шаргородскую, и, хотя Екатерина запретила тревожить её после обеда, поскольку чувствовала себя очень плохо – приближались роды. – Шаргородская скользнула за бархатную портьеру, занавешивавшую вход в кабинет императрицы, и тихонько сказала Екатерине, отдыхавшей на мягком канапе:
– Николай Андреевич Корф... Примете?
– Конечно, пусть войдёт. Да и вообще могла бы его пускать без доклада.
Шаргородская вышла в приёмную и жестом руки дала понять, что Екатерина ждёт его.
Екатерина встала, оправила на себе неуклюжие и бесформенные траурные одежды и пересела к кабинетному столику. Вяла перо, окунула его в свеженалитые чернила и приготовилась встречать своего шпиона и единомышленника.
Николай Андреевич вкатился в комнату как шар, неслышно ступая по мягким коврам.
– Матушка-государыня, – низко поклонился он.
– Николай Андреевич, что за политесы, – широко улыбнулась Екатерина. – Садитесь да рассказывайте новости, небось у вас их целый ворох. А то все меня позабыли, никто не приходит, никому нет дела до бедной женщины...
Она снова улыбнулась, бросила перо, вышла из-за стола и прошла к Корфу. Усадив его на мягкую широкую софу, она опять заулыбалась.
– А вы всё молодеете, Николай Андреевич, все наши придворные дамы по вам с ума сходят. – Все свои комплименты Екатерина старалась высказывать как можно естественнее и ласковее.
Корфа приятно позабавил комплимент царицы, но он прекрасно понимал ему цену, потому не откладывая начал рассказывать о поездке Петра в Шлиссельбургскую крепость.
Екатерина внимательно слушала, не сгоняя с лица ласковой и внимательной улыбки.
– Совсем недалеко от крепости наткнулись мы на юродивую...
Екатерина насторожилась.
– Облегчался его величество, а она тут как тут, вышла из-за кустов да и говорит: «Удавленник!»
– Совсем недавно встретилась и мне она, – перебила его Екатерина. – И знаете, подарила мне медный грошик. «Царя на коне», – сказала. Я теперь его на цепочке ношу. Как трудно, верчу в пальцах, и как будто легче становится.
Корф взглянул на Екатерину внимательнее.
– Не верите, Николай Андреевич, а он вот он. – Екатерина вытащила из-за пазухи медный грош на золотой цепочке и оттянула его, насколько могла, чтобы Корф мог его увидеть.
– А тут встреча несколько странная вышла. Император рассвирепел, да и приказал заковать её в железа, в каземат посадить.
Екатерина отправила грошик на место, запахнув на груди складки широчайшего чёрного платья.
– Зачем же, – с грустью проговорила она. – Эта юродивая зла никому не приносит. Уж если и сажать её, так надо в больницу. Да у нас и нет таких больниц, – вдруг спохватилась Екатерина, – а надо бы устроить дольгаузы, содержать в них умалишённых. Их ведь много, а кто о них заботится...
Корф внимательно смотрел на Екатерину.
– Вы правы, матушка-государыня, вряд ли государь на это пойдёт. Уж очень ему не понравилось это словцо – удавленник. Он, правда, вначале и не понял, только испугался. За этот испуг и посадил её в железа, в кандалы.
– Николай Андреевич, надо бы её выпустить, – с той же ласковой улыбкой наклонилась к нему Екатерина, – кому мешает это несчастное существо?
– Не смогу, государыня, – покачал головой Корф, – приказ есть приказ, вот если вы похлопочете, может, император и сжалится над бедной странницей...
– Я поговорю с ним, – улыбнулась Екатерина.
Но она уже знала, что не пойдёт просить аудиенции у Петра. Она старалась в этот последний месяц возможно реже бывать на половине Петра, старалась отсиживаться в своей комнате.
Только бы благополучно прошли роды... Только бы Пётр не заподозрил, что она беременна. Иначе всё – сразу же сошлёт в монастырь, и никто ей не поможет.
С большим вниманием и интересом выслушала она и рассказ об Иване, безымянном узнике. Узнала новое – оказывается, Иоанн хорошо знал, кто он такой, наверное, накопил на сердце ненависти и обиды, и если найдёт хоть малейшую возможность...
– Каков он из себя?
– Младенцем я его хорошо знал, возил не раз, – задумчиво отозвался Корф, – теперь совсем взрослый. Довольно красивый, белокурый, волосы вьются, крошечная бородка, редкая только, пушком как бы лицо покрылось – пушок рыжеватый. – Корф так подробно рассказал об Иоанне, что Екатерина представляла его живо.
– Только очень бледен, мраморное лицо, – продолжал рассказывать Корф, – руки нежные, маленькие, в ту породу, царя Ивана. И говорит не весьма внятно, с трудом можно его понимать. Ну а уж насчёт политесов – грубый мужик, зверь, ни в чём понятия не имеет, хотя врождённое благородство чувствуется...
– Несчастная вся эта семья, – тихо, словно бы про себя, сказала Екатерина. – Говорят, у царицы Прасковьи Фёдоровны, жены царя Ивана, – она из дома Салтыковых – характер был неприятный и тяжёлый. Дочерей очень плохо воспитала – они беспрестанно ссорились между собою и с матерью. И к концу жизни пришла матери фантазия в голову проклясть всех их троих. Младшая, Прасковья, умерла незамужнею. Царица была при последнем издыхании, когда Великий Пётр бросился перед нею на колена и заклинал её простить дочерей. Но Прасковья Фёдоровна смягчилась только по отношению к одной герцогине Курляндской Анне Иоанновне, а старшую и младшую снова прокляла, да ещё на веки вечные со всем их потомством. Потомство старшей – выдали её за герцога Брауншвейгского – и есть то несчастное поколение Анны Брауншвейгской, сын которой был венчан в два месяца и сидит теперь в крепости. Четверо же других детей этого брака, Екатерина, Алексей, Пётр и Елизавета, до сих пор живы и с отцом своим – принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским – в Холмогорах, куда их заслала тётка моя, Елизавета. Принц Алексей хром, Пётр – горбат, Екатерина страдает приступами меланхолии, а у Елизаветы время от времени бывают припадки сумасшествия. Проклятие царицы оказало своё влияние на весь этот несчастный род. Я это знаю, потому что тётка моя, государыня Елизавета, знала от отца, Петра Великого, графиня Воронцова знала это от Екатерины I, и Елизаветы, и от мужа своего, графа Воронцова. Знают об этом и Бутурлины и Чернышевы – они были современниками этому событию. Так что несчастное это поколение страдает за грехи матерей и отцов...
Екатерина помолчала и потом продолжила:
– Мне жаль принца Иоанна, но судьба есть судьба. Вряд ли ему придётся в жизни своей чего-либо добиться – уж очень сурово обошлась с ним прабабка его, царица Прасковья Фёдоровна. Наши слова всегда отзываются, не сегодня, так завтра, не завтра, так через сто лет...
Корф с удивлением глядел на Екатерину. Он ещё не знал её такой.
– Я думал, ваше величество, – осторожно сказал он, – что вы не верите во все эти предания и сказания.
– Я верю в судьбу, – улыбнулась Екатерина, – я верю, если кому что назначено, обязательно исполнится...
Она проводила Корфа до дверей и вернулась на своё канапе тревожная и задумчивая. Стоило подумать о предсказании юродивой, стоило сопоставить все факты и события...
Не прошло и нескольких минут, как в кабинет Екатерины вошёл, тяжело топая ногами, рослый и толстый Волков. Он передал Екатерине все подробности поездки, а так как владел словом хорошо, то пересказал и всё, что кто говорил и кто как на что реагировал. Екатерина получила полную картину происшедшего. Впрочем, это была только одна из картин – она всегда всё знала, все слухи, всё случившееся тут же становились ей известны. Она, как паук, сидела в центре паутины и незаметно дёргала нити, не заметные никому и заставляющие людей поступать так, а не иначе. Дальше Екатерины все эти доклады и донесения, разговоры, рассказы не шли. Она умела хранить секреты...
Глава V
Никто и не подумал помочь подняться бедному узнику, когда он в мгновенном обмороке упал, ударившись об угол стола. Блестящая свита заторопилась вслед за императором, выскочившим из камеры и жаждавшим глотнуть свежего воздуха, а сторожа покинули камеру, спеша увидеть выражение лиц придворной свиты и самого императора. Значит, не врал отрок, когда говорил, что он принц и император сей империи, значит, он действительно...
Но тут мысли у тюремщиков путались, язык застывал во рту, и только в самых отдалённейших уголках мозга тлела одна и та же мыслишка – значит, могут и побольше платить, значит, могут и чины добавить.
Но сильнее этого было отвращение и скука каждодневного обитания в тюрьме. По сути, сторожа сами стали узниками. Они никуда не могли отлучаться, ни с кем говорить, никому писать. Единственной их мыслью теперь стало – пока жив узник, пока надо его крепко сторожить, стало быть, нужно качать и качать деньгу, уповать на скуку и скудость жизни, не то, не дай бог, вернутся к своей жизни, а без чинов, без денег и крестьянишек не в почёте житьишко.
И они старались вовсю... В каждом письме просили освободить их от тяжёлой и скучной доли, писали и писали о немоготе такой жизни, и просили и просили...
Иван очнулся сам, едва затворились тяжёлые кованые двери, залязгали засовы и замки, открыл глаза, глядя в низкий сводчатый потолок, поднял руку, ощупал большую шишку на голове и сел.
В камере никого. Одинокая свечка мерцала, оплывая в жестяном шандале. Всё тихо, толстые стены скрадывали всякий шум.
Он прошёл за перегородку, привычно перекрестился на образ Христа Спасителя, пробормотал слова молитвы и улёгся на своё жёсткое ложе. Узенькое окошко, забрызганное чёрной краской, едва пропускало тусклый туманный свет белой, уже начинающейся северной ночи, свечка мигала и плавилась, крупные капли воска падали в блюдце шандала. Он не мог читать, не мог ни о чём думать. В глазах его стояло лицо скромного офицера в епанче, лицо, чем-то ему знакомое, что-то ему напомнившее.
Он и не понял, что офицер как две капли воды походил на него. Узник никогда не видел себя.
Сон, спасительный сон, в котором он проводил большую часть дня и ночи, не шёл, как ни старался Иван закрывать глаза. Они снова и снова открывались, и опять ему виделась блестящая толпа людей, вошедших в его камеру, и сердце трепетало – а ну как не станут держать его здесь более, а ну как выпустят на свободу! Но что будет делать он, незнакомый с жизнью, там, за стенами этой крепости, куда пойдёт, чем будет заниматься? И он боялся этого и хотел. Долгие годы тёмного мешка, каменной сторожи, где он проводил своё время, научили его бояться всего, что за стенами. Он понимал, что теперь уже никогда не приспособится к той, другой жизни.
Он снова закрыл глаза, и словно бы туманное облако спустилось над ним. В который раз ласковая рука прикоснулась к его вьющимся белокурым волосам, усыпляя нежным прикосновением. Проваливаясь в тёмную пучину сна, он возносился к сверкающим высотам, и женский нежный голос говорил ему:
– Помни, во всю свою жизнь не забывай. Помни всегда. Твоя мать – принцесса Брауншвейгская, прадед твой – российский император Иоанн, Пётр Великий – твой двоюродный прадед...
Один и тот же сон преследовал его. Он не помнил, как звали его мать и его отца, не знал, живы ли они, есть ли у него в целом свете хоть кто-то из родственников. Но навсегда запомнил этот нежный голос, который с самого младенчества внушал ему, что он – император. Только недавно стал он говорить об этом своим сторожам, невежественным, грубым людям. Они хохотали в ответ на его слова и грозили берёзовой кашей. Вот и этот офицер тоже пригрозил, если будет баловать, если будет шалить, заковать в цепи и бить палкой...
Даже во сне он вздрогнул, вспомнив об этих угрозах. Туманное белое лицо и во сне не прояснялось, он просыпался и пытался вспомнить черты нежного белого лица, но это ему не удавалось. Мать, мама, ведь была же ты?
Очень смутно он помнил высокий частокол из заострённых брёвен, холодное небо с переливающимися голубыми, красными, сиреневыми столбами света, бревенчатый дом под тесовой крышей, старого вояку Миллера, научившего его читать и писать. Он не знал, как называлось то место, где он теперь, как называлась вода, по которой он плыл на лодке с завязанными глазами, не знал, как зовётся башня, в которой он провёл столько лет. По крупицам, прячась от сторожей, собирал он сведения о крепости. Но в их словах никогда не мелькало никаких названий. Они строго следили за тем, чтобы узнику не стало известно его местопребывание, чтобы он не знал ничего...
Он и не знал ничего. И только туманное видение у изголовья напоминало ему неустанно и каждонощно:
«Помни, во всю свою жизнь помни, ты – император всероссийский».
Он даже не понимал, кто такой император, пока не наткнулся в своих божественных книгах на это простое слово. Теперь он знал, что оно значило, давно понял, почему его держат здесь, но знал также, что об этом лучше молчать...
Иногда его терпению приходил конец. Сторожа раздражали его, дразнили, и однажды, много лет тому назад, он не выдержал. Раньше в его каменном мешке стоял высокий, на три свечи, бронзовый подсвечник. Свету он давал больше, и можно было разбирать Четьи-Минеи, читать о пустынниках и отшельниках, о святых отцах, усмирявших свою плоть. За обедом, а обедали они всегда втроём, он заметил, что из общей миски сторожа его стараются выловить кусок мяса побольше, отправить в свой рот погуще всего, что было в похлёбке. Миска большая, одна на всех, ложки деревянные, и он, как ни старался, не мог успеть за грубыми и большими мужиками. Не говоря ни слова, он схватил бронзовый подсвечник и запустил им в окно. Толстые решётки задержали тяжёлый подсвечник, но часть стекла, забрызганная краской, треснула, осколки выпали, и ему открылся вид на галерею, где ходил часовой.
Его выпороли. На том же ложе, где он спал, они разложили его, связали руки и ноги и спустили холщовые штаны, в которые он обыкновенно одевался. Беспомощное тело лежало и вздрагивало под ударами тонких прутьев, он крепился, старался не плакать. Били с оттяжкой, резко, звучно, входя во вкус...
С тех пор он старался не делать ничего, что могло вызвать наказание. Даже не отвечал на оплеухи, подзатыльники. Унижениям и хамству сторожей Tie было, казалось, конца. Им нечего делать, скука и тоскливость их существования тоже выводила их из себя. И они избрали Ивана предметом своих насмешек и грубых острот.
– Березовой каши не хошь, император? – снова и снова слышал он их постоянное присловье.
Он оставил всякую надежду выйти отсюда. Пытался раз шмыгнуть мимо сторожей, бесшумно открыть тяжеленные двери и тугие ржавые засовы, но за дверью оказалась решётка, там ходил часовой, ещё один солдат сидел на каменной приступке возле двери. Мыши не проскользнуть. И он тихонько запер створку двери, сам наложил крепкие запоры и нырнул на свой жёсткий, набитый соломой тюфяк, накрывшись изодранной епанчой...
Да и что там, за этой дверью, за этими толстыми стенами? Он страшился, боялся этой жизни, хотел увидеть её, но страдал от мысли, что он не такой, как остальные люди. Иначе за что бы его сажать сюда, в этот каменный мешок, и держать год за годом, месяц за месяцем? Он вертелся на своём жёстком ложе, снова и снова пытаясь уснуть и увидеть туманное пятно дорогого лица и услышать слова, сказанные ему, совсем ещё малышу:
«Помни, во всю твою жизнь помни, во всю свою жизнь не забывай, ты – император всероссийский...»
Он и сам не понимал, сон ли или это было на самом деле. Он сам не понимал, выдумал он или на самом деле мать вдалбливала ему эти слова в голову. Никто никогда не подтвердил ни словом, ни делом. Он был для всех Гришкой – так называли его сторожа, так называл и себя он сам. Гришка, Григорий, а дальше? Какого рода-племени, кто твои мать и отец, откуда ты взялся на свете? Кто же ты на самом деле, Григорий, безымянный арестант или император? Есть у него мать и отец, или же он несчастный подкидыш, как толковали его сторожа и держали словно зверя в клетке, не выводя на белый свет...
Раньше, несмышлёнышем, он часто задавал такие вопросы сторожам, но в ответ получал только зуботычины и подзатыльники. Теперь он не спрашивает ни о чём. Он уже и сам не верит, что он – император...
Но ведь помнил же он, как привезли его в темницу! Самое яркое впечатление посреди серых унылых будней. Долго плыли по большой бесконечной воде на большой деревянной лодке. Потом встала перед ним сказочная каменная крепость – высоченные стены, огромные сторожевые башни с флагами на них, подъёмный мост на ржавых громыхающих цепях, запорная решётка с острыми зубьями на концах. Ему закрыли лицо, туго затянули глаза, но он, привычный к неволе зверёк, сумел кое-что разглядеть из-под чёрной повязки. Удалось обмануть сторожей примерностью поведения, неподвижностью вроде бы ослепшего человека.
Как хорошо он знал слабости своих сторожей и как же ловко научился их обманывать! Даже в крохотные свои детские тайны он не посвящал их – тут же изобретут ещё более изощрённые пытки.
За что, за что они так ненавидели его? Ведь он всегда старался быть добрым товарищем, не отвечал на побои, не матерился, как они, хотя хорошо изучил их лексикон. Ощетинивался только тогда, когда уж слишком допекали его... За что, за что? Мучился, думал, сопоставлял. Его сторожа сидели в одном с ним каземате, с той лишь разницей, что могли выходить на несколько минут, подышать ветреным морозным воздухом да поглядеть на Божье небо над головой.
Но они всегда возвращались, и он всегда видел одни и те же лица...
Нет, пожалуй, не всегда. Восемь лет назад лица были другие. Он их всех запомнил, хотя тогда ему минуло двенадцать. Каждое новое лицо интересовало его, в его скудной впечатлениями жизни каждый новый человек – целое событие. Он разглядывал его со всех сторон, надеялся, что наконец-то получит сведения о тех, кого он помнил так туманно, смутно.
Но вот уже долгих восемь лет лица одни и те же – Лука Чекин, Данила Власьев. Он ненавидел их так же, как они ненавидели его. В тесной камере – угрюмой низкой сводчатой каменной мышеловке – всегда одни и те же.
Каждый день ему приказывали скрываться за ширмами, за дощатой перегородкой – приходили убирать. И он не видел кто. Он пытался прокрутить в досках дырку, найти сучок, который можно было бы вытащить, но сторожа строго следили за всеми щелями, и ему не удавалось увидеть уборщиков, а тем более перемолвить с кем-нибудь словечко. Он складывал свои впечатления, и как скупец раскладывает свои богатства, любуясь ими, так и он перебирал их в памяти.
Лёжа на своей жёсткой койке, он придумывал себе биографии этих людей, надеялся, что за дверями его камеры они ведут богатую впечатлениями жизнь. Уж этого-то тюремщики не могли ему запретить.
Внезапно глаза его открылись. Он засветил свечку, стоявшую у ложа на тяжёлой деревянной табуретке, и поднял глаза к тёмной иконе:
– Господи, за что я здесь? Кто я, Господи, помоги мне узнать, кто я, где мои родные, кто мой отец и мать, где они? За что караешь меня, Господи!
Он встал на колени, страстно вглядывался в тёмный лик на иконе. Он шептал и шептал слова, стоя перед иконой, и слёзы лились на его холщовую рубаху, на тёмный от времени серебряный крестик на груди.
Он привык молиться молча, тюремщикам его казалось, что он просто стоит на коленях, изредка крестясь и стукаясь лбом о тёмный кирпичный пол. Он верил исступлённо, молился горячо и страстно, и всё ждал ответа от тёмного лика.
Икона и книги – вот всё, что поддерживало его силы в этой душной, придавленной низким сводчатым потолком камере.
В последнее время его часто оставляли одного. Тюремщикам и самим тошно стало сидеть с арестантом – они изнывали от тоски и каменного холода камеры. В первые годы они ещё боялись уходить, но теперь то и дело находили предлоги, чтобы улизнуть из каменного мешка. Они чувствовали, что сами превратились в таких же узников.
Что-то блеснуло в тёмном углу камеры. «Ага, – тепло подумал арестант. – Пришла...» Мгновенно улетучилось блаженное чувство растворения в божественном умиротворении. Стоя на коленях, с головой, наклонённой к самому холодному полу, он замер, боясь спугнуть крысу. Он видел её поблескивающие в темноте глаза. Жаль, не оставил корку хлеба, пожалел он. Покормил бы. Может, подошла бы поближе. Живое существо, бессловесное, но живое. Крыса слегка шелохнулась в полутьме и исчезла.
«Завтра приготовлю тебе подарочек, – размягчённо подумал Иван. – Погрызёшь...»
И снова лёг. Глаза упёрлись в низкий потолок. Даже крыса может свободно пробежаться, выскочить к воде, траве, солнцу. Почему он здесь?
Тишина, вязкая, плотная. Хоть бы звук какой. Он терпеливо лежал без сна. Серый неясный рассвет слегка развеет полумрак в камере, проникнет сквозь забрызганное чёрной краской оконце, и значит, там, на воле, взойдёт над землёй большое жёлтое, яркое солнце. Он опять вспомнил, как его везли сюда, вспомнил тяжёлые шлепки вёсел и блики солнца в каплях воды.
Как давно это было и как свежо в памяти воспоминание. Снова и снова вставала перед ним картина – вода и солнце, белые-белые, покрытые красной краской щёки грубых солдатских лиц. Он так жадно приглядывался к этой картине сквозь крохотную дырочку в чёрной ткани своей маски.
Иван обвёл взглядом каменную нору. Оштукатуренные и побелённые извёсткой стены, узенькое окошко, тёмный лик иконы в углу, деревянный помост с дыркой посередине, тяжёлые дубовые табуреты, у самой двери топчаны для сторожей. Их выносили, когда были гости.
Тут же на гвозде в стене – грубая матросская шинель, единственная его одежда, стоптанные солдатские сапоги. Обычно он ходил в старом сермяжном армяке, босиком.
Вот и всё, что есть у него. Но на столе, у окошка, его богатство, всё, что не даёт ему засохнуть, что не даёт умереть душе – его книги: Псалтырь, Четьи-Минеи... Он знал их все наизусть.
Арестант терпеливо ждал, когда загремят засовы и войдут сторожа. Сегодня к нему придёт Данила Власьев, тяжёлый и рослый, грубый и нелюдимый мужик. Оговорками, скупыми словами, брошенными либо в раздражении, либо поневоле, а Данила Власьев всё-таки много рассказал ему. Он бы и сам удивился, поняв, сколько поведал арестанту. Знал Иван, что служат они в армии, что в армии существуют чины и звания, что у Данилы Власьева чин поручика, а у Луки Пекина – вахмистра. В их подчинении – шестнадцать солдат. Его, Ивана, стерегут так, как никого и нигде не стерегут. Значит, боятся его, Ивана. Почему? Значит, он не простой человек, и каждый день подтверждает это его знание...