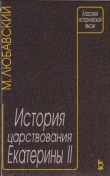Текст книги "Украденный трон"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Что ж, тем лучше. Если у человека есть интерес, он как можно лучше выполнит свою затею.
Несмотря на тряску, несмотря на толчки кареты, она и сейчас улыбнулась, вспомнив об этом.
Преданный слуга, но, если бы он не знал, что получит вдвое больше, не один дом, а много, он не старался бы. Что ж, пусть так и будет.
Екатерина снова взглянула на грошик, который вертела на пальцах. Каждому – своё. Юродивая не взяла денег, что предложила ей императрица, она сама дала ей грош, с одной стороны которого был царь на коне, с другой – орёл с двумя головами.
И вдруг Екатерина увидела в этом знак судьбы. Она и всегда твёрдо верила в себя, а тут её вера укрепилась ещё больше. Но что значит – тяжка ноша, о чём это сказала юродивая? Значит, она видела, что Екатерина носит ребёнка, она предвидела её близкие роды? Нет, подумала Екатерина, не о том. Она сказала о другом – о тяжкой ноше короны, о великом труде царствования.
И опять Екатерина вернулась мыслями к тем интригам, которые она плела уже давно, снова и снова подсчитывала свои шансы на успех, снова мучительно придумывала, где достать денег. За всё надо платить. Снова и снова анализировала она своё поведение – не дай бог ошибиться в слове, жесте, взгляде, не дай бог неосторожным поступком провалить всё.
И с сожалением размышляла о том, что её любимый, статный, прекрасный Аполлон, её Григорий, так неосторожен, так афиширует свою связь с ней. Он давно уже скомпрометировал её, и, если бы не её усилия и её ласковое обращение с самыми злейшими врагами – Воронцовыми, кто знает, что могло бы случиться.
Мысли её вертелись по раз и навсегда заведённому кругу, и она пыталась выбраться из этого круга, придумывая выход из создавшегося положения.
Она знала: всё решит только случай, судьба, рок, Бог. Но помочь случаю состояться – в этом задача, в этом предвидение и ум...
Вернувшись во дворец, Екатерина первым делом приказала прикрепить медный грошик к тонкой золотой цепочке и с тех пор не снимала его с шеи. Даже в бане он всегда оставался с ней, медный грошик, поданный юродивой...
Глава IV
Ранним утром хмурого мартовского дня возле царского дворца на Мойке остановились два неприметных крытых дорожных возка. Из одного с трудом выбрался крепкий располневший старик с покрасневшими от мороза глазами – петербургский генерал-полицмейстер Николай Андреевич Корф. Он потоптался на талом снегу, ещё не убранном перед входом на переднее крыльцо дворца, осторожно и зорко осматривая всё вокруг. Маленькие хитрые его глазки на круглом, словно полная луна, лице блестели подозрительно и настороженно.
Сопровождавшие его конные рейтары остановились в почтительном отдалении и спешились, держа под уздцы выхоленных тяжёлых лошадей.
Корф покорно ждал, всматриваясь в чёрную пасть парадного входа. Он уже решился было доложить о себе, как тяжёлая резная высокая дверь распахнулась и пропустила гурьбу разряженных в собольи шубы людей, сразу наполнивших весенний мартовский воздух гулом и смехом.
Впереди всех шагал любимый императорский адъютант барон Карл Карлович Унгерн-Штернберг[31]31
Унгерн-Штернберг Карл Карлович (1730 – 1799) – генерал-адъютант Петра III, впоследствии служил под начальством Румянцева.
[Закрыть], за ним, посапывая красным носиком и протирая заспанные глаза, спешил сам Пётр, скромно, по-офицерски одетый в прусский зелёный мундир и простую тёмную епанчу, в высоких дорожных ботфортах и тёмной треуголке, отделанной полоской меха.
Пётр выскочил на крыльцо, увидел рейтар, спешившихся в отдалении, грузную фигуру Корфа, тающий снег, грязновато-серый по сторонам дороги, вдохнул свежий, бодрящий воздух и поплотнее надвинул на самые уши треуголку.
Позади государя бочком спешил тайный государев секретарь Волков, быстро возвысившийся при дворе благодаря изрядному знанию грамоты и умению быстро составлять нужные бумаги. За ним гордо выступал Лев Нарышкин[32]32
Нарышкин Лев Александрович (1733 – 1799) – приближённый Петра III, с 1762 года шталмейстер.
[Закрыть], неизменный балагур, шут, сделавший свой язык профессией и добывший им немало почестей и наград. Он уже давно переметнулся от Екатерины, слегка презиравшей краснобая и острослова, к Петру и ожидал милостей и орденов от неловкого на язык и небогатого речью императора.
Остальная свита торопилась за императором, едва успевая глядеть под ноги, чтобы не поскользнуться на талом снегу. Среди блестящих, расшитых золотом мундиров и тяжёлых собольих шуб император выглядел заштатным незаметным офицериком, шмыгал простуженным вздёрнутым носиком, хмуро молчал и сопел, необычно мрачный в это ясное мартовское утро.
Вся компания расселась в возки, Корф махнул рукой ленивым ожиревшим кучерам с широченными толстыми задами, будто прилипшими к облучкам. Рейтары вскочили на коней, стараясь держать ровный, как по ниточке, строй, и вся кавалькада понеслась по пустынным ещё улицам, гикая и присвистывая от весёлой скачки.
Пётр забился в самый угол возка и даже не прислушивался к обычным остротам и насмешливым сетованиям Нарышкина. Тому приходилось сочинять и выдавать свои шутки в полной темноте и тишине возка.
Сидя рядом с императором, Корф недоумённо таращил маленькие глазки на Петра, стараясь разглядеть в полумраке выражение лица царя. Зачем вдруг вздумалось Петру в это холодное скучное мартовское утро отправляться в Шлиссельбург, зачем понадобилось встречаться с безымянным узником, почему ему приспичило поглядеть на царственного отрока, который жил и рос как дикий зверь, не видя людей и не выходя из тёмной камеры.
Корф догадывался, что это неспроста, верно, было нечто, толкнувшее императора на этот шаг. Скорее всего, со вчерашней почтой прислал ему письмо горячо им любимый Фридрих, которого сам Пётр торопил с заключением бесславного для России мира, и посоветовал обратить внимание на Иоанна, сидевшего в тюрьме уже восемнадцать лет. Но зачем ехать, зачем смотреть на узника, можно ведь ограничиться распоряжениями, можно не знать, как живёт, что делает, что думает безымянный узник? Нет, надо, вишь, самому всё увидеть. А что изменится от этого?
Лошади несли прытко, холодный мартовский ветер забирался под рукава шуб и шинелей, поддувал во все щели. Занавески на крохотных оконцах трепыхались и открывали то кусок заснеженного поля, то крохотные почерневшие домишки по сторонам дороги, то стройное гибкое дерево, кренившееся под ветром, то талую, с намерзшими колеями дорогу. День неохотно занимался над печальными пустыми полями, чернеющими вдали лесками.
Внезапно Пётр махнул рукой, чтобы лошади стали. Его, как и всегда по утрам, стало мутить от тряской езды, от толчков и подскакиваний на колдобинах дороги, и он почувствовал, что вчерашние выпитые бокалы бургундского требуют свободы.
Не дождавшись, когда возок остановится намертво, Пётр, наступая на ноги Льву Нарышкину, выбрался из возка и скатился с высокой насыпи дороги к синеющему кустику, оправленному белизной снега.
Он склонился над кустиком, придерживая рукой подбородок, рыгая и отплёвываясь.
Свита почтительно наблюдала мучения императора, сгрудившись у возка. Конные рейтары окружили место освобождения желудка императора тесным полукругом, не решаясь съехать с дороги в посиневший, но всё ещё толстый слой снега.
Барон Унгерн подбежал почти к самому императору, но почтительно приостановился, стараясь не смотреть в его сторону.
Пётр облегчился и собрался залезть в возок, как малая нужда заставила его растянуть шнур на лосинах и управиться со своей сбруей, нацепленной на тело.
Струя была хилой и слабой, но всё равно выписывала на синеватом снегу замысловатые узоры. Пётр развеселился и пожалел, что струя кончилась и надо отправляться назад.
Он разглядывал узоры желтоватых орнаментов на снегу и затягивал пояс, как вдруг поднял лицо и уставился в голубые яркие глаза, глядевшие на него из-за куста... От неожиданности Пётр замер, и трепет прошёл по всему его телу. Но тут же он увидел, что глаза принадлежат высокой статной женщине в грязной драном платке и мокрой зелёной юбке.
Секунду он глазел на неё, потом опрометью повернулся и бросился бежать к возку.
– Удавленник, – услышал он сзади хриплое слово, сказанное густым низким простуженным голосом.
Пётр приостановился, оглянулся назад. Женщина протягивала к нему руку с толстой суковатой палкой и кричала:
– Удавленник!
Стрелой помчался Пётр к спасительным возкам, к рейтарам и только на самой дороге остановился, чтобы вновь оглянуться и услышать это слово, которое он сам не смог перевести с русского на немецкий.
– Удавленник! – кричала женщина и потрясала своей суковатой палкой вслед императору.
Ошеломлённые услышанным, сгрудились у возка придворные и прятали глаза от царя.
– Удавленник! – ещё раз прокричала женщина и направилась к реденькому леску, чётко выделяющемуся на белом снегу.
– Кто такая, зачем здесь? – посиневшими не столько от мороза, сколько от внезапного страха губами едва выговорил Пётр.
– Юродивая, ваше величество, – подскочил Корф.
– Что она кричит? – требовательно заглянул Пётр в глаза Корфу.
– Да бог её знает, что она кричит, это нечто непереводимое, – нашёлся Корф и заторопил императора, – ваше величество, ветер, простынете...
– Нет, ты скажи, что она кричит? – с таким вопросом завертелся Пётр, заглядывая в глаза каждому из сопровождавших его.
Но все притворялись, что не слышали, не понимают, старались чем-то занять себя, чтобы уйти от ответа на вопрос царя.
Пётр рассвирепел. Значит, что-то худое пророчила ему эта нищенка. Да как она посмела, да как они, все эти...
– Взять! – тонким срывающимся голосом завопил он.
– В железа, в железа, – кричал Пётр, брызгая слюной и согреваясь от внезапного приступа гнева. – В каземат, на гнилую солому, – кричал он всё ещё, хотя рейтары уже поскакали за юродивой.
– Как угодно, ваше величество, – осмелился сказать Корф севшим голосом и побежал выполнять приказание.
– Очистить город от этой нечисти, – бросил ему в спину Пётр бодрым, свежим голосом и вскочил в возок. – Почему они не сидят дома, возле печи, – раздражённо, ни к кому не обращаясь, всё ещё возбуждённо говорил Пётр.
– Ах, государь, – заклоунничал Лев Нарышкин, – был бы дом, а печь найдётся...
Вернулся Корф и затрусил на своей низкорослой лошадке рядом с возком императора.
– Я не позволю, чтобы бродяжили, – злился Пётр, пытаясь как-то сгладить впечатление от своего поведения, – и что ж такое наш генерал-полицмейстер, если он не может их приструнить, этих бродяг?
– Ах, ваше величество, на Руси всегда любили бродяжить, – пытался и Нарышкин вставить своё слово в речь царя, – и всегда бродяжили. Тут уж ничего не поделаешь, такова она, матушка-Русь.
– Да уж, действительно, это вам не Европа, – скривился Пётр. – Варварство, грязь, убогость, невежество, ничтожество...
Он ещё что-то бормотал себе под нос, но вскоре бешеная скачка лошадей, равномерное колыхание возка, и толчки, и тумаки из-за тряской дороги заставили Петра переключить своё внимание на другое. Он опять мрачно задумался, и спутники его уже не мешали императору перебирать свои мрачные мысли. Они знали, с похмелья император всегда немного нервный и злой, лучше не перечить ему, не встревать в его утренние думы...
Всю дальнейшую дорогу до пристани в возке никто не вымолвил ни слова.
Кавалькада с императором быстро удалялась, а в противоположном направлении ехали двое рейтар, между которыми покорно и молчаливо шла юродивая. Она не сопротивлялась, когда ей скрутили руки, когда заставили идти между двух всадников, державших её на верёвке.
Пётр шевельнулся и тихонько спросил у Волкова:
– Что она там такое кричала?
Толстый секретарь Тайной канцелярии императора тут же повернул светлое пятно лица к царю и уклонился от ответа так, как это делал всегда:
– Я далеко стоял, не расслышал...
Пётр раздражённо повернулся к Нарышкину:
– Тоже не слышал?
Лев Нарышкин понял, что хочешь не хочешь, а придётся перетолмачить слово императору:
– Почти непереводимо, государь, а по-немецки что же это может быть?
Он состроил смешную мину, знал, что Пётр всегда хохочет над его подвижной рожей. Но на этот раз царь даже не улыбнулся.
– Да кто их разберёт, что они болтают, эти бродяги, – наконец заговорил Нарышкин нарочито бодреньким тоном, – да тут ещё особенность, засоряют язык уличные слова, словом, если перевести на немецкий, словно бы затянули шею...
– Как-как? – бледнея, переспросил Пётр.
– Вы, ваше величество, надели себе на шею такую страну, взяли такую большую ношу, что, может быть, именно на это и намекала дура... И потом, юродивые всегда что-то бормочут, это как птичий щебет...
– Это не она ли призывала печь блины? – зло осведомился Пётр. – Перед смертью тётки?
Все смешались и замолчали. Тревожная, тягостная тишина повисла в возке, она нарушалась лишь мерным скрипом колёс да гулкими ударами копыт по дороге.
– Мне тоже кое-что докладывают, – резко бросил Пётр в тишину возка. Никто ему не ответил, и только Лев Нарышкин осмелился нарушить молчание:
– На то вы у нас царь-государь...
Пётр мрачно взглянул на остряка, и у того слова замерли в горле.
И снова тишина висела в возке до самой пристани.
Там их ждали... На тяжёлых зимних волнах, очистившихся ото льда, покачивался на воде белый императорский катер, рядом стукалась о его борт шестнадцативёсельная шлюпка.
Взмахнули вёслами дюжие гребцы, разлетелась по сторонам пенная дорожка, и пошёл катер по серой воде Невы, завивая позади бурливый шлейф пены.
Пётр сумрачно стоял на носу катера, смотрел на приближающиеся бастионы Шлиссельбургской крепости. Серые мрачные стены вздымались неприступно, башни зорко и зловеще высились над сизой гладью кое-где покрытого сплошным льдом Ладожского озера.
Пётр передёрнулся. Должно быть, не очень-то приятно сидеть взаперти посреди этого мрачного безлюдья. Ещё раз глянул он вдоль бурлящего колеса воды у борта катера.
Какая неприветливая страна, где ему по воле судеб пришлось стать императором, какая дикость и отсталость! И сразу в мозгу вспыхнуло – милая Голштиния, зелёные дубравы, ухоженность деревень, высокие чистые шпили кирок и соборов, ясное небо над чистеньким, милым, прекрасным уголком земли. Ах, зачем тётка вызвала его сюда, зачем ему эта дикая Россия, зачем ему это варварство, невежество и дикость, где первая встречная женщина тыкает ему в лицо тяжестью надетой на его шею сбруи. Полно, это ли сказала она? Удавленник, вот как она сказала. Это же от русского слова «сдавить, удавить»... И внезапно Пётр понял это слово. Внезапно пелена упала с глаз – она предрекла ему его судьбу...
Он едва не закачался и не упал за борт, удержавшись только за гибкий вырывающийся из рук канат, которым был опоясан катер. Так вот что за слово, а эти шуты гороховые, эти так называемые подданные! Как они обманывают его, как навязывают ему свою точку зрения. Значит, удавленник...
А что, очень может быть, что его удавят, чтобы очистить дорогу к трону другому. Кому? А вот хоть бы и тому, к которому он сейчас едет. Прав, прав, тысячу раз прав дорогой Фридрих, что советовал навестить этого узника...
Ах, Голштиния, увижу ли я тебя когда, твои прекрасные ухоженные леса, твои засеянные поля, твои замки и дворцы, твоих милых крестьян, трудолюбивых и покорных, приветливых и добрых.
«Увижу, увижу, – твёрдо решил про себя Пётр. – Вот пойду в поход на Данию, отстою своё маленькое и милое герцогство, приближу его к трону империи, озолочу людей, живущих на далёкой моей родине».
Всё здесь, в России, вызывает страх, неприязнь и раздражение, все здесь враги и завистники, все так и выжидают момента... Да, да, удавить его! Всё мрачно и дико, и спасает лишь хороший глоток шнапса, да крепкий запах табака из глиняной голштинской трубки, да вы, мои голштинские солдаты. Погодите ужо, заменю всю гвардию моими родными солдатами, послужу под руководством мудрого Фридриха, вы у меня вспомните, кого называли удавленником...
Такие неясные нечёткие мысли проносились в голове у Петра, стоящего на носу катера, летящего к мрачной замшелой крепости, к этому дальнему – двадцать седьмая вода на киселе – родственнику, томящемуся взаперти уже восемнадцать лет. Пётр опять вздрогнул, представив себя сидящим здесь, в этой дикой и мрачной крепости, без света и воздуха, без милых его сердцу голштинских зелёных дубрав, без весёлого разнотравья полей и лугов с бродящими по ним черно-пегими коровами.
И что-то похожее на сострадание шевельнулось в его душе. Какой он, этот Иоанн, император, коронованный на русское царство двухмесячным младенцем, этот выросший в темнице отрок. Кем же он приходится ему, сегодняшнему императору?
Пётр принялся вычислять. Если сам он внук Петра Великого, а Иоанн – правнук брата Петра, царя Ивана, то значит, они друг другу дядя и племянник? И вдруг его поразило – да ведь это же значит, что сидящий в крепости его племянник?
Он хотел было спросить у кого-нибудь из придворных, верно ли то, что пришло ему на ум, обернулся, но свита его шушукалась позади, и он с раздражением бросил даже думать об Иване.
Какого ещё чёрта, какой-то племянник... Нет, правильно советовал ему Фридрих покрепче сторожить этого фрукта. А вот он, ужо, его сейчас и увидит...
Вдруг Пётр усмехнулся. Нет, его дорогой Фридрих и не представляет себе всей дикости, темноты и невежества русского народа, не представляет подобострастия и низкопоклонства всех этих толпящихся у трона родовитых бояр, заглядывающих ему в лицо, ему, немцу до самых кончиков ногтей, унижающихся с восторгом, страхом и трепетом и в ожидании очередной подачки. Нет, он-то уже насмотрелся на всех этих продажных, рабски покорных господ. Принимать их серьёзно, в расчёт, и не приходится. Никто даже и не помыслит и не посмеет о таком, никто из них даже и пальцем не пошевелит ради чего-то, что не принесёт ему самому выгоды и богатства.
Единственный, кто ещё может как-то мстить ему, – это такая же немка, как он, его хитрая жена, ушлая бестия... Недаром Фридрих советует ему помириться с женой, держаться её советов. Только такая немка и может изобрести способы разделаться с ним, Петром.
Да нет, не посмеет. Немецкой женщине с детства внушают страх и покорность перед мужем, немецкая женщина не посмеет сделать ему что-нибудь дурное.
Но даже в этом случае он сумел обезопасить себя. Он, Пётр, знает все её тайные выходки, знает, что её любовник – Григорий Орлов, тупой и ничтожный солдафон. Этот большой простак под надёжным присмотром. Он, Пётр, приставил к Орлову надёжного человека: своего адъютанта Перфильева, и тот при нём безотлучно. Днём и ночью. Вместе пьют, вместе играют в карты, неразлучные друзья. И Перфильев ему каждый день доносит, что у Григория в голове – только карты, вино и женщины. Вот и все интересы Григория Орлова...
Катер подвалил к закрытым воротам крепости через канал, это была единственная дорога внутрь крепости.
На берегу, у запертых ворот, столпилась группа военных. Пётр окинул их скучающим взглядом. Вперёд выступил краснорожий комендант крепости Бередников. Военная шинель туго обтягивала его выпирающее брюхо, косица, заплетённая на прусский манер и ненапудренная, торчала над высоким воротником, как острая пика. Пётр прошёлся взглядом по фигуре коменданта, нелепой и кургузой, его так и подмывало гаркнуть во весь голос, что одет не по форме, неряшлив, найти незастёгнутую пуговицу и так и отхлестать по толстым, разлёгшимся по воротнику щекам бездельника, только и умеющего проедать казённые харчи.
Но он вовремя вспомнил, что он здесь – инкогнито. Никто не должен знать, что он, Пётр, самолично явился осмотреть камеру арестанта.
Исподтишка покосился он на разодетых, сверкающих золотом чинов свиты и довольно усмехнулся.
Никто не сможет узнать его в этой простой епанче и грубых армейских тупоносых сапогах.
Однако комендант, приняв свиток с печатями и наскоро прочитав его, взглянул на адъютанта Унгерна, подавшего ему царский указ о немедленном показе крепости, и самый низкий поклон отвесил именно ему, незаметному офицерику с красным носиком и крупными рябинами на белом длинном лице, и всё порывался поцеловать ему руку.
Пётр спрятал руку за спину и спрятался за спинами своих раззолоченных слуг. Однако довольно покусал обветренные губы и спрятал усмешку за скромным выражением лица.
Ржаво и зловеще заскрипели цепи, на которых поднималась герса, закрывающая проход каналом в крепость. Острые пики мрачной решётки нависли над головой. Пётр невольно поёжился, когда катер проходил над остриями решётки.
Ворота распахнулись, издавая простуженный стон потревоженных не вовремя чудищ. Пётр плотнее прижался к борту катера. Неприятное ощущение, когда в голову тебе смотрят острейшие пики подъёмной решётки, нависая зловеще и устрашающе. Вот-вот свалится на голову такая пика и пронзит насквозь.
«А что, подумал Пётр, – внезапно развеселясь, неплохая была бы казнь, если бы такой вот тяжеленной пикой – с размаху да по голове». Он уже развил эту мысль, представляя, как извивается тело человека, насаженное снизу на этот острый кол, потоками крови окрашивая суровую ледяную воду канала.
Но потом со вздохом вспомнил, что русские давным-давно изобрели для такой казни более дешёвый и удобный способ – сажали на кол. И с сожалением отметил, что казнь на герсе была бы дорогой и неудобной. Это ж сколько солдат надо держать и как высчитать, чтобы пика решётки упала прямо на голову. Только случайно можно попасть прямо в голову. И кроме того, думал он, человек сразу станет мёртвым и уже не почувствует прелести мук. Да, жаль, думал он, это где-нибудь в Европе такая мысль показалась бы изобретательной, могла бы там что-то значить, а здесь, в дикой России, и так достаточно варварских способов отнять жизнь у человека, и не просто, а в мучениях и пытках. Человека? Он опять усмехнулся. Это холопы-то – люди?
Катер пришвартовался к осклизлому боку подъёмного канала, солдаты быстро выскочили и стали по бокам трапа, подвинув его к самым ногам императора.
Пётр бросил взгляд по сторонам. Какая тесная она, эта крепостца, крохотная и мрачная. Стены серые, зловещие, бастионы-башни круто вздымаются вверх, тяжело и угрюмо. Справа – крохотный одноглавый собор с небольшим колоколом, слева в тяжёлых толстых стенах – кованые двери в казармы солдат.
Он ощупал взглядом Светличную башню – крепость в крепости, отделённую ещё одной стеной. Да, тут не очень-то развлечёшься, хотя эту поездку он задумывал как развлечение. Он не успел додумать свою мысль до конца, потому что нога его скользнула на просмолённом трапе и он едва не упал. Но его тут же подхватили крепкие руки, и он поднял глаза на матроса, поддержавшего его.
Матрос был светлый, алел румянцем во всё лицо, серые улыбчивые глаза прятались под нависшими светлыми бровями. Петра поразил вид солдата, и он развеселился. С такими никакая Дания не страшна, а им будет весело умирать за его Голштинию... Пока они шли по бесконечным каменным переходам и лестничкам, едва ли не согнувшись, Пётр старался держаться позади всех. Он зорко следил, чтобы не остаться одному, иметь впереди крепкую спину, а сзади – осторожные зоркие глаза и чтобы люди были свои – барон Унгерн, толстый Корф, подальше – Нарышкин. Он усмехнулся, услышав, как тяжело отдувается толстый Корф, взбираясь по узким лестницам, и злорадно думал, что нелегко нести такую тушу в узких и длинных переходах.
Комендант Бередников остановился наконец перед маленькой кованой дверью и вошёл в сени, небольшую прихожую, где стояли на часах двое дюжих часовых. Спеша и бурча, Бередников начал стаскивать замки и засовы с ещё одной небольшой, кованной из чистого железа двери, лязгая ключами и гремя замками.
Пётр, стоя позади свиты, одобрительно покачивал головой. Из такой двери можно выйти только при очень сильном желании, да и то одному вряд ли возможно справиться со всеми этими замками...
Позади других он вошёл в камеру узника. Свита расступилась, пропуская вперёд императора.
Каменный мешок – узок и длинен. Почти шесть метров в длину, три – в ширину, пополам перегорожен тесовой ширмой. Сводчатый потолок, побелённый простой извёсткой, нависал над камерой. Слева зеленели изразцами своды высокой печи. Топки здесь, в камере, не было – топили из сеней.
Вправо от ширмы, перед узким, как бойница, и низким окном, забранным толстой кованой решёткой и забрызганным чёрной краской, стоял крепкий тяжёлый дубовый стол, ничем не покрытый. На нём в простом жестяном шандале горели две свечи, узкие и длинные. Вдоль стола шла широкая тесовая лавка, прикрытая рогожей, на столе лежали толстые, в телячьих переплётах, с серебряными застёжками книги, древнего, старого письма, – все сплошь божественные: Часослов, Четьи-Минеи, молитвенники.
В камере не было никого.
Вся свита столпилась у входа, рассматривая это убогое, неказистое жильё. Бросали взгляды в угол, видный из-за перегородки, и тут же отводили – в полу виднелась дыра, прикрытая тяжёлой доской.
Тут же к стене прибит был жестяной небольшой умывальник с носиком и стояла деревянная бадья.
– Григорий, выдь, – постучал в тесовую стенку ширмы комендант. За ширмой завозились, скрипнули доски и послышались мягкие шаркающие шаги.
Перед свитой и императором предстал арестант, император Иоанн Шестой, безымянный узник, восемнадцать лет сидящий в этой темнице.
В тусклом свете свечей и едва пробивающегося из узкого окна дневного света предстал перед ними молодой человек в белой рубахе, видно только что надетой и ещё не обмятой, завязанной тесёмками у шеи. Поверх рубахи был наброшен старый зипун со сборками на плечах. Ноги в серых старых солдатских штанах сунуты в разношенные и обрезанные сверху сапоги. Голову узника прикрывал кусок чёрной материи...
– Пусть откроет лицо, – шепнул Пётр по-немецки рыжему, веснушчатому барону Унгерну, игравшему роль главы в этой маленькой экспедиции.
– Открой лицо, – передал Унгерн жавшемуся у дверей капитану Власьеву, сторожившему узника.
– Григорий, – несмело сказал Власьев, оробевший в присутствии гостей, – лицо открой, разрешаю...
Белая, почти прозрачная рука с тонкими длинными пальцами потянулась к материи и медленно-медленно, словно давалось это с трудом, стянула чёрную ткань с головы. Большие, навыкате, голубые глаза заморгали, с робостью и дикостью разглядывая гостей, бледное, почти прозрачное лицо вспыхнуло ярким румянцем и вновь залилось смертельной бледностью. Высокий лоб скрывали редкие белокурые волосы, слегка вьющиеся и подстриженные до плеч. И только яркие, красные, полные чувственные губы выделялись на этом мраморно-белом, почти прозрачном лице. Редким рыжеватым волосом зарос длинный белый округлый подбородок, да на короткой верхней губе пробивался рыжеватый пушок.
Иоанн стоял несмело, придерживаясь рукой за край стола и разглядывая гостей.
Как молния пронзила Петра дикая нелепая мысль – одно и то же лицо, словно бы он смотрел в зеркало. Только моложе, без кровинки в лице, да светлее волосы и более выпуклы, более ярки голубые глаза, серенькие и невзрачные у Петра. Переодеть этого узника в его императорскую одежду – и их нельзя будет отличить друг от друга.
Он исподтишка бросил взгляд на свою свиту. Заметил ли кто-нибудь это небывалое сходство? Пётр ещё более ссутулился, надвинул поглубже треуголку, которую так и не снял на входе, и отвернулся к стене. Нет, как будто никто ничего не заметил. Да и возможно ли...
От волнения у Петра вспотели ладони, и он старательно вытирал их о мундир, забыв, что должен хотя бы поговорить о чём-то с узником...
Корф между тем участливо расспрашивал арестанта, как с ним обходятся, спросил, узнал ли тот его? Узник тоскливо и дико качнул головой, просиял радостью узнавания, но тут же снова замкнулся в себе и тихонько, едва пробившимся юношеским баском сказал:
– Сижу, темно, душно, как в могиле. Солдаты шепчут, дым пускают, колдуют...
Он опустил глаза, опасаясь, что сказал не то, мучительно краснея, и поднёс белую, почти прозрачную руку к подбородку.
Всего через три месяца, в самую чёрную годину своей жизни, вспомнит Пётр это беломраморное лицо, эти выпуклые голубые глаза, эти полные, красные, чувственные губы и задрожит. Он станет бояться этого призрака. Заплачет горькими слезами и схватит чашу с вином, чтобы запить это страшное видение, этот неотвратимый призрак тоски, отчаяния и боли...
Но сейчас, глядя на это странное существо из другого мира, Пётр вдруг ощутил радость и упоение своей властью, своей свободой и возможностью распоряжаться судьбами других людей, этих раззолоченных вельмож. В тюремной темнице Иоанна Пётр ощутил свою силу и значение.
Корф расспрашивал узника, а тот, вздёргивая подбородок, отвечал ему, заикаясь и мучительно дичась, стесняясь людей.
– Он не знает по-немецки? – тихонько шепнул Пётр Унгерну, и тот удивлённо покосился на императора.
Похоже, Пётр думает, что в тюрьме полагаются бонны и учителя. И Пётр старательно стал подыскивать русские слова, чтобы хоть о чём-то спросить узника. Но русский он знал плохо, слова не находились, и Пётр так и промолчал во всё время свидания.
– Хорошо ли кормят в здешней крепости? – услышал он вопрос Корфа и злобно усмехнулся. Чтоб ещё и хорошо кормили...
– Сыт, – коротко ответил арестант и выразительно взглянул в сторону вытянувшихся в струнку капитана Власьева и поручика Чекина, своих мучителей и сторожей. Нет, он не станет их подводить. Те стояли бледные и трясущиеся, стараясь только, чтобы важные господа не заметили их боязни неосторожного слова узника.
– Читает? – нашёл наконец слово Пётр, кивнув на лежащие на столе книги.
– Божественное, – отрывисто отозвался капитан Власьев, отдавая честь на прусский манер.
Петру это понравилось. Такая глушь, такая древняя крепость, а вот, надо же, честь отдаёт на прусский манер.
Пётр и не подозревал, как долго учили солдат в крепости новой манере.
Ещё раз огляделся кругом Пётр, запомнил все детали этой скудно обставленной мышиной норы, чтобы подробно описать своему любимому другу и наставнику Фридриху.
«И этот-то может мне угрожать», – с презрением подумал он и уже хотел оборвать визит, как на ум ему пришли русские слова – как твоё имя...
– Как твоё имя? – обратился он к узнику.
Узник ещё больше побледнел, хотя, казалось бы, больше было некуда, выпрямился и не заикаясь, глядя прямо в глаза Петру, сказал тихо и внятно:
– Иоанн, император всероссийский, венчан на царство в два месяца от роду. Корону захватили мою, меня в каземат, свободы лишили, отцова наследства...
Казалось, что все силы его ушли на эти твёрдые и простые слова, ноги его подогнулись, и он упал навзничь, ударившись головой об угол стола.
Петра будто бросило к двери.
– Полно врать-то, – закричал побелевший капитан Власьев, – вот ведь врёт, – засуетился он перед гостями, – да что с него взять, ни разума, ни смысла человеческого... То ещё ложкой в обеде замахивается, то кричит, то чуть рукав от тулупа не оторвал...