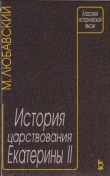Текст книги "Украденный трон"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Ещё три дня назад Савин послал своих солдат к коменданту Шлиссельбурга Бередникову с просьбой прислать галиот. Они шли посуху, дорога не близкая – примерно тридцать вёрст, и Савин по нескольку раз на день выходил на берег, чтобы увидеть долгожданный галиот или хоть какой-никакой доншкоут...
Для узника эти три дня стали удивительным праздником. Он видел небо, он видел траву, солнце выглядывало за эти три дня не один раз, и он радовался как ребёнок неярким лучам почти негреющего солнца, и яркой зелени травы, и мычащей скотине во дворе, не огороженной ничем, и этим сетям, висящим на высоких кольях...
Ясным вечером седьмого июля из-за прибрежных камней сверкнул на солнце косой парус одномачтового вольного галиота, и Савин распорядился срочно готовиться к посадке на судно.
Иоанну опять завязали лицо и, твёрдо держа его между двоих солдат, повели к берегу. Он не видел ничего, но вдыхал вольный свежий ветер, ощущал солнечное тепло сквозь черноту тряпки, закрывавшей лицо, слышал под ногами хруст песка и мелких камешков, потом гибкую пружинистость небольшого трапа и опять равномерное покачивание дерева под ногами. На этот раз его свели в небольшой трюм, где не было никаких окошек или иного какого отверстия для воздуха и света, и несколько дней он просидел почти в полной темноте, только ощущая покачивание пола под ногами да шуршание воды по бортам.
Иоанн прикладывал ухо к деревянной стенке, слушал переливчатое скольжение воды за бортом, ощущал ритмическое и совсем не такое, как на лодке, покачивание на волнах.
В трюме валялась подстилка, где он мог вытянуться во весь рост, мог лежать и чувствовать, как вода обтекает его со всех сторон, слева, справа, снизу, и представлял себе глубину и ширину течения, его цвет и белые буруны, завивающиеся за судном. Он не видел галиота, он только ощущал, что судно большое, достаточно вместительное и людей на нём много. Голоса глухо достигали трюма, и он вслушивался в неясный говор.
Качка уже не вызывала у него приступов тошноты, он освоился со своим тёмным жилищем, и только крысы пугали его, скользя мимо ног в темноте и слегка попискивая.
По тому, как стала сильнее качка и как кидало его от одного конца трюма в другой, он понял, что опять начался сильный ветер и, наверное, дождь, а по тому шороху, с которым обтекала вода днище, он чувствовал, что судно замерло на месте, и его качает длинная косая волна. Скрежетали цепи якоря, гремели команды, кричали матросы, а он слушал снизу весь этот шум и гам, различал удары волн по стенкам трюма и боялся, что его так и оставят в темноте, опускающейся на дно.
Ему приносили еду, водили на палубу, опять-таки закрыв лицо, для исполнения нужды, и он слепо поводил головой в стороны, чтобы понюхать ветер, ощутить удары брызг, прикоснуться рукой к шершавой поверхности мачты...
Галиот стоял на якоре почти два дня. И по грому заржавелых цепей якоря, по начавшемуся быстрому шуршанию воды за бортом он понял, что судно продолжило свой путь.
Всё плавание заняло почти десять дней, и все эти дни Иоанн был спокоен, весел и возбуждён, как был бы весел в его возрасте всякий любитель приключений. Для него это стало незабываемой страницей в его биографии.
В Кексгольме ему удалось краешком глаза увидеть старую полуразрушенную крепость с мощными ещё стенами и башнями, хотя от причала его с завязанным лицом везли в коляске. Но он уже научился воспринимать все внешние раздражители, распознавая их руками, носом, ушами, иногда находя крохотную дырочку в чёрной тряпке, туго обтягивающей его лицо.
Дом, в который его поместили, Иоанн полюбил от всей души. Второй этаж, куда его втолкнули, выстроенный из целых брёвен, был залит белизной и светом, и хотя Савин распорядился забрать окна тяжёлыми толстыми решётками, а самый дом обнести высоким забором, всё равно здесь видно было небо, облака, плывущие по нему, дальний лес, окутанный зелёной листвой, и поле с яркой северной молодой травой и пестревшее скромными цветами.
Как он полюбил эти высокие заросли иван-чая, малиновыми столбами стоящие вдоль дороги, заносы пушицы на болоте, словно инеем покрывшие нежную болотную зелень, услышал крики птиц, в короткое северное лето спешащих вывести птенцов.
Это было самое счастливое время его жизни. Он так надеялся, что больше никогда не услышит грубых голосов Власьева и Чекина, их насмешек и издевательств. Новые люди отличались терпением и доброжелательством к арестанту...
Но ему пришлось пробыть здесь всего два месяца. Кончилось короткое северное лето, и безымянного арестанта снова повезли в Шлиссельбург. Очищенные для Петра покои безымянного арестанта не потребовались. 14 августа в четыре часа утра Иоанна привезли в Мурзинку. Здесь его ждала встреча с Екатериной, российской императрицей...
Глава V
Что ей вздумалось ехать в церковь Смоленской Божьей Матери? Знала, что достроили, знала, что будет первое богослужение, но знала и то, что двор царский вряд ли будет. Далеко от Невской першпективы, почти на самой окраине города, далеко от дворцов и богатых усадеб. Здесь жила нищета, ремесленники, рабочие, бедный люд, голытьба. Строили церковь долго, каждая копеечка шла в дело, помогали все чем могли. Больше собирали по грошу бедняки, жестяная банка с дыркой, висящая на воротах, никогда не бывала пуста. Даже нищие лишнего «царя на коне» – копейку – бросали в банку.
Церковка поднялась на загляденье. Бедные купола её не сверкали золотом и медью, были просто окрашены в нестерпимо голубой цвет, но золотой небольшой крест увенчивал главный купол, а белая колокольня вздымалась ввысь на три перехода, и колокола её блестели медными переливами.
Что вдруг ей, Екатерине Романовне Дашковой, взбрендило ехать в такую даль, когда после всего пережитого и начавшихся неприятностей на неё налетели боли в левой руке и ноге, ещё недавно, во время зимних холодов отнявшихся было, но потом начавших действовать под напором сильных кровопусканий и растираний народными средствами – травами и настоями.
Она знала, что князя Михайлы не будет до позднего вечера, да и вообще вернётся ли в эту ночь домой – неизвестно. Его назначили подполковником лейб-кирасирского полка, полковником в котором числилась сама Екатерина, императрица. Романовна с тоской думала о том, какие всё это вызовет расходы. Князь Михайла денег не жалел на обустройство своё и всего полка, а казна пуста, императрица денег гвардии не давала.
И Романовна знала: взять неоткуда, и так уж заграничной армии не платили жалованья восемь месяцев.
А тут кавалерия – значит, надо справлять полную подполковничью форму – летнюю и зимнюю походную, парадную, полную парадную для пешего и конного строя, бальную, шинель обыкновенную и парадную, двух лошадей хороших кровей...
Она прикидывала, где взять денег. Назначение её самой статс-дамой, первой фрейлиной двора её императорского величества, тоже требовало денег – наряды бальные, наряды на выход императрицы, украшения, драгоценности.
Но о себе она всегда думала в последнюю очередь. А вот князю Михайле всё это требовалось быстро. Он, как примерный сын, отдал после смерти отца всё управление подмосковными имениями своей матери, а сам получил от неё достаточную сумму, чтобы только содержать дом, но не блистать на парадах и балах.
Она усмехнулась, вспомнив, как смеялась над богатейшей семьёй Александра Ивановича Шувалова, несметным богатствам которого завидовали все, не только она сама. Вспомнила, что шила его жена платья на целое полотнище уже, чем полагалось, тратилась только на самые простые материи, а уж серьги с бриллиантами и вовсе не носила. Дочек своих тоже одевала кое-как.
Тогда она смеялась, а теперь сама задумалась, сколько же это стоит – жить при дворе, блистать в обществе. Ну там, ладно, Шувалова всё делала от скупости, от жадности, от алчной надежды ещё больше прибрать к рукам, вызывая жалость своим бедным нарядом. А тут...
И действительно, чего её потащило в Смоленскую церковь? Она отстояла всю долгую службу, вдоволь наглоталась ладанного дыма, и голова её кружилась, когда она вышла на новенькую паперть, где уже собралось несметное количество нищих. Романовна, как всегда, взяла с собой небольшой мешочек с медными денежками и для приличия одарила нескольких калек, сидевших у самого входа.
И внезапно остановилась перед красивой статной женщиной, сидевшей на приступке паперти. Женщина не кланялась, не бормотала просительные слова, не протягивала белую твёрдую руку за милостыней. Она словно бы задумалась о чём-то своём, голубые большие глаза с тёмными ресницами смотрели в какую-то одной ей ведомую даль. Зелёная юбка её свободно лежала на ступенях, красная кофта, прорванная в нескольких местах, небрежно свисала с плеча. Длинная суковатая палка лежала у её ног. Ни мешка, ни нищенской сумы, ни даже карманов не было у этой женщины, сидевшей в толпе нищих и калек как у себя дома.
Княгиня остановилась перед юродивой, она уже поняла, что это Ксения, и протянула ей копейку.
Юродивая не подняла на неё глаза, не взяла копейку. Словно и не заметила богатую боярыню, стоявшую перед ней в богатой голубой мантилье и капоре, отороченном мехом.
Княгиня наклонилась к юродивой и сказала:
– Вымолви словечко...
Ксения подняла глаза, но посмотрела вроде бы сквозь княгиню и пробормотала сквозь зубы:
– Загляни в сердце своё, вспомни царя Саула...
Княгиня отшатнулась от юродивой, бросила под ноги медную копейку, которую тут же подобрал кто-то из толпы нищих, и поспешила к карете...
Всю дорогу она мучительно рылась в памяти – кто же такой царь Саул? И откуда это? И где можно узнать об этом царе Сауле и почему она должна заглядывать в своё сердце?
Слова юродивой запали в её душу, врезались так, как будто их начертили на камне.
Суета и домашние заботы отвлекли её от дум, но, лёжа в постели, она вспомнила слова о Сауле и принялась спрашивать о нём у старой няньки, спавшей у её ног. Но та ничего о Сауле не знала и только посоветовала заглянуть в Псалтырь или Четьи-Минеи либо ещё в какие жития святых. Должно быть, блаженная толкнула её поискать о Сауле в святых книгах. Княгиня не поленилась встать с постели, пойти в комнату, где складывала книги. Она перебирала их. Много романов, труды Монтескьё и Бейля, мемуары, много французской литературы. Отдельно лежали тоненькие книжицы житий святых, толстая Библия на французском, привезённая ещё дедом Воронцовым из Парижа.
Не думая, взяла она большую книгу в толстом телячьем переплёте с серебряными застёжками и открыла её. И взгляд её выхватил среди витиеватого шрифта книги это имя – Саул.
Она подивилась, как быстро нашла место, хотя оно в середине большущей книги, и принялась читать историю о воцарении Саула, о его ревности и зависти к Давиду. Далеко за полночь она вернулась в опочивальню и до самого рассвета ворочалась, снова и снова перебирая в уме библейскую историю. О чём же толковала эта невежественная женщина, на что намекала старинной историей, не имеющей к ней, княгине Дашковой, никакого отношения...
Царь Саул стал первым царём израильтян. Он был так хорош, и никого не было прекраснее его среди всего народа. От плеч своих он был выше всего народа. Всё ему дал Бог: красоту, силу, здоровье, власть над народом. А вот поди ж ты, позавидовал он Давиду, простому пастуху, победившему Голиафа, убившему филистимлянского великана камнем из пращи. Народ кричал – царь Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. И тяжёлая злоба, и ревность, и зависть поднялась в Сауле, и искал он случая убить Давида. Непроходимая пропасть легла между ними, но в конце концов Давид одолел Саула. Кто знает, как сложилась бы эта история, не поселись в сердце Саула зависть к простому пастуху...
Княгиня долго вертела в уме эту старинную библейскую историю, так и так прикладывая её к своей жизни. И представила себя Давидом, а Саулом сделала Екатерину, императрицу. И обрадовалась – слишком уж всё сходилось. Екатерина стала императрицей, но завидовала ей, простой княгине, потому и лишила её своей милости... Но тут она с горечью поняла, что не лишена ни царского великодушия, ни царских милостей – она и статс-дама, и награждена поместьями и деньгами, и орден у неё, и мужа её поставили высшим начальником над самым отборным в царском дворце полком... Нет, тут не подходило это сравнение...
Она ворочалась и ворочалась, и вдруг на ум пришло простое объяснение – уж не она ли Саул, который позавидовал простому пастуху – простому поручику Орлову?
Она даже села в постели от такой неожиданной мысли. Перебирая все эти встречи, отношения, слова, сказанные Орлову и о Григории Орлове, она поняла, да, она ему позавидовала. Она, родовитая княгиня, имеющая всё, что только её душе угодно, она ему позавидовала, возревновала его к Екатерине. Он больше в чести, ему сыплются царские милости, подарки, чины, теперь он уже граф Римской империи...
Так вот что значит заглянуть в своё сердце. Так вот о чём толковала юродивая. Неужели она могла угадать, как зависть и злоба на Орлова всё дальше и дальше разводят её с Екатериной, бывшей подругой. Княгиня вспомнила все свои слова, высокомерное и презрительное отношение к Орлову, а заодно и к Екатерине. Как же она не поняла этого раньше, как же она могла дожидаться, пока необразованная, грязная баба, невежественная и неумная, лишившаяся последних проблесков разума, скажет ей такие слова.
Пропасть, вырытую её завистью, теперь уже не засыплешь. Далеко по обе стороны стоят она и этот человек, может быть решительный и отважный в нужную минуту, но такой грубый и примитивный в своих желаниях и помыслах...
Она вспомнила, как сказала императрице высокомерные и ненужные в эту минуту слова:
– Эта смерть случилась слишком рано для вашей и моей славы...
Тогда она приехала во дворец и нашла Екатерину печальной и задумчивой. Императрицу поразила и взволновала смерть Петра Третьего, слишком ранняя, чтобы быть естественной.
Екатерина странно и недоверчиво взглянула на княгиню, и той стало неловко от своих слов. И теперь она каялась, кляла себя за то, что могла выговорить подобные слова, упрекнуть императрицу в этой смерти и причислить себя к её всемогуществу...
Зависть и злоба – смотрела и смотрела в глубину своей души княгиня, и металась, и металась на подушках. Как она могла, как она, такая образованная, такая начитанная, как она могла позволить поселиться в своём сердце зависти и злости, как она собственными руками вырыла такую непроходимую пропасть между собою и этими офицерами, теперь ставшими для неё непримиримыми врагами. Да, но ведь она так много сделала для Екатерины, она много потрудилась, чтобы доставить ей трон, власть, империю...
И снова княгиня оборвала себя. А так ли уж много? Ведь если признаться честно, весь переворот построен на случайностях. Ещё за день до него заговорщики считали, что до него ещё многие месяцы. Ничего не было готово, только разговоры и туманные разглагольствования да сочувствие Екатерине. Нет, слишком много случайностей, слишком много совпадений, а не значит ли это, что Провидение, как любит говорить Екатерина, сделало за них всю основную работу?
Княгиня словно упала с небес на землю. Никогда ещё не доводилось ей так изнурять и мучить себя мыслями, никогда ещё небыли они такими колючими, словно острые шипы, вонзающиеся в мозг...
Она вертелась в пуховиках, снова и снова перебирая в уме одни и те же мысли. Она ненавидела себя, проклинала. Заглянув в свою душу, она призналась себе во всех своих помыслах и открыла, что не чистая забота об отечестве двигала её действиями, что тут примешалось и много личных корыстных интересов, и тщеславия, и гордыни...
Она не выдержала, вскочила в темноте затянутой шторами комнаты и бросилась на колени перед иконой. Она молча стояла, ни о чём не молясь, качала головой из стороны в сторону и кляла себя, разглядывая в свете нового зрения свою душу, которую она считала чистейшей...
Уснула она тяжёлым сном, как будто носила на спине кирпичи, руки и ноги её стали тяжелы и словно покрыты синяками, как будто её избивали плетьми. Она открыла для себя свою собственную душу и была не рада, что заглянула туда...
Наутро она усмехнулась ночным баталиям с самой собой и отбросила прочь всё. Мало ли о чём могут бредить юродивые? Это уж наше дело приспособить их слова к нашей жизни и к нашей душе. Она решила напрочь забыть юродивую с её странными словами. Но они горели в её памяти, и избавиться от них не было никакой возможности.
Княгиня с головой погрузилась в домашние заботы и хлопоты и понемногу отошла от тяжёлых дум. А вечером, ложась спать, выпила рюмку ликёра, чтобы уснуть поскорее и не отдаваться во власть мыслей. Она решила более этого не допускать.
Однако ночь эта осталась в её памяти стыдным воспоминанием. И ей приходилось тратить немало усилий, чтобы выбросить весь этот бред, как она говорила, из своей головы.
Князю Михайле и невдомёк все её мысли. Она ничего ему не рассказывала. Она знала, он просто не поймёт её и посмеётся. Впервые она взглянула на него глазами не влюблённой женщины, а как бы со стороны и увидела, что её муж – копия Орлова. Так же красив, высок – в гвардию отбирали высоких и рослых, красивых людей. Но в своей жизни вряд ли он прочитал хоть две книжки. Все его интересы сосредоточивались вокруг забот по полку – красивых мундиров, хороших лошадей, весёлой пирушки с друзьями и соратниками по военному делу, с картами, в которые он азартно и еженощно проигрывал тысячи. А заботы о благе семьи он предоставлял ей, жене...
Она посмотрела на него трезвыми глазами и ужаснулась. И она ещё посмела упрекать в душе государыню за её выбор? Разве Орлов не хорош собой, как Аполлон, разве не вились его красивые белокурые волосы, разве не алы его полные чувственные губы, разве разворот его плечей не размашист и прекрасен?
Она снова и снова сравнивала своего мужа с Орловым и видела, что в сущности они одного поля ягода, ну может быть, манеры у князя Дашкова поизящнее, да хорош французский выговор. А так – что тот, что другой – оба невежды и ни в чём не могут помочь, посоветовать...
Странно, думала она с глубокой печалью. Если бы не юродивая, разве могла бы она подвергнуть свою жизнь такой суровой и жестокой оценке?
Но двадцать лет взяли своё. Княгиня отмахнулась от нахлынувших мыслей и страшного подозрения, что её избранник вовсе не так хорош, как она предполагала, когда выходила за него замуж.
Надо собираться на очередной раут, где её ждало блестящее общество и где в тот же вечер она опять жаловалась всем на то, что ничего не выиграла от революции, от переворота, в котором была одним из главных действующих лиц. И ловила себя на этих словах, и всё равно не могла удержаться.
Дома, уже поутру, валясь с ног от усталости, она снова приложилась к рюмке ликёра.
Сны её стали тяжёлыми. Даже во сне она отчаянно сопротивлялась трезвым думам. Днём её душили дела и заботы, времени думать не оставалось, и она была рада, что нет времени. А ночь она старалась пережить, как переживают страшное приключение.
Глава VI
Возвратившись в Россию вместе с ненужными теперь в Пруссии войсками, Василий Мирович попал в круг тех же забот, что волновали его до отбытия в заграничную армию. Там, в Берлине, он вроде бы приободрился. Там кормился он неплохо – пруссаки выплачивали контрибуцию и старались не раздражать русских, гордо расхаживавших по Берлину. Там он жил в хороших домах, служил адъютантом у самого графа Петра Ивановича Панина. Даже думал жениться на какой-нибудь богатой и привлекательной немочке.
Однако срочный приказ о возвращении нарушил все его планы. Да и где бы мог он познакомиться с богатой и красивой немкой, если всё его окружение составляли офицеры, которых он не любил и смотрел на них свысока, причисляя себя к родовитым и некогда богатейшим малороссийским панам, а те, кто побогаче да познатнее, и сами смотрели на Мировича так же. Кроме того, и службу свою он исполнял плохо – знаний у него никаких не было, муштру солдатскую он ненавидел, выправкой пренебрегал. Тщеславие и воспоминания о прежнем величии Мировичей гвоздём засели у него в голове. А бедность, нищета, оскорблённое самолюбие теснили его душу.
Но в Берлине он мог по крайней мере быть сытым и свободным от мелочных забот: сшить новую епанчу, починить сапоги, обновить мундир. Теперь об этом приходилось думать. Мать снова и снова напоминала ему в своих письмах о том, что сёстры едва не голодают, и поскольку он старший и единственный сын, то должен думать о матери, живущей у родственников из милости, быть скромнее в своих расходах и уделять хоть малую толику им, беспомощным и нищим. Получив очередное такое письмо, Василий злился, давая обеты Чудотворцу Николаю не курить табака и не пить водки, а также не творить дьявольских танцев.
Но это помогало мало. Снова надо было искать сапожника, который починил бы сапоги в долг, искать купца, у которого можно в кредит набирать провизии и кормить себя и приставленного к нему солдата, искать приятелей, у которых можно одолжиться. Но таких мало, и Мирович грыз ногти по утрам и вечерам, собираясь на службу или приходя из караула.
Злобе его не было конца – мелочные и будничные заботы одолевали, делали его раздражительным. И часто срывался он на бедном солдате, приставленном к нему денщиком.
Несколько раз Мирович заходил к Петру Ивановичу Панину. Тот теперь вошёл в большую честь, сделался сенатором, и Мировичу казалось – он может помочь с его прошением о возврате конфискованных имений в Малороссии. Прошение Василий составил, как ему казалось, очень умно – ничего не говоря о деде, бежавшем вместе с Мазепою в Польшу, но зато расхваливал заслуги бунчужного генерального Фёдора Мировича, своего дяди, и толковал о неправильной конфискации имений бабушки Пелагеи Захарьевны.
Пётр Иванович Панин снимал в то время дом у Дашковой. Входы в их покои были отдельные, и Дашкова не могла видеть посетителей, бывавших в приёмной генерала. Однако, садясь в карету однажды утром, она мельком увидела бледное лицо и горящие чёрные глаза Мировича, и, хотя не запомнила его, однако, это дало потом повод рассматривать её как участницу бунта Василия Мировича.
Мирович злобился. Он без толку ходил к Панину. Панин, грузный пожилой человек, сам весь отягощённый заботами, хотел, однако, помочь нищему офицеру и отправил прошение Мировича Теплову, теперь секретарю новой императрицы.
Тёплое доложил о челобитной Мировича императрице. Она спросила, какую резолюцию наложила Елизавета. Оказалось, что той были хорошо известны изменничьи дети Мировичи и делу их не только не дала хода, но даже написала, что изменничьим детям нечего оспаривать права у казны.
Екатерина отослала челобитную Мировича в Сенат на рассмотрение – уже второе прошение Мировича. Первое она прочитала и написала на полях: «По прописанному здесь просители права не имеют и для того Сенату надлежит отказать им». Вторая челобитная также была надписана: «Довольствоваться прежнею резолюцией)». Русское правительство не забыло и не простило Мировичам измены Петру Первому.
Добираться до квартиры генерала Панина Мировичу стало нелегко – после Берлина его перевели в Смоленский полк, расквартированный в Шлиссельбургском форштадте – пригородной слободке, предместье Санкт-Петербурга, в нескольких десятках вёрст от столицы. И каждый раз Мировичу приходилось то просить лошадей у полковника Смоленского полка, то отправляться в Санкт-Петербург с какой-либо оказией. Своего экипажа у него отродясь не бывало, как и приличного мундира. Казна жалованья не выдавала давно и не на что стало кормиться.
От всех этих забот голова у Василия шла кругом. Молодой человек, двадцати двух лет от роду, мечтая о богатстве и славе мировичского рода, Василий видел кругом себя не только нищету, жалкость обстановки убогой лачуги, где он нанимал за гроши квартиру, он видел так же, как разъезжали в каретах цугом вчера ещё незаметные офицеры, которых никто не знал до переворота. Он жалел, что его не было в столице до переворота, он жаждал принять в нём участие. Вот тогда посыпались бы на него деньги, слава, чины и звания, как сыпались они на безвестных офицеров, возведших на престол Екатерину. Каждый день приносил новости о возвышении прежних ничтожных людей. Поручик Григорий Орлов стал графом Римской империи, Рославлевы, Пассек получили чины и награды. Императрица никого не забыла, обо всех позаботилась.
Он грыз ногти и неотступно думал о том, как обходит его судьба, не указывает дорожки к тому, чего он жаждал больше всего на свете – благодатных и плодоносных имений в Малороссии, где яблоки растут на каждом дереве, а на берёзах висят калачики...
К службе своей Мирович относился неохотно – это же сколько лет надо прослужить, чтобы хоть чего-то добиться. Ему нужно всё, и теперь же, а не потом, в отдалённом будущем. Он и не пытался продвигаться по службе, не думал снискать покровительство старших по чинам. Он думал только о тех словах, что сказал ему его земляк, хитрый хохол Разумовский: «Хватай фортуну за чуб, и сам станешь паном». А как её ухватишь, если нет ничего: ни денег, ни связей, ни знаний. Даже немецкий язык он, бывши за границей, в самом Берлине, не смог освоить – не давалась ему наука, сколько он ни старался.
И он опять раздражался на отца – оставил его в бедноте, умер зарезанным в пьяной драке, вовсе не долго прослужив воеводою в Сибири. А ведь мог бы там сколотить состояние...
С офицерами своего полка Мирович не смог сойтись поближе, относился к ним свысока, презрительно. Он считал себя выше и знатнее. Разночинцы, своим трудом и честной службой завоевавшие положение, раздражали его. Ему надо было всё теперь, сейчас, или не надо уж ничего...
Его назначили в караул в Шлиссельбургскую крепость. «Тоже служба, – презрительно кривил губы Мирович. – Неделю стой в карауле в крепости, где и охранять-то нечего. Нешто полезет кто теперь сюда, когда выход открыт в Балтийское море. Кому понадобится заходить с Ладоги на Россию? И крепость теперь уж вовсе не крепость как бы, так, для отвода глаз, старая, древняя, когда-то твердыня, а теперь ради старых времён наряжают сюда караул, просто по традиции...»
В первый же раз, как он получил десяток солдат под свою команду с приказом стоять в карауле неделю, Мирович осмотрел крепость, нашёл её очень маленькою, убогою, хотя и закрывающую вход в Неву со стороны Ладожского озера.
Но кое-что странное заинтересовало его. В самой крепости как бы ещё одна крепость. Там несменяемая команда, с которой нельзя и сообщаться. Цитадель в цитадели. Подивился Мирович, и на том все его наблюдения закончились. Он отбывал свой караул в крепости как наказание, томился в ожидании, когда закончится неделя, ходил по казематам, прохаживался берегом Невы.
Скучно и уныло, если бы ещё не обеды и ужины у коменданта крепости, весёлого и гостеприимного Бередникова. У него иногда собирались и именитые гости, бывали люди из высшего общества. Но в таких случаях Мирович всегда скучал в уголке, стыдясь своих зачиненных сапог и изношенного мундира.
Сереньким октябрьским днём Мирович проверял посты у ворот, обходил от скуки башенные караулы. Зашёл и в кордегардию, узкую комнату в крепостной стене, и увидел на дощатом некрашеном столе полуштоф с наливкой и немудрящую снедь – капусту в деревянной миске, огурцы. Строго оглядел отдыхавших от службы солдат – без малого десяток. Все они сидели вокруг стола. При виде Мировича солдаты вскочили, и дневальный бойко отрапортовал, что солдаты отдыхают и все в казарме.
Мирович недовольно оглядел стол.
– По какому случаю? – строго спросил он, кивая на закуски.
– Барабанщик в отставку уходит, угощение выставил, – опять бойко отрапортовал дневальный.
Мирович строго кивнул, мол, продолжайте.
– Не побрезгуйте, ваше благородие, – пригласил и Мировича к столу барабанщик, крепкий седоволосый солдат, пьяно добрый и радушный.
Мирович от скуки присел за стол, хватил рюмку, поковырялся в капусте и отправился из кордегардии.
Вслед за ним вышел и барабанщик.
– Рад небось? – добродушно спросил его Мирович.
– Уж как рад, – радостно ответил барабанщик. – Поеду теперь домой, в деревеньку свою, мужицкую нужду справлять.
– Не жалеешь, что в отставку?
– А чего жалеть? Кабы в походе, кабы война, а то сиди тут да стереги бывшего царя...
Он спохватился, оглянулся. Но рядом никого не было.
Мирович насторожился.
– Как это бывшего царя? – исподлобья глянул он на барабанщика.
– Уж вы меня не выдавайте, вашество, – забеспокоился барабанщик. – Секрет это великий, а меня чёрт дёрнул за язык...
– Погоди, погоди. – Мирович уселся на ступеньках возле кордегардии и усадил рядом барабанщика. – Начал уж, так говори, – бросил он.
– А что ж тут говорить, – отозвался барабанщик, завёртывая самокрутку. – Тут Иван-царь содержится. Небось и не знали, что стерегёте его.
– Не знал, – отозвался Мирович. – Это в каземате том, что от крепости остальной отгорожен?
– Там, там. Сидит, сердечный, без свету, без воздуху. Вывозили его в Кексгольм, да обратно привезли. А лица его никто не видел и видеть не должен, а только сидит он здесь уж с десяток, чай, лет. Так и возрос в темнице...
– Ладно, не болтай, – строго прервал Мирович, – небось секрет доверили, а ты с радости и проболтался...
– Я уеду, а уж вы меня не выдавайте, – запросил барабанщик. – Чай, вам ни к чему знать...
– Ни к чему, – согласился Мирович и поскорей оставил барабанщика.
Он вошёл в свою каморку при кордегардии и улёгся на жёсткий тюфяк, набитый соломой.
Вот так новость, вот это гром среди ясного неба. Он здесь на карауле стоит почти год, а и не знал, что за птица тут содержится...
Открытие это не давало ему спать всю ночь. Он ещё не понимал, нужная ему или ненужная весть, но смутно сознавал, что это может перевернуть всю его жизнь.
Император Иоанн, так ведь это тот, что был помазан на царство после кончины императрицы Анны Иоанновны, сын её племянницы, свергнутый Елизаветой. Значит, царица его пощадила, только посадила в тюрьму. И догляд за ним строгий. А что, если...
Он вдруг вспомнил все подробности переворота, возведшего на престол Екатерину. Провозгласили же её. Привезли в столицу, показали солдатам, они все присягнули, и вот, пожалуйста, новая царица. Снова и снова всплывали подробности, рассказанные ему в казарме, на пирушках, в кругу офицеров... Сердце защемило сладко и больно. Может, это и есть случай, когда надо хватать судьбу за чуб и стать паном, как советовал Разумовский? Погоди, погоди, надо освоиться с этой мыслью, надо всё обдумать.