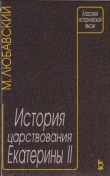Текст книги "Украденный трон"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Глава XI
Внук изменника, бежавшего вместе с Мазепой, терпел меж тем страшную нужду...
Денег не хватало для оплаты нищенской квартиры в пригороде Шлиссельбурга, которую он снимал у бедной вдовы, на хороший мундир, который полагалось покупать за свои кровные, экипаж, даже сапоги... После заграницы Мирович обносился и больше похож стал на обтрёпанного новобранца, нежели на офицера от инфантерии. Много раз заходил он к графу Петру Ивановичу Панину, брату всесильного воспитателя наследника престола, умолял его продвинуть дело в Сенате.
Панин тянул, не решаясь полным отказом вогнать в отчаяние молодого сумрачного офицера. Панин видел нужду и бедность Мировича.
Окончательная резолюция императрицы на прошение вернуть хотя бы часть малороссийских поместий ввергла Мировича в тоску и скуку.
Со злобой и завистью оглядывал он пышные экипажи своих сотоварищей, их блестящие мундиры и золотые аксельбанты и ни с кем из них не сходился. Курить и пить водку он себе запретил давно, ещё до отъезда в Берлин. Дал обет выстроить церковь Николаю Чудотворцу, если вернёт хотя б часть поместий, не играл в карты, когда все его сослуживцы только этим и занимались в свободное от караулов время. Постничал, становился всё более и более сумрачен и зол.
Его, подпоручика, не пускали во дворец императрицы. Он становился заносчив и дерзок, когда к нему относились как к любому из офицеров разночинцев... Никакого выхода впереди он не видел. С трудом сводил концы с концами на своё нищенское жалованье подпоручика, едва мог позволить себе в неделю хотя бы раз щи с мясом, а в остальное – кашу да чай. Он перебирал и перебирал в уме все известные способы обогащения, искал выход из бедности и нищеты, из своего униженного положения и ничего не мог придумать.
Мало-помалу мысль о Иване Антоновиче заполнила целиком его разум. Только в одном этом видел он для себя выход. Ему нужны чины и богатство, ему нужно всё сразу и теперь же.
Даже женитьба на богатой невесте не прельщала его – да и где мог он, бедный армейский офицер, познакомиться с богатыми домами и бывать в них, кому он нужен без положения, без связей, без приличного образования.
Он мог только мечтать целыми днями, лёжа на деревянной кровати в тесной душной комнатёнке, на жёстком соломенном тюфяке, когда не надо идти в караул.
И главное – ни друзей, ни приятелей. Он сторонился своих сослуживцев, нижним чинам особенно грубил, а старшим неохотно и сердито подчинялся...
Наступила весна. Капель звенела вовсю, на подтаявших тропках и открытых пригорках лезла из-под красной земли оголтелая трава. Ещё жёлтые, завядшие стебли прошлогодней скрывали её тонкие острые пики, а она уже заливала землю зелёным сукном, стирала грязные пятна и упорно лезла к солнцу, яркому и весёлому в эти майские дни.
Прояснело и зимнее лицо Мировича – злостью яркой и радостной засверкали огненно-чёрные глаза, дыбом встали искристые чёрные кудри, выбиваясь из толстой косицы, заплетённой сзади, разгладились сумрачные складки вокруг рта.
Всё пробуждалось в природе, и Мирович чувствовал, как в его душе пробивается к свету неясная ещё надежда, несбыточные мечты.
А что, если в самом деле попытать счастья. Влезла же на престол Екатерина, не имеющая никакого отношения к российской царской крови. А тут правнук Ивана, брата Петра, двоюродный правнук самого Петра Великого. Уши Мировича горели от нетерпения, воображение рисовало всевозможные картины скорого обогащения, возврата малороссийских земель и поместий, чинов, орденов. Воображение рисовало ему всё более и более радужные картины. Вот он на белом коне едет во дворец, рядом с ним Иван, русский царь, он, Мирович, возводит его на престол и получает от благодарного императора всё: чины, поместья, деньги.
Все долги уплачены, Мирович сидит за столом рядом с царём, распоряжается судьбами своих врагов и бывших начальников, свергает одних, вводит во дворец других. Уж тогда-то он сможет наконец бывать в личных опочивальнях императора, сидеть с царём за одним столом и пить вино из его бокала, кубка. Тут мысли Мировича путались. Кубок или бокал он представлял себе неясно...
Да и что такого – силами своего караула вывести свергнутого императора из крепости, привезти его в Петербург, всех солдат принудить к присяге. Вот и вся недолга. Так же точно поступила Екатерина, въехала в город, объявилась среди солдат, и все принесли ей присягу...
Нет, одному с таким делом не справиться. Нужен помощник, надёжный и верный. У него только один приятель, приобретённый случайно. – Аполлон Ушаков. Тоже военный, поручик Великолукского пехотного полка, стоящий на карауле у Исаакиевского моста. Придёт в ужас Аполлон, донесёт на него начальству, знать, такая у него, Мировича, судьба. А если нет, с ним можно всё обсудить, всё исполнить, разделить деньги и чины...
Весна подгоняла его, томила неясными мечтами, картинами богатства и роскоши, в которых он станет купаться, как придёт с царём к престолу. Легче лёгкого – поступить так, как сделала императрица Екатерина. Она подала ему хороший пример. Он по всем повторит её переворот...
Аполлон Ушаков стоял в карауле у Исаакиевского моста. Солдаты расхаживали с обоих концов моста, а сам Аполлон отлёживался в кордегардии...
Мирович отворил дверь и вошёл в сумрачное помещение кордегардии. Это не были каменные клетки, как у него в Шлиссельбурге, – здесь просторно, окна открыты, хотя ветер задувал с Невы. Железная кровать, на которой валялся Ушаков, стояла почти у самого окна, в окно светило солнце, и лучи его, разбитые полузакрытым ставнем, разлетелись по помещению, наполнив его пляшущими в солнечных лучах пылинками.
Василий долго стоял над спящим Ушаковым и думал, что ж соединило их, почему во всём этом мире только один этот кряжистый рыжий солдафон так ему близок, почему только этот, как и сам Мирович, необразованный, грубый, привыкший к пьяным попойкам и картежу, грубым окрикам и резким солдатским командам, умеющий только служить и маршировать, чем же привлёк он Мировича, покорил его душу, его ум?
Он такой же, как Мирович, одинокий в многоголосой толпе столицы, так же, как Василий, бедствовал и искал средств к существованию, так же носил обтрёпанный, давно нуждавшийся в починке мундир и тупоносые сапоги, просившие каши. Как и у Мировича, у него ни богатых родственников, ни влиятельных покровителей. Так же не знал он, к какому берегу грести, что делать с этой жизнью...
Всё это пронеслось в голове Василия, пока он смотрел на заросшее густой рыжей щетиной лицо своего товарища. Только ему одному мог поведать свои тайные мысли Мирович, с ним одним мог выговориться.
Ушаков поморгал рыжими густыми ресницами, сморщился и приоткрыл один глаз – серый, замутнённый сном.
– Вставай, вставай, лежебока, – грубо дёрнул его за плечо Мирович. – Солнце ясное в окне, а ты дрыхнешь. Небось надрался вчера.
Ушаков сладко потянулся, развёл в сторону крепкие руки, поросшие рыжим волосом, и вскочил, освобождая место Мировичу на старом колченогом стуле, заваленном рубахами и портками, нуждавшимися в починке.
Мирович сел, всё ещё глядя в красное со сна, помятое лицо Ушакова.
– Выйдем на воздух, – сказал он тихо.
– Ай приключилось что? – встревожился Ушаков.
Мирович отрицательно покачал головой.
– Что Сенат, какое дело твоё? – спросил Ушаков, одеваясь к выходу.
– Ничего, отказали во второй раз, – злобно проговорил Мирович. – Захватили все наши земли, все поместья, иди судись, борись с сильными. Ни черта не будет, всё едино – пропадать...
Они вышли на улицу, громко топая сапогами по деревянному дощатому полу кордегардии, и уселись на лавочке возле Исаакиевского моста. Перед ними расстилалась Нева, серая и будничная, вдали ходили часовые, кричали галки, почерневший снег раздвигал свои останки и выпускал на свет Божий острые кончики рвущейся к солнцу, свету и теплу травы.
– Весна, – ласково проговорил Мирович, – всё пойдёт расти, а мы все как...
Он не договорил, задумчиво глядя на серые волны быстро бегущей воды.
Ушаков всё ещё был не в себе спросонья, озирался вокруг удивлённым глазом, словно и не видел никогда весны и не слышал капели.
– Послали меня в караул в крепость, – начал разговор Мирович и замолчал. То, что он готовился сказать Ушакову, поразило вдруг его самого. Большое дело, великое, а ждать чего-то да штопать онучи до старости – пустая жизнь...
– Ты ж говорил, – равнодушно отозвался Ушаков.
– А вот теперь другое скажу, – торопливо подбирал слова Мирович, – задумал я такое дело, что и сказать страшно. И говорю только тебе, а уж ты, если выдашь, что ж, значит, прости-прощай жизнь моя бедовая...
Ушаков с удивлением повернулся к Мировичу. Никогда прежде не слыхивал он таких слов от этого грубого солдата, никогда не случалось у них доверительного разговора.
– Что ж ты, – начал он, но вовремя остановился, увидев, каким странным и сумрачно-злобным взглядом смотрит на него его приятель, – ты ж меня знаешь, что ж такое, да и как ты усумнился...
Больше слов у него не хватило, и он остановился, не зная, как ещё уверить Мировича в преданности и дружбе.
– Что ж, скажу, а уж ты сам знаешь, как думать, – решился Мирович. – Задумал я освободить бывшего императора Ивана Антоновича из Шлиссельбурга и представить его на российский престол.
Ушаков расхохотался.
– Хороша шутка. – Он утирал слёзы от смеха, выступившие на его пушистых рыжих ресницах.
И осёкся. Мирович глядел сумрачно и зло, и что-то такое было в его глазах – Аполлон понял, никакая это не шутка.
– Ты, никак, рехнулся? – осторожно спросил он друга.
– Беги, рапортуй по начальству, – с вызовом отозвался Мирович.
– Что ты, что ты! – замахал своими крепкими ручищами Ушаков. – Какое начальство, уж и пошутить нельзя...
– А не шутка это, Аполлон, – мрачно сказал Мирович, глядя себе под ноги, – как я стою на карауле в Шлиссельбургской крепости, а он там и сидит, под моим караулом. Возьму его да и возставлю на престол. Вот тебе и чины, и деньги, и все долги уплачены.
– Да ты что ж такое говоришь, – забеспокоился Ушаков, – отродясь таких слов не слыхал. И виданное ли дело?
– А что ж, матушка наша императрица, сама, что ли, наехала в Петербург да объявила себя государыней?
Ушаков задумался. Слова Мировича он прикладывал к жизни так и так и вынужден был признать, что отчасти Мирович прав.
– Так ведь она царицей и была, – нашёлся он наконец, не зная, какие ещё подыскать доводы.
– А он – император, венчанный на царство, да потом засаженный в тюрьму, – возразил Мирович.
Ушаков повесил голову.
– Так ты это и вправду? – неуверенно произнёс он.
– А выдашь, так башки лишусь, – спокойно сказал Мирович. – Да и дело-то лёгкое, освободить да в город привезти, а уж тут – присяга и всё. Солдаты за него встанут, вот тебе и престол. А уж он отблагодарит...
Ушаков заматерился, вскочил славки и пустился шагать вокруг Мировича, обдумывая невиданное предприятие.
– Ох ты, – произнёс он, опять усаживаясь на лавку. – А как не получится?
– А терять что? Голову? Так и так подыхать. Двум смертям не бывать, а уж одной не миновать...
Ушаков всё ещё в растерянности и недоумении смотрел на Мировича, не зная, как отнестись к этому страшному человеку, его товарищу, приятелю.
– Я не слышал, ты не говорил, – так сказал он наконец, опустив голову и положив её на согнутые в локтях руки. – А и дело...
Мирович молчал.
– А и дело, – поднял вдруг голову Ушаков. – Что удумал. – Он всё никак не мог опомниться от неожиданности и удивления. – Нет, ты это не шутишь? – снова стал допытываться он.
– Какая шуточка, – отмахнулся Мирович. Он и не предполагал, что лучший его друг может принять все его мечты за шутку.
– А ведь и верно, – развёл руками Ушаков. – Взять его да и на престол... – Он опять развёл руками и громко расхохотался. – А что, – продолжал он рассуждать, – может, и правда...
Он в который раз посмотрел на Мировича восторженно и изумлённо.
– Слышал и я, – начал он таинственно, – что в Шлиссельбурге царь Иван сидит, а вот поди ж ты, только ты додумался...
Он смотрел и смотрел на Мировича, внутренне трепеща. Взглядом, в котором читалось и восхищение и ужас перед беспримерной смелостью приятеля, вдруг вообразившего такую штуку.
– Ай да Васька, – восторженно и завистливо проговорил он, – ишь ты как...
Мирович сумрачно качал головой и нетерпеливо поглядывал на Ушакова, ожидая решающего ответа.
– Была не была, – развеселился Ушаков, – как же этот переворот, так же бы и...
– Ну, – мрачно кивнул головой Мирович.
– Грудь в крестах, али голова в кустах, – весело откликнулся Ушаков. – Была не была, хоть минута, да моя... И я с тобой.
– То-то, – ещё раз сумрачно кивнул головой Мирович.
Глаза его будто сразу потухли.
Пока соображал Ушаков, что к чему, он злобно думал про себя: «Побежит по начальству – решу...» Теперь от сердца отлегло, он весь расслабился, размяк.
– У меня и план есть, – устало и тихо промолвил Василий. – Как я в карауле, так ты на шлюпке подъедешь да и крикнешь: «Курьер от государыни!» Вроде подполковник и её императорского величества ординарец Арсеньев. Мне и вручишь, караульному офицеру, ту бумагу...
– Какую бумагу? – глупо спросил Ушаков.
– А составлю, – грубо отрезал Мирович.
И Аполлон уже не задавал ему вопросов, всё более и более проникаясь серьёзностью затеи.
– Указ об освобождении Ивана Антоновича. Да вид сделать не забудь, будто меня и отроду не знавал. А я тот указ всей команде представлю, а потом и коменданта скуём и заарестуем...
Чем более развёртывал свой план Мирович, тем более лёгким и отважным, смелым казалось Ушакову его выполнение. И когда Василий пересказал все подробности, Ушаков уже с радостным и сияющим лицом встал и крепко пожал Василию руку.
– А что ж, – то и дело повторял он, – а ведь и дело, правда.
– Ты погоди радоваться-то, – осадил его Мирович, – по твоей роже кто хошь всё поймёт. Утишка да скрытность...
На Ушакова будто плеснули ледяной водой. Он одумался, сел и стал соображать, что прежде, чем они произведут всю эту затею, их могут схватить и отрубить головы. Это подействовало на него отрезвляюще, он задумался и опустил голову на свои поросшие рыжим волосом руки.
– Главное, чтоб никто ни-ни, – строго предупредил Мирович Аполлона, легко переходившего от самого радужного до самого угрюмого настроения.
– Это уж – да, – соглашался Ушаков.
– Значит, в сообщники никого приглашать не станем, знаем только ты да я... Кто другой – тотчас донесёт по начальству.
– А как провалится? – со страхом внезапным и бурным пробормотал Ушаков. – Так неотпетым и отрубят голову?
– А что, головы жаль? – едко усмехнулся Мирович. – Всё едино, где смерть найти, всё равно мыв армии, так и на поле сражения голову легко потерять.
– Да душа-то, душа, – пытался возразить Ушаков.
Мирович задумался.
– А мы отпоёмся заранее, – вдруг решил он. – Вот теперь же в Казанской и отпоёмся, чтоб не без покаяния предстать пред Господом...
Ушаков дико взглянул на Мировича.
– Ишь ты, удумал, – опять удивился он. И про себя решил, что у Мировича ума палата, обо всём-то он передумал и всё перерешил, а раз так – успех предопределён.
Они схватили шапки и отправились в церковь Казанской Божьей Матери.
Заказали акафист и панихиду за усопших рабов Божьих Василия и Аполлона. Слушая службу, вдыхая синий сладковатый дымок ладана, оба с замиранием сердца осеняли себя знамениями и тут только поняли, что назад дороги нет, что надо продолжать случайно начатое дело, всё равно перед Богом придётся ответ держать. Так уж лучше, чем вести жизнь нищенскую, беспросветную, однообразную.
Выйдя из церкви, Мирович снял шапку, поклонился образу, висевшему над тяжёлой резной дверью и промолвил:
– Ну благослови, Господи. Дела наши благослови...
И сразу засыпал Ушакова делами – надо осмотреть место действия, посетить артиллерийский лагерь на Выборгской стороне, куда намеревался привезти Мирович Ивана, освободив из темницы.
Там дали они общее обещание, буде их намерение предуспеет, построить церковь и прочие украшения изделать.
Поехали в крепость. Но туда их не пустили, и потому, наняв рыболова, с лодки смотрели на древние массивные стены, сожалея, что в оную они не попали...
Глава XII
Весна 1764 года, слишком поздняя, однако очень скоро обнажила все язвы и отбросы, накопившиеся за зиму. Нева вскрылась в неделю и скоро унесла в Балтийское море серые глыбы льдин, бесформенное крошево намерзших заберегов и в половине июня текла уже чистая и серая, мрачная и сверкающая под лучами весеннего солнца.
В столице все прибирались и чистились к лету. Невская першпектива скоро сделалась пыльной и сухой, но окраины, Петербургская сторона неохотно смывали с себя зимнюю копоть и кучи навоза. Полицмейстер генерал Корф целыми днями разъезжал в своей открытой коляске и громким голосом бранил квартальных за нечистоту мостовых, грязные кучи подтаявшего снега у заборов и требовал отчёта у жителей. Но жители старались откупиться от полицейских кто чашкой чая, кто пятаком, кто грубым бранным словом. Кому же хочется чиститься и прихорашиваться, когда надо кормить семью и малых детушек.
Петербургская сторона и прежде никогда не отличалась чистотой. Но зимнее покрывало утаивало от людских глаз всю её грязь и нечистоты, не давало смердеть кучам навоза и выгребным ямам. Теперь, в середине июня, когда солнце начало бессменный караул и ночи стали всё прозрачнее и белёсее, обнажились все язвы и непотребства человеческого неряшества. Посреди улиц, узких и извилистых, кое-как образованных домишками с почернелыми и покосившимися крышами, белели лужи вылитых помоев, рылись в мусоре бродячие собаки, которых велел стрелять прямо на улицах ещё покойный император Пётр Третий, стаи ворон слетались на груды навоза и неубранные трупы собак и кошек.
Ворон всё ещё стреляли, указ Петра Екатерина не отменила, но уже не так бойко и пристрастно, как вначале, поэтому над городом поднимались чёрные тучи воронья и садились на крыши и оголённые стволы чахлых деревьев, подобно муравьям усеивая обнажённые, безлистые их кроны.
К середине июня зелёным туманом затянуло прибрежный ивняк, трава, как опаздывающая на побудку солдатня, лезла из всех пор земли, и скоро Петербургская сторона стала украшаться зелёным ковром бурьяна, лезущими из-под земли крохотными цветочками и принимать летний вид.
Кособокие домишки, ветхие заборы и одноэтажные лачуги скоро скрылись под буйной порослью сорняков и чертополоха, успевавшего в эти недолгие весенние дни набрать силу и соки для раннего цветения.
Посередине улицы брела юродивая Ксения. Одетая, как всегда, в бывшую когда-то зелёной юбку да куцую красную блузу, едва прикрывавшая волосы рваным тёмным платком, она шла, пристукивая суковатой палкой, оставлявшей на мягкой, пропитанной влагой земле глубокие следы.
Прорытые Петром Великим каналы, которыми он уподоблял город ухоженной нарядной Голландии, давно превратились в сточные канавы и испускали зловоние и смрад, а по берегам их квакали лягушки, по ночам устраивая оглушительные концерты.
Жить на Петербургской стороне трудно и боязно – вечерами то и дело раздавался истошный визг избиваемых мужьями жён, крики ограбливаемых и вопли пьяных мужиков, затемно возвращавшихся из кабаков. Уже к вечеру все окошки, маленькие и узкие, накрепко захлопывались, ворота и двери запирались на множество засовов и замков, а во дворах спускались с цепей злые голодные собаки, рыскавшие по дворам в надежде найти хоть огрызок хлеба или прошлогоднюю кость. Но теперь, под нежными распускающимися лучами небогатого теплом северного солнца всё словно бы разнежилось, расслабилось, окошки распахивались настежь, выпуская душную вонь длинной зимы, двери и ворота отворялись и стояли распахнутыми, словно приглашая войти и насладиться гостеприимством хозяев, а старые, одетые в невообразимое рванье хозяева выползали на улицу, присаживаясь на обязательной у каждых ворот лавочке, и чесали языки, славя Бога за тепло и благодать.
Юродивая шла не разбирая дороги. Старые, стоптанные башмаки шлёпали по грязным навозным лужам, скользили по зелёной нежной травке, топтали проезженные колеи, утопали в грязи горбатых мостиков.
Лицо её поднялось к солнцу, голубые огромные глаза незряче широко раскрыты, а с ресниц потоком бежали слёзы. Они заливали её нахлёстанные ветром щёки, скатывались по ярким румяным губам и падали в грязь и навоз улицы.
– Андрей Феодорович, – закричала одна из старух, присевшая на лавочку перед старым покосившимся домом с обомшелой крышей. – Подь сюда, голубчик, чтой-то с тобой?
Юродивая не ответила на зов, а направилась мимо сидевших старух.
Поклонилась им в самые ноги и тихо, внятно сказала:
– Кровь, кровь, всё в крови, реки крови, моря крови.
И пошла дальше, волоча палку, пристукивая ею по грязной, обнавоженной мостовой.
Старухи заволновались и шёпотом переспрашивали друг друга, что сказала юродивая.
А она шла дальше, и у каждого дома останавливалась, и, переломившись в пояснице, низко кланялась, и снова причитала:
– Там кровь, кровь, кровь, кровь! Там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь, кровь...
– Уж не обидел ли кто юродивую, – всполошились старухи и бросились за Ксенией, умильно прося её остановиться, откушать чай, съесть ситничка.
Но Ксения всё шла и шла. И опять у каждого дома останавливалась, заливалась слезами и снова и снова повторяла:
– Там кровь, кровь, реки кровавые, каналы кровавые, кровь, кровь, кровь... – И брела дальше, возвещая о каком-то невиданном бедствии.
– Уж не к войне ли кричит и голосит, – забеспокоились старухи и побежали звонить по всему городу, де, юродивая кричит и плачет-заливается не к добру...
А Ксения шла и шла по городу и останавливалась почти у каждого дома. Останавливалась и словно ждала вопроса. И её спрашивали, уж не обидел ли кто Андрея Феодоровича, уж не голоден ли он, уж не заболел ли? Вопросов было множество, и на всё Ксения отвечала одним:
– Там кровь, кровь, реки налились кровью, там каналы кровавые. – И показывала палкой, а то и пальцем на восток, прямо против течения Невы.
Никто не понимал её слов, но все в городе забеспокоились. Извозчики зазывали её прокатиться хоть немного, продавцы и приказчики выбегали на улицу, предлагая то пряничек, то ситничку. Ничего не брала юродивая, не ела, не пила и всё причитала, не утирая слёз, катившихся по лицу.
– Там кровь, кровь, кровь, там реки налились кровью, там каналы кровавые. – И слёзы струились по её лицу целыми потоками...
Всё повторилось и на второй и на третий день. Никто не понимал, что случилось с Ксенией.
Она была безутешна, плакала и причитала, плакала и кричала свои страшные слова о крови. Кричала у домов, на церковных папертях, возле дворцов и богатых усадеб, кричала везде, где была.
А побывала она за это время почти везде в городе, на кладбищах и в церквах, подле городских лавок и на мусорных свалках, в тихих садах и цветниках, у низменных берегов Невы, заваленных мусором и навозом, на зелёных подсохших лужайках загородных болот.
И всё твердила и твердила своё:
– Там кровь, кровь, кровь, там реки налились кровью, там канавы кровавые, там кровь, кровь...
Степан натолкнулся на Ксению случайно, уже глубокой белёсой ночью, когда с Невы поднялся лёгкий туман. Белая мгла северной ночи раскинула своё застиранное полотнище над городом. Степан только что отстоял службу в Александро-Невской лавре, молился истово, опять ожидая и страшась лёгкого прикосновения Неведомого. И он почувствовал его, склонившись на истёртый бесчисленными ногами коврик у одного из высоких подсвечников с десятком горящих свечей.
Он не стыдился своих слёз, не стыдился того удивительного блаженства, что вдруг охватило его, когда, спрятав лицо в руки и склонившись до земли, стоял на коленях. Он безмолвно шевелил губами, молясь в душе и не выражая своих чувств словами. И всё ждал этого лёгкого окутывания, словно саваном, словно шатром из сияющих лучей. И когда пришло это ощущение неземной радости и блаженства, когда он почувствовал легчайшее прикосновение к своему плечу, утонул в слезах радости и умиротворения, в слезах, растопивших его сердце и душу.
Долго стоял он так, ушло это ощущение счастья и радости, улетело лёгкое прикосновение, погасли свечи в церкви, темнота окутала небольшое пространство между колоннами. Он тяжело поднялся с колен и отправился к настоятелю монастыря.
Он не знал, что скажет ему, но тот, глубокий старец с длинной седой бородой и венчиком кудрявых седых волос вокруг чёрной скуфейки, всё понял и пригласил его к исповеди. Задыхаясь от слёз и странного, неведомого ему прежде чувства полной открытости, Степан рассказал обо всём, что случилось с ним, попросил благословения и получил его.
И, выходя из церкви, Степан уже знал, что предстоящие ему годы проведёт в одной из тесных и тёмных келий монастыря, что он будет счастлив, несмотря на все неудобства и тяготы жизни.
Бродя по белёсым набережным, по улицам, затканным седой паутиной тумана, он и наткнулся на Ксению. Она лежала, сжавшись в комок, на груде мусора, лицо её, опрокинутое в землю, не виделось Степану, но красная кофта и зелёная юбка, разметавшись по земле, словно саваном, окутывали её тело.
Степан тихо присел возле Ксении. Она дышала легко и свободно и нет-нет да всхлипывала во сне, едва заметными судорожными движениями подёргивались её плечи и руки. Степан сидел возле Ксении, храня её сон и страшась разбудить её.
Бродячие псы, обрыскавшие всю округу в поисках пищи, тихо подошли к Степану и Ксении и обсели кругом. Степан подивился их кротости и тихости. Ещё совсем недавно был он свидетелем, как набросились на Ксению бродячие собаки, пытались изорвать её подол, куснуть за ноги. Она не отмахивалась палкой, своим суковатым посохом, не пыталась уберечься от жадных пастей собак. Тогда и они отстали от неё, рассеялись в душной тишине близлежащих улиц. А теперь они полукругом сидели и лежали возле Ксении, словно охраняли её покой, словно приручённые и домашние. Шерсть на многих из них свалялась и висела клочьями, грязные бока вздымались, судорожно передёргиваясь в стылом воздухе белёсой ночи, но ни один звук не нарушал чуткую тишину.
Ксения пробудилась сама, едва только розовые лучи пробились сквозь клочья уплывающего тумана. Открыла глаза, яркие и голубые, уставилась на собак, на Степана, поворотилась немного и села на груде мусора.
Степан подивился. Словно и грязь к ней не приставала, словно и нет под ней этой грязной кучи отбросов. Лицо её, свежее и румяное со сна, было гладким и чистым. Но едва она завидела Степана, как глаза наполнились прозрачной влагой, слёзы побежали по румяным щекам. Гримаса плача не искажала её лицо, губы не кривились. Только слёзы бежали и бежали по щекам, скатывались по округлому подбородку на грязную, замусоренную отбросами землю.
– Что ты, что, Ксенюшка? – заволновался Степан. – Что с тобой, кто тебя обидел, али привиделось во сне?
Она повторила своё вчерашнее и позавчерашнее и третьего дня затверженное:
– Кровь, кровь, там реки кровью полнятся, там каналы кровавые...
И всё указывала рукой на реку, против течения Невы.
– Что, что? – не понял Степан.
Снова и снова твердила она про кровь. Он не понимал, только блеснула в мозгу мысль, что это предсказание. Но о чём, как предостеречь, как утишить её слёзы, он не знал.
Она встала с земли, больше не обращая на него никакого внимания, и тихо побрела по улице, плача и причитая:
– Там кровь, кровь, там реки кровью полнятся, там каналы кровавые...
Он пробовал сопровождать её. Она шла по улицам, останавливалась у каждого дома и твердила своё:
– Там кровь, кровь, кровь...
Ей подавали хлеб, её пытались угостить чаем и булками, приглашали в дом, но она твердила своё и шла так, как будто старалась оповестить всех до единого в этом городе:
– Кровь, кровь, реки полнятся кровью, каналы кровавые текут.
Степан понемногу отстал от неё, видел вдали её прямую, сухопарую фигуру и слышал удаляющийся голос:
– Там кровь, кровь, кровь...
Что она хотела этим сказать, о чём предупреждала, о чём плакала, на что жаловалась? Сердце его сжалось. Знать, видела что-то, знать, страдала и плакала из-за чужих страданий, знать, не о себе болело её сердце и её душа. Он медленно вернулся домой и начал распоряжаться своим хозяйством и своим имуществом, готовясь к служению в монастыре...
Но лицо Ксении, залитое слезами, стояло перед ним. Он сам себе удивлялся, почему не бросился целовать это любимое лицо, эти яркие васильковые глаза, почему легко отпустил её бродить и шататься по городу и кричать своё невразумительное: «Там кровь...» Как мог он так легко отступиться от своей любви, от которой долго страдал и которую так и не смог выжечь из своего сердца.
Он вспоминал, как охватила его скованность, он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, только смотрел и смотрел на неё, не в силах ни слова вымолвить, ни обхватить её.
Страх перед ней, страстное желание не обидеть, не дать зародиться в душе грязному чувству. Уж не почитает ли он её святой, уж не стоит ли мысленно перед ней на коленях? Святая? Нет, он никак не мог представить себе святой эту женщину, которую любил, которую иногда ненавидел. Нет, она не святая, твердил он себе. Почему же такой трепет и благоговейный страх охватывал его, когда он её видел, почему немели уста и терялись все слова, что находило на него и сковывало не только губы, но и движение?
Она шла своей дорогой, и ей не нужны ни его защита и помощь, да и самая любовь его... Любовь? Как он понимал это чувство? И Степан впервые задумался о том, какой же любовью любит он Ксению? Что же это за чувство? И почему она избегала и не хотела его любви?
Ясно понял он только сейчас. Для него любовь была привычным, общеизвестным чувством. Он хотел её для себя одного, он хотел её любви только для него, Степана. Он не хотел делиться ею ни с кем...
Так вот она какова, земная и грешная любовь. Только для себя, только чтобы утешить это чувство своей собственности. Ксения не была его собственностью. И это бесило его, заставило пойти на подлое преступление, заставило домогаться силой, насилием. Он так хотел унизить, растоптать её, чтобы она приползла к нему, чтобы молила о пощаде у его ног.
Степан схватился за голову. Каков же он сам, если даже в таком чувстве, как любовь, любил только себя?
Мысли терзали его, кололи его мозг, словно иголки, он метался по дому, не в силах сдерживать стоны и ненависть к самому себе.