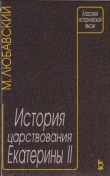Текст книги "Украденный трон"
Автор книги: Зинаида Чиркова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Глава IV
Едва за маленькой княгиней закрылась дверь и опустилась толстая портьера, из-за ширм вылез к Екатерине Григорий Орлов[17]17
Орлов Григорий Григорьевич (1734 – 1783) – генерал-аншеф, один из организаторов дворцового переворота 1762 года, фаворит Екатерины II.
[Закрыть]. Был он немножко пьян, как всегда, расстёгнутый мундир и распахнутые брыжи[18]18
Брыжи (брыжжи) – оборка в складках на груди и воротнике немецкой мужской рубахи.
[Закрыть] открывали мощную грудь, поросшую золотистым волосом. Екатерина протянула руки, и Григорий плюхнулся на постель, ещё хранившую тепло Романовны.
– Какова? – спросила Екатерина после первых ласк.
– Дурочка несмышлёная, – лениво процедил Григорий. – Ничего, кроме слов. Ах, преданна, ах, буду предпринимать, а что она может?
Екатерина задумалась. Да, конечно, пока только слова. Но маленькая некрасивая княгиня слыла в придворных кругах смелой и резкой, открыто стояла на стороне Екатерины. И нельзя было сбрасывать со счёта – самая родовитая. Да если ещё и не будет связывать своё имя с именем Екатерины, а действительно предпринимать что-то для переворота...
– Не прав, друг мой, – мягко сказала она Григорию, – её муж влиятелен в гвардейских полках.
– Ну уж, – обиделся Григорий, – я да братья мои – это сила. Слово скажу, все пойдут за мной.
– Знаю, друг мой, знаю и люблю тебя за силу эту, смелость, за преданность. Но сколько сложных усилий, сколько надо предусмотреть.
– Да какие там усилия, стоит мне слово сказать, и все как один пойдут за мной...
– Ты сам говорил – слова ничего не стоят, нужны средства, и немалые, а я и так кругом в долгах.
Григорий удивлённо уставился на Екатерину.
– Да, да, – мягко настаивала она, – не просто слова, а чарка водки, кусок мяса, гривенник какой-нибудь привяжут солдата крепче всякой присяги. И от моего имени до каждого дойти, к каждому дорожку протоптать.
Григорий искоса посмотрел на неё. Умна, ничего не скажешь, великая княгинюшка... А ведь чем чёрт не шутит, когда Бог спит? Может, эта вот постель и вывезет его, Григория Орлова, во всероссийские императоры? В мыслях он был уже далеко, сидел на троне, в шапке Мономаха с горящими алмазами. Для этого он всех своих братьев поднимет на ноги[19]19
Для этого он всех своих братьев поднимет на ноги. — Орлов Алексей Григорьевич (1737 – 1807) – брат Г. Г. Орлова, участник дворцового переворота 1762 года, адмирал, командовал русской эскадрой в Средиземном море. За победу у Чесмы и Наварина (1770) получил звание Чесменского. В 1775 году вышел в отставку. Орлов Фёдор Григорьевич (1741 – 1796) – младший брат Г. Г. и А.Г. Орловых. Участвовал в дворцовом перевороте 1762 года и был назначен Екатериной II обер-прокурором Сената.
[Закрыть].
Оставшись одна, Екатерина попробовала уснуть, но мысли кололи её иглами и не давали закрыть глаза. Что там кричала юродивая? Пеките блины? Она и без юродивой знала: часы Елизаветы сочтены. Что-то будет, когда муж её, Пётр, которого она ненавидела и презирала, взойдёт на престол? Как ни старалась Екатерина нравиться всем и каждому, как ни льстила, как ни хитрила, с ним у неё ничего не получалось. И почему это произошло, что только ему одному не смогла она вскружить голову? Даже Елизавета обманывалась на счёт характера Екатерины, даже ей удалось закрыть глаза на проделки и хитрости великой княгини...
А вот с Петром ничего не получалось. И как это он лучше других понимал её тайные мысли и побуждения, знал её лучше всех остальных? В случае нужды, беды он всегда бежал к ней, искал умного совета и помощи, но хорошо видел подоплёку всех её поступков. И что же будет теперь?
Она ясно осознавала всю неустойчивость, всю никчёмность своего положения. Да, Елизавета не сегодня-завтра умрёт, если уже не умерла. Хотя нет, соглядатаи великой княгини уже доложили бы ей об этом. Екатерина всегда заботилась о том, чтобы везде, даже у царского одра смерти, у неё были свои люди, свои шпионы. Иначе как бы она продержалась все эти долгие восемнадцать лет ожидания престола...
Ну ладно, будет она императрицей, будет этот её взбалмошный, никчёмный муженёк императором. Но ей-то что? Она по-прежнему останется в тюрьме, по-прежнему не сможет сделать ничего, что надобно ей. Как изолировать его, как прорваться к настоящей власти? Муж... Смешно, какой он ей муж?
Неожиданно она вспомнила о том, как избавилась от своего первого возлюбленного. О, это была целая история, хотя ей достаточно было ясно и чётко сказать – не хочу...
Её собственный дядя. Как же он сумел обойти её, как сумел вырвать обещание выйти за него замуж?
Какими ласковыми, какими жаркими были его речи, что она попалась на его удочку! А мать... Ей так не терпелось пристроить свою некрасивую и незадачливую дочь, что она готова была выдать её за первого попавшегося, лишь бы не думать о её будущем.
Удивительно, как складывается судьба, если ты уверен в себе, если понимаешь, что высокое небо вовсе не высоко, если знаешь, что звёзды – вот они, в твоей руке, если не довольствуешься тем, что тебе предназначают люди, трезво оценивая твои возможности.
Что, если бы тогда, в свои тринадцать лет, она не поняла этого? Была бы сейчас женой кривобокого принца Жоржа, всю жизнь считала бы каждый грош, экономила на прислуге и нарядах.
Но она твёрдо верила в своё предопределение. Каноник Пфаль предсказал ей три короны, и она начала добиваться...
Дядя Георг Людвиг... Это было её первое знакомство с неистовой любовью, со страстью неистребимой... Её сердце ещё спало тогда.
Он перешёл со службы из Саксонии ко двору прусского короля. Он продавал свой титул и своё невежество и нигде по-настоящему не мог ужиться, потому что даже при его высоком родстве надо было хоть мало-мальски смыслить в военном деле. Его просто пристраивали, надо же что-то делать для маленького, не блистающего никакими талантами принца, давать ему хоть какое-нибудь жалованье. И родня старалась...
При малейшей возможности он приезжал ко двору – если это можно было назвать двором – младшей сестры, принцессы Иоганны Елизаветы Анхальт-Цербстской, бывшей замужем за истым солдафоном, не хватавшим звёзд с неба. Легкомысленную мать покорило внимание младшего брата – в семье никогда не хватало теплоты и внимания. Жорж любезен, весел, бегает по её мелким поручениям, советует, какие рюшки пришить на платье и какие драгоценности надеть на очередной бал, чтобы не так была заметна стеснённость в средствах. И хоть он неказист, мал ростом, худосочен, угреват и кривобок, с маленькими и вечно потными ручками и большими, неуклюжими ступнями ног, всё равно казался подходящим мужем для Софи, тоже не очень-то большой красавицы. Круглые фразы так и выкатывались из его узкогубого маленького рта, будто проткнутого булавкой на бледном, землисто-сером лице. Зато улыбка озаряла большие, навыкате, голубые глаза и делала сносной его физиономию.
Этот маленький принц из всего мог извлекать выгоду – из своей любезности, из своей службы, из своего многочисленного родства. И хотя не обладал никакими талантами, карьера его должна состояться.
Софи бойко трещала на французском, любила танцы и веселье и была предельно любезна с дядей. Десять лет разницы между ними почти не чувствовались, казалось, они ровесники, так он умел её развлечь, заговорить.
С утра до вечера он почти не оставлял будущую императрицу Екатерину, почти не выходил из её комнаты, проникая в тайны её мелких и больших забот.
Однажды вся семья собралась к родственникам в гости в Брауншвейг. И вот тут-то и состоялся разговор, который внезапно отрезвил Софи, заставил её серьёзно задуматься над собственным будущим.
– Жаль, – тихо и грустно говорил дядя, – я так буду стеснён в Брауншвейге. Мне уже не придётся свободно говорить и видеться с вами, как здесь, как я привык.
– Почему? – искренне удивилась Софи. – Вы же мой дядя...
Он бросил на неё взгляд. Эти невинные глаза смотрели с неподдельным недоумением и искренностью.
– Это дало бы повод к сплетням.
Софи всё ещё не понимала ничего.
– Всё дело в том, что я вас слишком люблю...
– Ну и что, – недоумевала Софи, – и я вас тоже очень люблю.
– Вы ещё ребёнок, с вами нельзя говорить серьёзно.
– Я вас очень люблю, – запротестовала Софи, – и мне больно, что я вас так огорчаю.
– Но хватит ли вашей любви, – прищурил принц свои голубые глаза, – чтобы утешить меня так, как я этого хочу, по-моему?
– Конечно, я сделаю всё, чтобы вы не огорчались, – принялась уверять его Софи.
– Хорошо, – он принял решение, – обещайте же, что выйдете за меня замуж...
Софи с изумлением взглянула на него.
– Вы шутите? – наконец проговорила она. – Вы – мой дядя, я вас люблю, но как родственника, а не как...
– Не как мужчину? – дополнил он.
– Ну, я не так сказала, – смешалась она, – но, наконец, отец и мать не захотят, ведь вы же мой дядя...
Она лихорадочно искала предлога, чтобы отказать ему. Она и не предполагала, что тут нечто большее, чем родственная привязанность...
– Всё зависит от вас, – загнал он её в ловушку, – ваша мать не против...
Софи всё ещё не могла опомниться от удивления. Потом у неё появилось и чувство брезгливости – как, этот вот...
– Так что же, – настойчиво заговорил он, – всё зависит только от вас. Я вижу, вы не хотите?
Он был очень огорчён, едва не плакал. Никогда не видела Софи таким своего любезного, весёлого дядю.
– Конечно, если будут они согласны, – вяло ответила она, – то и я...
Улыбка озарила его серое лицо, засияли счастьем большие голубые глаза. Он целовал её руки, робким поцелуем прижался к её губам. А ей вдруг сделалось противно. Что это он себе позволяет, этот тщедушный, неказистый, с почти прозрачными ручками и такими огромными ступнями ног?
Когда за ним закрылась дверь, она возненавидела его.
И тут подумала о матери. Значит, за её спиной они давно сговорились. А может быть, мать сама подстроила всё это и выпихивает её замуж. Что ж, придётся выдержать бой, пусть даже эти бесконечные пощёчины, это бешенство, эта грубая ругань...
На помощь ей пришёл случай. Тогда, в тринадцать лет, она поняла, как нужно пользоваться случаем, потому что Бог его посылает, а уж от человека зависит, как им воспользоваться.
За обедом отец передал матери несколько писем. Она тут же вскрыла их, и у неё вырвалось несколько удивлённых замечаний.
Софи бросила беглый взгляд на конверты, уловила удивление и равнодушное пожатие плеч ей матери, связала это с теми днями, когда писался и отправлялся портрет её, Софи, в далёкую заснеженную Россию.
Софи всё поняла, сложить два и два она всегда умела.
– Что это за письма? – наивно спросила она у матери.
Та холодно взглянула на неё и ничего не ответила.
После обеда Софи тихонько скользнула в кабинет матери. Прочесть письма было сущим пустяком.
Вечером, сидя за вышиванием в пустой гостиной, Софи снова принялась выспрашивать мать:
– Какие новости, у вас так много писем?!
– Пустое, – резко ответила мать.
Она внимательно вгляделась в дочку – нет, при такой внешности нечего и надеяться пристроить её быстро. Хорошо, подвернулся её собственный брат...
– В доме все так взволнованны, – бросила Софи, склонившись над вышиванием.
– Вот как? – насторожилась мать.
Привычка к шпионству даже в собственном доме делала её осторожной и наблюдательной.
– И что же говорят в доме? – принялась она выспрашивать дочь.
– Разное, – уклонилась Софи. – Ну а что касается меня, то я знаю их содержание.
– Ты их читала? – резко бросила мать.
– Что вы, я узнала об этом через гаданье...
Мать подозрительно посмотрела на дочь. Она не поверила её словам, хотя в доме действительно появился человек, который при помощи дат рождения, цифр и точек брался предсказывать будущее.
– Ну если ты такая учёная, – презрительно бросила мать, – то тебе, сударыня, придётся отгадать содержание этого письма на двенадцати страницах.
Девчонка пронырлива, хотя и любит представляться наивной и невинной. Ах, если бы она была хоть чуточку изящнее...
– Я верю искусству этого человека. – Опустив глаза, Софи выскользнула за дверь.
Она не замедлила появиться и подала матери сложенный листок бумаги.
«Предвещаю по сему, – прочитала мать, – что Пётр III будет Вашим супругом».
Принцесса Анхальт-Цербстская задумчиво посмотрела на дочь. Она прекрасно понимала, что всё это гадание просто чушь, видно, девчонка каким-то образом узнала содержание писем. А там действительно приглашали в Россию, правда инкогнито, неофициально, приглашала не сама императрица, а люди, стоящие близко к трону и в то же время связанные с прусским королём. А уж ему-то принцесса служила верно и знала, как ему было бы выгодно иметь своего человека на российском троне.
Она сделала жест, удаляющий дочь из комнаты. Она должна была подумать...
– Если вам делают такие предложения из России, – невинно подняла глаза Софи, – грех отказываться... Ведь это составило бы моё счастье.
– О каком ещё счастье ты мечтаешь? – вспыхнула мать, уже готовая дать дочери очередную пощёчину. – Ты же согласилась на брак с Георгом. Скоро свадьба. Что скажет он, когда узнает, что ты мечтаешь о другом?
Софи присела в низком реверансе:
– Он может только желать моего счастья и благополучия...
Она вышла, искоса взглянув на мать. И взволнованно пробежала в свою комнату. Теперь решалась её судьба.
– Выкинь всё это из головы, – резко крикнула ей вдогонку мать.
Но Софи не выкинула. Она улучила минутку и перекинулась парой фраз с отцом. Недалёкий и туповатый солдафон, отец, однако, очень любил дочь, и ей не стоило большого труда убедить его...
Состоялся разговор между супругами, и мать покинула кабинет мужа стремительно, вся красная от злости и досады.
Но в своём будуаре задумалась над выгодами создающегося положения. О, она уже видела себя первым лицом в российском государстве, видела себя в центре всех придворных интриг, богатой, каждому жесту которой повинуются все эти дикие русские мужики. О Софи она и не помышляла...
Но, с другой стороны, размышляла мать, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Георг надёжнее, о браке всё условлено, он в её руках, руках будущей тёщи, может доставить ей столько приятных минут своим любезным обращением, своей услужливостью. А там...
Но Софи недаром в свои тринадцать лет уже хорошо понимала человеческую натуру. Она ненавязчиво направляла мысли матери по нужному руслу – нет, этот брак может быть выгоден и успешен только для неё.
Екатерина усмехнулась – она хорошо изучила свою мать. И опять вернулась мыслями к настоящему. А настоящее было достаточно безрадостным. Императрица умирала, но ведь не ей, Екатерине, достанется корона, а ему, единственному человеку, которому она, великая княгиня, не сумела понравиться, – её мужу. Он презирал её и боялся. Ступенька на пути к престолу, однако какая ненадёжная ступенька...
Она уснула далеко за полночь, и сон её был тяжёлым. Ей снились густые кучевые облака, в этой тяжёлой заоблачной выси посверкивали молнии. Она стояла далеко внизу и поднимала вверх руки, к этому сиянию, посверкиванию, но тяжесть земного притяжения сковывала ей ноги. И она падала в талый снег, в колею красной глинистой дороги, как будто падала в лужу крови...
Глава V
Карета остановилась у подъезда высокого деревянного дворца.
Соскочил кучер, откинул подножку. Тяжело сошёл полковник. Не дожидаясь приглашения, сунулась в светлый прямоугольник дверцы и Ксения. Она выбралась из тёплой полутьмы кареты, поставила ногу на подножку. Что-то напомнило ей прежнее, какое-то забытое воспоминание. Словно бы это было привычно – она слегка подхватила юбку и опустила ногу к земле.
Дорожка возле высокого, веером расходящегося крыльца расчищена, твёрдая мёрзлая земля встретила её башмак. Легко, как когда-то, она скользнула на землю и встала перед дворцом. Он был полон огня, тепла, все окна светились жёлтым, словно взошло теперь, в стылую морозную пору, новое солнце, пробилось лучами сквозь разноцветные витражи бельведеров, осветило подстриженные деревья и кусты вокруг дорожки. От этого света потускнели, словно размазались, белые столбы света в небе, живая плоть внутреннего солнца затемнила их, заглушила их холодный неуклонный безостановочный бег.
Полковник в пояс поклонился Ксении.
– Входи, госпожа Петрова. – Голос его был серьёзен и суров, и Ксения подчинилась его властному тону.
Об руку с полковником взошла она на невысокое крыльцо, вступила в высокую резную дубовую дверь, почтительно открытую пожилым слугой.
– Всё готово? – вполголоса спросил полковник.
Тот едва заметно наклонил голову, позволявшую увидеть прямой пробор на промасленных волосах. Ливрея слегка сморщилась от поклона...
Полковник хлопнул в ладоши, и из широкого и длинного коридора выступили две толстощёкие женщины в чистых белых передниках и плоёных чепчиках.
– Делайте, как приказано, – тихо сказал им слуга в ливрее, и женщины подошли к Ксении.
Она стояла спокойно, пустыми и покорными глазами глядя перед собой.
Женщины взяли её под руки и повели...
Она позволила делать с собой всё, что хотели эти женщины. Не сопротивлялась, когда они поставили её в огромную бочку с горячей водой, пока намыливали и сливали на её роскошные каштановые волосы и потом, когда растирали её в неглубоком корыте, растирали жёсткими суровыми полотенцами, надевали легчайшую, словно пуховую, рубашку, надевали на её ноги тёплые меховые коты, завёртывали в широчайшую теплынь подбитого пухом шёлкового капота.
Взгляд её оставался пустым и покорным, но тело млело в горячей воде, тысячи иголок вонзались в её израненные и расцарапанные ноги, лёгкие судороги пробегали по всему телу от макушки до самых пяток. Тело её нежилось, оттаивало под слоем мыльной пены и горячей воды, жадно впитывало в себя живительное тепло, горело под упругими взмахами полотенец. Оно вспомнило и само запросило горячих обжигающих ударов берёзового веника. Но Ксения не обратила внимания на эти призывы её словно бы жившего отдельной от неё жизнью тела.
И только когда её посадили в большой, жарко натопленной горнице перед громадным зеркалом в резной дубовой раме в мягкое кресло, она словно бы очнулась.
Из зеркала смотрела на неё моложавая женщина, с зарумянившимися от тепла смуглыми щеками, слегка запавшими возле скул, с красными, обветренными, но сейчас смазанными маслом губами, прямым тонким носом и высоким чистым белым лбом. Женщины осторожно расчесали её длинные роскошные волосы, уложили их вокруг головы, туго затянули ленты плоёного чепца.
Стукнула дверь, вошёл полковник. Он жестом отослал их, и они, неуклюже кланяясь и торопясь, вышли из горницы.
Полковник взял стул и присел возле Ксении. Он уже переоделся, и сейчас на нём был домашний мундир без эполет и аксельбантов, простые лосины тёмного цвета и старые разношенные сапоги.
Он долго смотрел на неё.
– Ты помнишь это зеркало? – тихонько спросил он в волнении и испуге. Ему всё казалось, она сейчас вскочит, убежит, закричит...
Ксения смотрела в зеркало. Пустой, покорный её взгляд изменился, глаза обрели покой и умиротворение, и в них зажглись огоньки лукавства.
Она высунула язык своему отражению и скорчила ему рожу.
– Ты совсем не изменилась, – всё так же со страхом и волнением проговорил он. – Ты всё та же капризная и своевольная девчонка, какой я знал тебя...
Она повернула к нему голову, протянула руку в широком, ниспадающем до самых пальцев рукаве:
– Седины много.
Поворошила его седые-седые волосы, скользнула по густым серо-чёрным бровям.
Он замер от её неожиданной ласки, растерял все слова, которые хотел сказать.
– Я помню, – печально вернулась она к началу разговора, – это очень дорогое зеркало, это зеркало твоей матери.
– И твоё, – печально подтвердил он. – Я так долго искал его, но всё-таки нашёл. Я думал, тебе будет приятно опять посмотреть на себя...
Она повернулась к своему отражению в зеркале, высунула язык и принялась корчить гримасы.
– А ты знаешь, кто там, в зеркале?
Она не ответила и продолжала гримасничать.
– Это моя будущая жена, познакомься...
Она повернула к нему лицо, взгляд её глубоких голубых глаз затуманился.
– У тебя не будет жены, – сказала она грубым, мужицким голосом. – Ты в монастырь уйдёшь...
Он оторопел, но зажал рот рукой.
– Прости, что так привёз, силком, – заговорил быстро, горячо, не давая опомниться ни ей, ни себе, – столько лет искал, сколько раз ходил за тобой, сколько сил положил... Прости и за то, что силком под венец хочу вести... Да сил моих больше нет, что ты со мной сделала, змея подколодная, чем приворожила, чем опоила? Или убей меня, или любовь мою убей, или иди под венец... Что такого в тебе, что ни на одну и взгляда кинуть не могу, всё ты перед глазами стоишь, с кем ни лягу, а всё кажется, что это ты... Не могу больше, хоть в петлю головой...
– Да ведь я юродивая, Степанушко, – ласково сказала она, – да и не просто, а в образе брата твоего, Андрея... Теперь вроде отмолила его грехи, а всё равно он меня держит. Я уже давно Ксенией перестала быть, её похоронено тело, давно сгнило...
– Что ты болтаешь, что мелешь? – вскипел он, резко вставая. – Десять лет прошло! Сколько ж можно по улицам бегать, чай, не молоденькая, в одной кофтёшке да юбчонке убогой по морозу скакать! Я и тогда не верил, а теперь и подавно не поверю, что безумная ты. Ты нас всех умней, никаких себе забот не оставила, никаких горестей...
Глаза её были грустными, потухшими, когда она взглянула на Степана.
– А ведь и верно сказал – забот никаких...
Слова её больно резанули его сердце. А этот потухший взгляд сказал больше, чем все её слова.
– Прости, Ксенюшка, вырвалось... Я же знаю, как ты таскала на своём горбу кирпичи.
Она нахмурилась, но в памяти ничего не осталось.
– Знаю, знаю, рабочие каждый день приходили, говорят, чудо, кирпичей наверх, аж под самый купол натаскано... Смоленскую церковь строили тогда, лет уж с восемь назад, как там служить стали. Каждое утро не надо было кирпичи наверх таскать... Чудо-то чудо, а потом ночью залегли, увидеть чудо каждому захочется. А это ты... Такие подмостки себе смастерила, на спину повесишь, да и давай по лесам наверх. Как в тебе силы стало? Какие жилы из себя рвать, чтобы такие поклажи таскать? Вот и выходит, что чудо – человеческое чудо...
Она вся ушла в себя, но сколько ни вспоминала, не могла вспомнить, как это было с ней, когда кирпичи на спине таскала, да ещё на самый верх лесов Смоленской Божьей церкви?
– Не помню, – только и покачала головой.
– Не губи, Ксенюшка, – упал он перед ней на колени, – дай жить, дышать дай... Десять лет ведь ты уж меня на поводке водишь... Да разве десять? Как ты под венцом стояла с братом моим старшим, Андреем, так по сию пору вижу тебя. Голубица белая, ангел во плоти. Взглянул на тебя и пропал. С тех пор только о тебе и думаю. Всё ты перед глазами моими стоишь. Сколько мне отец с матерью твердили – внуков хотим увидеть. Да не довелось им. Крепко я стоял на своём – не хочу жениться, молодой ещё. Наследства лишить хотели – до того дошло. А уж каких красавиц сватали? Только я всё равно стоял на своём – не любя и под венец не пойду. Грех на душу взял – отца с матерью не слушал, большой грех – не замолить... Так и в могилу сошли они, не увидали меня степенным человеком. Только теперь мне всё едино, что в гроб, что под венец. Женой мне будешь, холить тебя стану, лелеять, в золотой клетке держать. Без тебя я пропал... Теперь я сам своей судьбе хозяин, сам голова, что хочу, то и ворочу...
Она усмехнулась своему отражению в зеркале.
– Да ты ухо-то приклони, – с упрёком он встал с колен, – бормочу, бормочу, а тебе уши-то, знай, золотом завесило.
Он отошёл в другой конец комнаты, потирая лоб и силясь ещё что-то сказать.
– Хлебца корочку, подайте Христа ради, – вдруг затянула Ксения тоненьким голоском.
– Господи Боже, – дико вскрикнул он, – и не подумал, что голодная ты, что ведь намёрзлась да в брюхе пусто. Погоди, счас, счас... Всё словами угощаю.
И забил в ладоши, призывая слуг. Забегали, захлопали дверями, натащили высоких серебряных мис, больших горшков с мясами, подносов с пирогами.
– Садись, отведай, – поклонился он ей в пояс и сам присел возле стола, уставленного рождественскими яствами.
Ксения вскочила, повернулась боком к зеркалу, высунула язык, задрала подол, выставила голое бедро. В зеркале отразилась высокая белая нога с голубыми прожилками. Ксения ещё больше наклонилась, так чтобы и Степану виден стал её голый зад.
– Тьфу, прости, Господи, – не удержался он от смеха и смущения, – что-то ты, ну и баба, прости, Господи...
И выскочил за дверь.
– Ничего, теперь небось не уйдёшь, – бормотал он, а в глазах стояло белое её бедро с голубыми жилочками...
Всю ночь он проворочался без сна. Снова и снова вставала перед ним Ксения. Молодая, тогда ещё во всей своей девичьей красе, в белом наряде невесты. Сияли золотом образа в церкви, тёмные лики икон выступали из сияния, сумрачные и торжественные. Золотые ризы священников сверкали так, что глазам становилось больно от этого блеска. Церковь полна народу. Съехалась вся родня Петровых и родня невесты, яблоку негде упасть в приделах и в главном помещении храма.
Степан держал венец над головой невесты и видел только её сверкающие волосы, скрытые туманной дымкой фаты. Высокая, только на самую малость ниже Андрея, статная, белокожая, с розовыми пятнами на щеках – такой и запомнилась она Степану. Такой видел он её в каждом своём сне, такой видел наяву.
Такой он хотел бы видеть её и теперь, уже с ним под венцом. Всё то сияние всегда стояло в его глазах. И он знал, что сияние исходило от неё, не от сотен свечей в гигантских паникадилах храма, не в тысячах крохотных огоньков, зажжённых перед образами, не от трепетных огоньков лампад.
Так и стояла перед его взором полыхающая внутренность церкви...
И он предвкушал своё венчание теперь, сегодня уже. Все распоряжения дал, чтобы всё сияло так же, как в тот час, когда он вдруг понял, что только от одной женщины на свете может исходить это сверкание и блеск.
Едва только окна дворца посерели, он вскочил и приказал запрягать.
И тут до его слуха донёсся колокольный звон – в это рождественское утро колокола благовестили не весёлую рождественскую трель, а выбивали похоронную музыку.
Густой и тягучий колокольный звон вонзился в уши щемящими трелями, уханьем больших басовых колоколов, плыл над утонувшим в рассветных сумерках городом безрадостно и тревожно, напоминая людям, что всё на свете тлен и суета, что даже в это праздничное утро никто не способен бороться с судьбой.
Похоронный звон возвещал городу, что праздника не будет, что его ждёт тихая и строгая печаль, слёзы уныния и извечной тоски.
Степан не поверил собственным ушам. Что это? Ведь Рождество, светлый праздник Христа. Неужели предвестие горя, неужели несбыточны его светлые мечты о сиянии в церкви, о золотых венцах над головами его и Ксении? Неужели Бог даёт ему знак? Сердце его затрепетало. Он бросился к окну, раздёрнул тяжёлые бархатные занавеси, попытался открыть заколоченные на зиму окна.
Похоронный звон не смолк, стал ещё явственнее.
«С ума я схожу, что ли», – мелькнула и пропала мысль.
Прямо в ночном белье, едва накинув халат, он выскользнул на лестницу, торопясь, отомкнул тяжёлую входную дверь.
На крыльце оглушило его медленным, спокойным звоном. Не было никакого сомнения в том, что все церкви благовестили не к празднику, а к отпеванию, к похоронам, к могильному покою.
Он всё ещё не верил себе. Медленно вернулся в покои, призвал старого слугу.
– Ступай, Федька, – приказал он бодро, не поворачиваясь лицом к слуге, – послушай, звонят ли уже к заутрене...
Заспанный, едва приведший себя в порядок слуга обеспокоенно выскочил за дверь, и, пока его не было, Степан расхаживал по горнице, боясь поверить в происходящее.
– Звонят, батюшка, – склонился перед ним Федька, – только чтой-то не пойму, звон, никак, похоронный... – Федька стоял перед барином белый как мел.
Степан глубоко вздохнул. От сердца отлегло. Значит, он не сошёл с ума, и этот звон на самом деле плывёт в воздухе, а не трезвонит у него в мозгу, в его голове.
– Да почему? – резко встряхнул он слугу. – Чёртова бестия, не мог узнать почему?
– Сбегаю, батюшка барин, сбегаю, – забормотал Федька, рослый пятидесятилетний дворовый, служивший ещё отцу Степана, и знавший всю его родню, и качавший его когда-то на своём остром колене.
– Живо, – вышвырнул его за дверь Степан.
А сам опять принялся расхаживать по горенке. Что такое могло приключиться, если уж и церковь против него, если даже праздник Христова Рождества замутнён похоронным плачем? Но что бы ни было, сегодня он венчается с Ксенией, пусть хоть все камни обрушатся на него, пусть сам Бог встанет поперёк его дороги.
Он вздрогнул от таких мыслей, живо перекрестился. Взглянул на тёмный лик Спасителя, стоявшего на божничке. «Прости, Господи, прости, Господи, – запросил он, кляня себя за такие мысли. – Бес, что ли, возмущает меня», – усмехнулся сам себе. Бес не бес, а всё равно мысли его всё время возвращались к Ксении. Он опять увидел её в церкви, под венцом с Андреем, всю в сиянии огней, покрытую длиннейшей туманной фатой, в белом платье, белокожую, счастливую... Как хороша она была тогда, не отвести взгляда. Он и не отводил, не отрывал от неё глаз, мать даже заметила это и вполголоса сказала ему на самой свадьбе:
– Братова жена – для тебя святая...
Он не понял её замечания тогда, он не понимал его и сейчас. Он только помнил, каким жаром обдало его, когда Андрей склонился к губам Ксении, приложился к её устам под разнузданные крики: «Горько», как больно заныло его сердце, когда они, рука об руку, уходили в брачную комнату, когда в последний раз мелькнул в дверях туманный клубок её фаты.
Дверь закрылась, и у него застыло в оцепенении сердце, упало куда-то в ноги, так что ноги ослабели и не держали его. Вся свадьба потом хохотала над ним, когда его вели по проходу между столами – он не мог идти сам. Мать и отец кричали ему, что не стоит так напиваться на свадьбе брата, но как-то в шутку; не всерьёз.
А он и к рюмке не приложился. Почти полгода пролежал он в своей светёлке, едва добираясь до окошка...
Через полгода он поднялся, но это воспоминание об ослабевших ногах мучило его долгое время, как мучило неотступное видение Ксении в белом платье невесты под венцом. Он ничего не мог с собой поделать. Снова и снова вставала она перед ним, сколько ни пытался он прогнать её видение во всём блеске своей красоты и сияния.
Потихоньку от матери и отца он ходил на богомолье, горячо молился, пытаясь вытеснить образ Ксении, но молитвы не давались ему, с ликов святых и образа Богородицы глядела на него Ксения и не давала покоя. Не давала отдыха его измученной душе.
Он был представлен ко двору, как и Андрей, получил место в императорской хоровой капелле. Все в их роду славились сильными, звонкими голосами. Вот теперь и он достиг того же чина, что был у Андрея, – полковничьи эполеты надели ему на плечи. Но что бы он ни пел, какой гимн или песню, всегда в его голосе звучала извечная тоска и мечта о Ксении. Сама императрица плакала и умилялась его голосу, его песням, снова и снова приказывала петь, жаловала поместьями, усадьбами, чинами и орденами. И может быть, потому, что в песнях Степана чудилась ей та же тоска, что снедала её, потерявшую свою первую любовь, похоронившую своего жениха и так и не пошедшую под венец. В песнях Степана слышалась ей тоска по необретённом и утраченном счастье, горе, боль и радость одновременно.