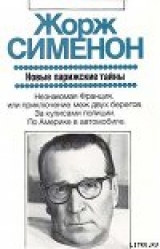
Текст книги "Новые парижские тайны"
Автор книги: Жорж Сименон
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Кстати о банкирах. Позвольте мне припомнить одно мое высказывание – возможно, наивное – того времени:
– В моих книгах не будет банкиров до тех пор, пока я не съем с одним из них за завтраком яйцо всмятку.
Жить, и, повторяю, жить интенсивно.
Жить, чтобы потом придумывать жизнь.
Жить, чтобы рассказывать истории.
Тоскуя по тому времени, я вспоминаю свою квартиру на Вогезской площади в Париже, которая когда-то называлась Королевской площадью; на ней жили кардинал Ришелье и госпожа де Севинье[80]80
Севинье Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де (1626–1696) – французская писательница. Известна прежде всего своими письмами к дочери; под ее пером эпистолярная проза стала подлинным искусством.
[Закрыть].
Воспоминания мои в основном зимние, потому что весной я удирал из Парижа куда-нибудь на природу или на море. В четыре утра я уже был на ногах. Не забывайте, за день я должен был отстучать свои восемьдесят страниц рукописи!
Нужен приключенческий роман? Я наугад раскрывал Энциклопедию Ларусса. Вот массивный, почти неведомый треугольник Африки… А почти в самом его центре район Великих водопадов… Готтентоты… Пигмеи… Неведомые растения, названия которых похожи на песню; например, если не ошибаюсь, Welchitschia Mirabelis, и уж оно-то просто обязано быть чем-то совершенно необыкновенным. Мне уже виден роман… Он будет называться «Карлики Великих водопадов», потому что я мгновенно представляю себе, как копошатся, подобно муравьям, в неустроенной, еще совсем первобытной вселенной пигмеи ростом с ребенка. Я живу в поразительном мире, и именно об этом поразительном мире требуют написать маленькие и даже не очень маленькие дети. И вот, сидя спиной к огню в доме на пышной Вогезской площади, являющейся одним из шедевров архитектуры XVII века, я проживу три дня в африканских джунглях, буду встречаться со львами, со стадами слонов и буйволов, с гориллами и гремучими змеями!
Я рассказываю истории, рассказываю их самому себе. Понимаете? Если завтра меня потянет в Азию, я напишу «Тайну лам» или «Ши Мацзин, жертвоприноситель», а потом переберусь в Тихий океан, побываю всюду, куда позволит мне забраться Ларусс, вплоть до вашей страны, где я переживу в воображении мрачную историю «Око Юты», а немного спустя еще одну – в стиле Рокамболя[81]81
Рокамболь – главный персонаж многих произведений французского писателя П.-А. Понсон дю Террайля (1829–1871). Бывший гарсон парижского кафе, Рокамболь ценой невероятных приключений прокладывает себе путь в высшее светское общество.
[Закрыть] – «Чикагские гангстеры»; там будут и небоскребы, и автоматные очереди.
Я учусь рассказывать; рассказываю, возможно, неумело, ограниченной группе читателей, которая не желает, чтобы нарушали ее привычки. Каждую неделю новый роман, и всякий раз он адресован новому читателю: сегодня пятнадцатилетним мальчикам или сентиментальным женщинам, завтра любителям острых ощущений или охотникам до экзотики. Так, не сходя с места, я объехал весь мир. И клянусь вам, мир этот был прекрасен. Он ведь был ненастоящий. Был сложен из кубиков специально для читателей, которые не желают разочаровываться.
Время от времени где-нибудь в середине главы, в диалоге или описании, я пробовал поупражняться, для самого себя, в более изощренном письме точно так же, как играют гаммы, и никто ни разу не обнаружил эти фальшивые ноты в моих народных романах. Я учился честно, терпеливо и одновременно начинал жить.
На следующий год у меня уже был автомобиль с шофером. Еще через год яхта, и теперь продукцию своего серийного производства своим литературным подрядчикам я Посылал из портов Голландии, Дании, Норвегии или Испании.
А тут мне хочется сделать вам одно признание. Не покидая Вогезской площади, я с помощью энциклопедий и атласа объездил весь мир. Но однажды – я это до сих пор помню – я приехал в Марсель, чтобы сесть там на корабль и отправиться в Африку. Я направлялся в тот самый район Великих водопадов, который с таким подъемом описывал. Но ведь известно: если едешь в Африку, нужен тропический шлем. И вот я зашел в магазин шляпника на улице Сен-Ферреоль. Он стал примерять мне шлемы.
Замечали ли вы, что нелепей всего мужчина (в отличие от женщины!) чувствует себя, когда перед тусклым экраном зеркала примеряет новую шляпу? Я стоял в городском костюме со шлемом на голове, а продавец уверял меня:
– Прямо как нарочно для вас. Именно то, что вам нужно для Центральной Африки.
Так вот в тот день я понял, что с придуманными народными романами кончено. Глядя на свое жалкое отражение, я ощутил, что завернул за новый мыс, быть может самый коварный из всех, что навсегда расстался с мечтой ради реальности, с наивностью юноши ради тревог и страхов взрослого мужчины. Этот первый мой тропический шлем, в сущности, стал моим паспортом, моим пропуском в подлинную жизнь. И если бы зеркала обладали памятью, если бы их каждую неделю не мыли, это зеркало могло бы возвратить мне облик молодого человека, который до сих пор играл с миром, а теперь наконец вступал в него.
Да, вид у меня был довольно испуганный. Я пытался изобразить улыбку, долженствующую выражать уверенность, но губы кривились от боязни заплакать, человеческого страха перед реальностью. Вспомните, что так просто и с таким предвидением говорила мне Колетт:
– Главное, никакой литературы!
Ну что ж! Тесные контакты с людьми, путешествия, даже сама моя профессия рассказчика историй, которую я начал осваивать, наполняли меня жгучим желанием помериться наконец не с надуманными драмами, а с реальностью; тогда я еще не смел говорить-с Жизнью.
Смирение пришло с возрастом. Мне было почти тридцать, и Жизнь представлялась мне этакой светской дамой, к которой я не смел подступиться с налету. Вот почему я пришел однажды к Фейару[82]82
Фейар – директор известного французского издательства, специализирующегося на публикации романов, книг по истории и религии.
[Закрыть], издателю большинства моих народных романов, и сказал:
– Я решил поднять планку.
– Как вас понять?
– Хочу после народных романов попробовать роман полулитературный.
Этот термин позабавил его, но в то же время погрузил в бездну недоумения.
– Что вы подразумеваете под «полулитературой»?
Путаясь, я попытался объяснить:
– Существует десять, а то и двадцать видов литературы, которые подобны как бы разным отделам универмага, то есть существуют лишь по молчаливому уговору между продавцом и покупателем. У каждой из этих категорий свои правила, и нарушать их запрещено по причинам коммерческой порядочности. Над всем этим возвышается чистый роман, произведение искусства, который ориентируется только на себя самого и не подчиняется никаким издательским правилам. Пока я еще не чувствую себя достаточно зрелым, чтобы подступиться к этой категории.
Роман, настоящий роман нельзя написать до сорока лет: он предполагает зрелость, а раньше этого возраста ее не достичь. Романист подобен богу-отцу, но мне пока еще далеко до этого.
Тем не менее я считаю себя способным отойти от некоторых шаблонов и создавать героев, почти похожих на живых людей, при условии, что буду пользоваться опорой, каркасом, буду опираться на поводыря, а таковым является детектив. И отныне мне хотелось бы писать для вас по детективу в месяц.
– Почему по одному в месяц?
– Потому что, по моим расчетам, этого требует мой бюджет.
– А кто мне гарантирует, что вы сможете выдержать такой темп?
– Вот вам шесть романов, написанных за три месяца.
Фейар прочел их и через неделю сказал мне:
– Я их издаю, – но тут же добавил: – Только мы идем к катастрофе.
– Почему?
– Потому что, во-первых, ваши детективы никакие не детективы. Они не научны. И не придерживаются правил игры.
– Дальше?
– Во-вторых, в них нет любви, хотя бы в той мере, в какой она допускается в детективах.
– Что еще?
– В-третьих, в них нет персонажей явно симпатичных и явно антипатичных. Ваши романы кончаются ни хорошо, ни плохо. Это катастрофично.
Все это правда. В мире не сыщешь детективов, сделанных хуже, чем мои. И все-таки Фейар их издал, до сих пор не понимаю почему. Наверное, все по той же причине – из снисходительности, которая спасла меня от исключения из коллежа, а позже от увольнения из газеты, где я служил репортером. Понимаете, эти романы были довольно низкого качества. Они представляли собой этап. В рамках, заключавших в себе достаточно много условностей, я пытался заставить людей жить.
Результат был весьма скромный. И я признаюсь вам в этом без притворной скромности. Я тогда все еще пребывал на уровне гамм. Играл, как пианист, гаммы. И все же то тут, то там я мог попробовать воссоздать атмосферу, характер.
Я написал для Фейара за определенный договорами срок то ли восемнадцать, то ли двадцать детективов. Они были переведены почти на все языки, включая идиш, эсперанто и японский. И однако, ровно через полтора года после подписания нами договора я явился к Фейару, который так никогда и не смог понять моего решения, и объявил:
– С детективами кончаю. Хватит с меня Мегрэ.
Думаю, он счел меня сумасшедшим и уж во всяком случае параноиком. Хороший коммерсант, он никак не мог взять в толк, как можно резать курочку, несущую золотые яйца. Но после всего, что я вам уже рассказал, после всех моих откровенных признаний вы, надеюсь, понимаете меня. Я чувствовал, верил, что теперь я достаточно крепок, чтобы отказаться от всех шаблонов, чтобы отбросить костыли, на которые опирался.
Я приблизился к человеку – человеку голому, человеку, стоящему лицом к лицу со своей судьбой, а он, думаю, самый главный двигатель романа.
Вспомните, что я вам говорил в самом начале о моих иллюзиях в двенадцать лет, о мечтах в шестнадцать, о честолюбивых чаяниях в двадцать. Мне хочется, чтобы вы почувствовали, что бывает призвание, которому невозможно не следовать, хотя в этом нет никакой нашей заслуги, существует некий внутренний фактор, которому невозможно сопротивляться, как нельзя сопротивляться страсти.
Этой страсти мне очень хотелось бы дать точное определение, но, как видите, я не способен говорить о ней в четких терминах, а могу лишь, прибегая к воспоминаниям, заставить вас ощутить ее; так вот, эта страсть называется любовью к человеку, к его Судьбе, к его Величию и Ничтожности, к жестокому, безмерному разрыву между его великолепными порывами и возможностями. Колетт говорила мне:
– Научитесь рассказывать историю, а все остальное приложится!
Десять лет я потратил на то, чтобы худо ли, хорошо ли научиться рассказывать истории мальчикам, швейкам, машинисткам, привратницам. Но вот пришел день, когда я, может быть, преждевременно счел себя способным на остальное и объявил:
– Отныне я буду писать просто романы.
Разумеется, мне хотелось бы разъяснить вам, что я понимаю под просто романом или, короче, романом. Но мне это трудно прежде всего потому, что я плохо подготовлен к обращению с идеями. Представьте себе, в течение двадцати лет все мои усилия, все стремления направлялись на то, чтобы использовать только материальные слова. Вот еще одно определение, которое надо бы дать и которое я не могу сформулировать. Если угодно, это слова, имеющие материальный вес, слова, имеющие три измерения, как стол, дом, стакан воды. Это кажется простым, и, по правде сказать, в начале пути меня больше всего поражало отсутствие плотности в людях и предметах, которых я описывал, и, если позволите, во всем, что пишется в двадцать лет. Кто-то, говоря о живописи, заметил:
– Идеальная, совершенная картина – это та, у которой можно вырезать в правом или левом углу кусок в десять квадратных сантиметров, и он будет представлять собой нечто прекрасное.
Эти слова преследовали меня уже тогда, когда я, неизвестный писатель по причине моих шестнадцати псевдонимов и несмотря на них, а также из-за ежедневного восьмидесятистраничного урока, ежедневно допускал тягчайшие ошибки и промахи по отношению к искусству и хорошему вкусу.
Заставить жить дерево в саду вопреки разворачивающейся рядом трагедии… Придать листьям этого дерева присущую им весомость… Кажется, я нашел нужное слово – весомость. Весомость листка бумаги, клочка неба, какого-нибудь предмета, всех тех предметов, которые в самые напряженные моменты нашей жизни приобретают таинственное значение…
Весомость электрического освещения, луча солнца, зеленоватого света, который льется из-за облаков в морозное утро; весомость всего, что вокруг – дождя, весны, жаркого солнца, солнечного зайчика на столе, да мало ли чего еще; весомость окружающих нас вещей или, если позволите использовать слово, которое со странным упорством подворачивается мне на язык, весомость Жизни.
Я не решаюсь говорить про весомость человека, а то у меня будет ощущение, что я испытываю бога. Не решаюсь говорить, но думаю, думаю все время, и мне хотелось бы одним движением губ передать все значение человеческой темы, всю драматичность столкновения человека с жизнью.
Извините. Я пробовал просто-напросто дать определение романа, как я его понимаю, а позволил себе углубиться в высокопарное плетение словес. Тем не менее именно это и есть роман, а также многое другое. Роман – это человек, человек голый, как я только что выразился, и человек одетый, человек каждодневный; иногда это жестокая драма, разыгрывающаяся между человеком голым и человеком одетым, человеком вечным и человеком определенного образовательного уровня, определенной касты или определенного исторического момента, но прежде всего это драма Человека, борющегося со своей судьбой.
Не правда ли, после всего, что я тут наговорил, не слишком легко признать себя романистом или заявить, что хочешь им быть либо стать?
Понимаете теперь мое сравнение с богом-отцом? В шестнадцать лет я объявил друзьям:
– В тридцать я напишу свой первый роман!
В тридцать же я удовольствовался тем, что сказал:
– Своим первым романом я буду считать тот, который напишу в сорок лет.
Ну а в сорок… Сейчас мне сорок два, сорок третий, и я все отодвигаю назначенный срок, потому что, чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю всю тщеславность своих притязаний.
Первый роман? Может быть, я напишу его в пятьдесят, а может быть, позже, если буду жив; только ради этого мне хочется жить, и только потому я завидую Гёте, его плодотворной старости. У него было время описать всю линию и замкнуть круг. Поэт может умереть молодым: у поэзии нет возраста, она входит в нас с отрочества, если не с детства; да что я говорю, она связана тайными узами с детством. Роман же – это бремя, это вселенная, которую могут держать только сильные плечи.
Вы хотите, чтобы я вам рассказал, как я пишу роман? Вынужден предупредить, что это ни в коем случае нельзя воспринимать как рецепт, поскольку у каждого автора свой метод, отвечающий его темпераменту или, если использовать слово, которое я не очень люблю, его вдохновению. Пользуясь случаем, я хотел бы опровергнуть одну легенду. Меня часто свысока спрашивают:
– Вы ведь пишете быстро?
– Очень.
– Кажется, за месяц роман?
– Нет, за одиннадцать дней.
– Все правильно! Все правильно!
Мой собеседник ликует. Он меня не читал. А сейчас он получил подтверждение, что меня и не следует читать, потому что роман, написанный в одиннадцать дней, может относиться лишь к самой низкосортной продукции.
Не думайте, что я преувеличиваю. Многие критики питают подобное же предубеждение против авторов, которые пишут быстро, но это свидетельствует, что они скверно знают историю литературы. Нет, им, конечно, известно, что великий Бальзак очень часто выдавал за ночь по сорок страниц. Но они вполне способны счесть Бальзака неким чудовищем, а то и автором народных романов.
Ну, а Стендаль? Вот уж кто является, и совершенно справедливо, авторитетом для литераторов. Однако Стендаль написал «Пармскую обитель», в которой почти тысяча страниц, если я не ошибаюсь, меньше чем за полтора месяца. Гюго закончил «Марион Делорм» в девять дней, другие пьесы у него забирали тоже меньше месяца, и каждое утро, прежде чем заняться повседневными делами, он писал по сотне строк стихов.
Я выгляжу так, словно оправдываюсь. И тем не менее говорю со всей откровенностью: на мой взгляд, быстро ты работаешь или нет, не имеет никакого значения. У меня есть друзья-художники, которые пишут картину за несколько часов, а есть и такие, которые неделями трудятся над одним мотивом, но и те и другие в равной степени являются великими живописцами.
Меня часто спрашивают:
– Как вы находите сюжет?
Никак не нахожу. Я его не ищу. Я мог бы сказать, практически нисколько не преувеличивая, что сюжет меня не интересует. Давайте посмотрим. Через несколько дней я возвращусь в свой канадский дом и сяду за письменный стол. У меня просто руки чешутся писать: уже несколько месяцев я не писал, а мне это необходимо, как наркоману наркотик.
Едва я окажусь дома, мне будет очень просто войти в состояние благодати. Это выражение, которое, несомненно, вызовет у вас улыбку, единственное, какое я смог найти, чтобы определить состояние, необходимое для творческой работы. Если угодно, это своего рода бегство от реальной жизни. Накануне дня, когда нужно садиться за роман, я, как обыкновенно, прогуливаюсь и не узнаю знакомого окружения, или, верней, оно теряет для меня свою реальность, плотность. Я встречаю людей, каких встречаю обычно, и рассеянно приветствую их, если только не забуду поздороваться.
Не нахожусь ли я в трансе? Это слишком громкое слово, а я боюсь и громких слов, и громких идей. И тем не менее. Но продолжим… Вечереет… Это самое благоприятное время… Смягчаются очертания, обычный угол улицы, темный вход в дом, отблеск света на влажной мостовой – все внезапно становится неизъяснимо таинственным. Мне вспоминаются десятки городков, где я вот так же бродил; воспоминания хлынули потоком, они захватывают меня. Маленькое кафе в Дюнкерке, осенний вечер, подобные изваяниям рыбаки в зюйдвестках, блестящих от морской воды… Земля усыпана опилками, в ногах у людей лежат рыбы, оставленные на ужин… припоминается еще одна деталь: кукушка из часов… Я тогда вздрогнул: она прокуковала шесть… Запах водки, которую там называют «горлодеркой»… Кажется, это была команда маленького суденышка, называвшегося «Мари Жанна»?..
Надо пожить несколько дней с ними… Кстати, там был один тип, Малыш Луи, который, когда напивался, а напивался он каждый вечер, грыз стаканы и глотал осколки… Он ходил на парусниках к Ньюфаундленду… Полгода скудной и тяжелой жизни в море… Он сходил на берег с небольшими деньгами и всякий раз давал себе слово завтра поехать в Бретань навестить своих стариков. Однако назавтра он валялся мертвецки пьяный где-нибудь в канаве или в камере полицейского участка. Через три-четыре дня у него не оставалось ни гроша, так что о билете на поезд думать было нечего, и он подписывал новый контракт, обрекая себя на полгода матросской жизни и воздержания. Малыш Луи… Другие… Дюнкерк…
Рубильник включен. Теперь в течение одиннадцати дней я буду жить там, меня окружит толпа моих персонажей, уже искаженных временем. Но мне вполне этого достаточно, чтобы сделать их персонажами романа, поставить их в ситуацию, где они вынуждены будут дойти до предела своих возможностей.
Понимаете? Герой романа – это любой прохожий на улице, любой мужчина, любая женщина. В каждом из нас сидят инстинкты, присущие человеческой природе. Но мы подавляем эти инстинкты, по крайней мере многие из них, то ли из приличий, то ли из стыдливости, то ли под влиянием полученного воспитания, а зачастую просто потому, что у нас не бывает повода дать им волю. А герой романа пойдет до предела своих возможностей, и моя роль, роль романиста, – поставить его в такую ситуацию, когда он вынужден это сделать.
Как видите, все просто. И мне вовсе не нужно искать какую-либо историю. Мне нужны люди, живые люди в их окружении, в их среде. И небольшой толчок, чтобы они начали действовать…
С этого момента я должен просто заставлять их жить. История – это то, что они делают, причем я не способен вмешиваться в это, поскольку у моих героев, если они действительно подлинные, своя логика, и моя авторская логика тут совершенно бессильна.
Никакого плана. Несколько имен, которые я записываю на листке бумаги; дело в том, что у меня скверная память на имена. Их возраст, номера их телефонов, если они у них есть. Это реальные персонажи, и необходимо обеспечить полную их реальность. Кроме того, эти несколько дней на стене у меня висит план городка или местности. Железнодорожное расписание, так как в романе, как и в жизни, случается, ездят в поездах, и нужно, чтобы это были подлинные поезда.
Остальное уже формальность или, верней, работа, которой я с удовольствием занимаюсь: почистить пишущую машинку вплоть до мельчайших шестеренок, смазать, заправить новую ленту, короче, подготовить машинку, чтобы она стала быстрой и красивой, словно для участия в соревнованиях.
Вот и все. Завтра я встану до рассвета и натощак, еще не стряхнув с себя тумана ночи, пойду к своему столу, где, я в этом уверен, ждут меня мои герои. Два часа спустя у меня будет напечатана глава ровно на двадцать страниц, поскольку я себя настроил именно на двадцать страниц. Такую норму я считаю очень неплохой.
Теперь я могу распахнуть настежь окна, пойти пройтись, как нормальный человек. Но не обольщайтесь этим. Все одиннадцать дней, пока идет работа, вы встречаете не меня, а Малыша Луи или кого-то другого, чьей походке я бессознательно подражаю, а нередко и перенимаю привычки. Да, да! Вплоть до рюмашек «горлодерки» при том, что я почти не пью.
Вот, дамы и господа, все, что я хотел рассказать вам – просто и откровенно.
Я, как и обещал заранее, говорил в основном о себе, за что и прошу у вас прощения, но, главное, прошу понять: если я так делал, то лишь потому, что ничего другого и не мог сказать.
Роман – это не просто искусство, а уж менее всего профессия. Прежде всего это страсть, которая целиком овладевает вами и порабощает.
Наконец, это потребность; возможно, потребность убежать от себя, жить, хотя бы некоторое время, по своей охоте в мире, по своему выбору.
И кто знает, не является ли он к тому же – и главным образом – способом избавиться от своих призраков, дав им жизнь и вытолкнув в мир?
Вот, без сомнения, причина, по которой не выбирают, каким быть героям – веселым или грустным, беспокойным, мрачным или безмятежным.
Итак, роман – все это вместе, а для того, кто его пишет, он еще и Освобождение.
Так что теперь вы понимаете, что романист ни о чем другом и не способен говорить?








