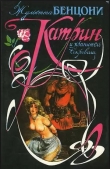Текст книги "Детство и юность Катрин Шаррон"
Автор книги: Жорж Клансье
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Часть пятая. Королевская фабрика
Глава 44
Старая глициния раскинула свои мощные узловатые ветви вдоль красных кирпичных стен фарфоровой фабрики. По утрам, прежде чем войти в мастерскую, Катрин радостно смотрела на синие кисти цветов: синие, словно глаза отца, словно небо в это жаркое летнее утро, так манившее убежать на весь день в поля, до первых вечерних звезд. Сладковатый запах цветочных гроздьев упрямо преследовал ее, будто хотел сказать: «Смотри, какая чудесная погода, Кати!
Это же лето, лучшая пора года». Катрин и сама видит, что летний день прекрасен. Но фабричный колокол начинает громко звонить; язык его раскачивает за веревку все тот же горластый краснолицый сторож, и рабочие бегут сначала к зданию фабрики по красно-белой дороге, а потом по просторному, тоже красно-белому двору, красному от глины и белому от фарфоровой пыли. Сторож на ходу наподдает мальчишкам, которые, по его мнению, не слишком торопятся войти в мастерские.
Орельен предупреждал ее: «Фабрика немного похожа на школу».
И верно, Катрин взяли сюда ученицей. Она обучается ремеслу, все время опасаясь, что слишком медленно усваивает его, и с нетерпением ждет того дня, когда ее наконец переведут из учениц в работницы.
Катрин поступила на фабрику по рекомендации дядюшки Батиста. Старый мастер здесь сила: он лучший формовщик во всей Ла Ноайли, и ему по сей день не могут найти достойного преемника. Поэтому слово его имеет немалый вес у хозяина фабрики господина де ла Рейни. Дядюшка Батист без труда получил у него разрешение, чтобы Катрин приняли ученицей в формовочную мастерскую.
Фабрика вызывала у девочки смешанное чувство страха и восторга. Страха перед машинами, их мощью, грохотом и стремительным движением; страха перед множеством незнакомых людей, которые кричали, смеялись, ругались и были так непохожи на ее отца и других крестьян; страха перед работницами, вечно готовыми позлословить и позубоскалить, страха перед другими учениками, которые, подражая взрослым, старались казаться задиристыми и заносчивыми.
Но страхи Катрин таяли с каждым днем. Она еще испытывала их в ту минуту, когда под звон фабричного колокола входила в мастерскую. Но стоило ей усесться на свое место, как она начисто забывала о терзавших ее опасениях. Более того, ее охватывала неподдельная гордость, которая согревала сильнее, чем солнечные лучи, падавшие сквозь пыльные стекла высоких окон, – гордость от сознания, что она принадлежит к этому новому миру, «миру труда, миру будущего», как сказал ей с пафосом, громко стуча кулаком по столу, дядюшка Батист в тот памятный вечер в доме-на-лугах, когда он уговорил ее стать ученицей на фабрике. Катрин училась наполнять металлические формы каолиновой массой и немного погодя, раскрыв форму, словно двустворчатую раковину, доставать оттуда тонкие, изящно выгнутые ручки, которые она затем проворно приклеивала к чашкам, выстроившимся перед ней рядами на низеньком столике. Первое время Катрин накладывала в форму слишком много массы, и каолин вытекал из створок, что неизменно вызывало едкие замечания со стороны работницы, руководившей обучением Катрин. Тетушка Трилль, женщина лет пятидесяти, с всклокоченными волосами и редкими зубами, имела дурную привычку кричать и браниться из-за всякого пустяка. Дядюшка Батист предупреждал Катрин: «Пусть дерет горло сколько влезет, не обращай внимания. Но она славная женщина, вот увидишь!» Старый рабочий оказался прав. Катрин поняла это, когда тетушка Трилль, ворча и брюзжа, добавила к чашкам Катрин дюжину собственных готовых чашек.
– Но, мадам Трилль, это же ваши чашки!
– Тебе что за дело? – прорычала тетушка Трилль.
Благодаря влиянию дядюшки Батиста хозяин фабрики, господин де ла Рейни, обещал платить Катрин за работу, хотя она числилась ученицей, а ученики на фабрике жалованья не получали. Катрин платили одно су за каждую дюжину сделанных чашек, но, если она разбивала чашку или ручку, с нее вычитали их стоимость. Поэтому на первых порах движения девочки казались иной раз слишком осторожными.
– Ты что, чашку в руках держишь или святое причастие? – спрашивала ее насмешливо тетушка Трилль. И добавляла: – При такой быстроте, девка, миллионершей тебе не стать!
Придвигая дюжину своих чашек к Катрин, тетушка Трилль обычно делала такое свирепое лицо, что девочка не смела даже поблагодарить ее за щедрый подарок. Если же она все-таки пыталась сказать «спасибо», старая работница принималась ругать на чем свет стоит нынешнюю молодежь, «которая не умеет и никогда не научится работать как следует». Поэтому Катрин почитала за благо отворачиваться в сторону, если замечала, что тетушка Трилль собирается придвинуть к ней несколько готовых к обжигу чашек. Когда же девочка решалась наконец бросить на старую работницу робкий взгляд, та уже улыбалась ей во весь свой беззубый рот.
Катрин думала о медных су, которые Орельен выпрашивал для нее на церковной паперти, о белом хлебе и сладостях, которые Аделаида Паро оставляла для нее в потайном месте, о «дарах природы» крестной Фелиси, а теперь вот об этих чашках, которые явно сокращали заработки тетушки Трилль… Она вспоминала застенчивые жесты, когда они, эти добрые люди, протягивали ей свои подарки, и, сама не зная почему, начинала думать о первых птичьих песнях, еще неуверенных, словно погода в начале весны, и вместе с тем прекрасных, словно хрустальный звон мартовской капели…
– Кто только сосватал мне эту разиню? Ты что, спишь, милочка моя?
Трубный голос тетушки Трилль обрушивался на Катрин словно грохот барабана. Очнувшись от своих мечтаний, девочка смущенно разглядывала стоявшую перед ней чашку, к которой она приклеила ручку не тем концом.
Тетушка Трилль возмущенно пожимала плечами и придвигала к юной ученице пару собственных чашек.
– Карман твой все равно пострадает, – говорила она, стараясь перекричать грохот шкивов и приводных ремней. – Испорченная чашка стоит дороже двух дополнительных, которые запишут на твой счет. – И скрипучим голосом, словно отвечая на чей-то молчаливый упрек, добавляла: – Э, что ты хочешь? Не могу же я отдать тебе все свои чашки, а к ним еще сорочку в придачу!
Притворный гнев тетушки Трилль улетучивался как дым, и, добродушно смеясь, она заканчивала:
– Ну, малютка, за работу!
Катрин старалась изо всех сил, проворно и ловко приклеивая к чашкам из необожженной глины ручки, которые она вынимала из металлических форм.
Закончив дюжину чашек, девочка брала их снова одну за другой и узкой тупой лопаточкой снимала натеки фарфоровой массы в тех местах, где она только что приклеила ручки.
– Одно удовольствие глядеть, как ты работаешь, – говорила ей тетушка Трилль, широко улыбаясь беззубым ртом.
* * *
Катрин любила свою работу, но ничуть не огорчалась, когда тетушка Трилль посылала ее с каким-нибудь поручением в другую мастерскую. Испокон веку на фабрике считалось за правило, что ученики обязаны выполнять мелкие поручения мастеров, к которым они приставлены. Тетушка Трилль иной раз тоже просила свою юную ученицу оказать ей небольшую услугу: то отнести завтрак приятельнице, то дать знать в соседнюю мастерскую, что запас готовых чашек у них на исходе.
– Берегись приводных ремней! – кричала вслед Катрин старая работница. И не слушай глупостей, которые будут говорить тебе мужики и парни!
Девочка уже бралась за ручку двери, а тетушка Трилль продолжала выкрикивать свои наставления:
– Да не мешкай по дороге!
– Повезло тебе, Кати, – говорили Катрин другие работницы, когда девочка проходила мимо. – Повезло тебе! Когда тетка Трилль посылает тебя с поручением, она делает для тебя чашки, и ты ничего не теряешь. А вот другим ученикам такого счастья нет!
Несмотря на это, ученики и ученицы, которых Катрин встречала иногда на пути, отнюдь не спешили вернуться к своим местам; они делали вид, будто торопятся, лишь тогда, когда попадались на глаза начальству. Если же поблизости никого из мастеров не было, ученики толпились, приоткрыв от восхищения рот, перед калибровщиками или точильщиками; ждали, когда живописцы начнут распевать свои романсы, обменивались шуточками, сплетнями и новостями, а также сокровищами, которыми были набиты их карманы: обрывками бечевок, шариками, бракованными чашками, коробочками, где шуршали пленные кузнечики или жуки. Катрин не брала с них пример. Напрасно ребята подзывали ее к себе: она не останавливалась, даже не поворачивала головы.
Ничто не ускользало от ее внимания в том величественном и захватывающем дух зрелище, которое представляли собой фабричные мастерские. Зрелище это вызывало в воображении Катрин образ какого-то сказочного великана, надсаживающегося, кряхтящего, ухающего, шумно дышащего, от усилий которого рождались, как ни странно, все эти хрупкие, словно венчики цветов, фарфоровые вещички. Месильщики ходили тяжелыми и ровными шагами по дну огромного чана, наполненного белой глиной, которую они разминали и месили своими тяжелыми сабо без каблуков; формовщики вступали в единоборство с упругой каолиновой массой, которую они сжимали и сдавливали руками, придавая ей нужную форму; на обнаженных руках калибровщиков вздувались буграми и твердели мускулы, когда они стремительно и точно опускали рычаги своих тяжелых прессов; прокопченные до черноты горновщики с покрасневшими глазами и обгоревшими ресницами – оттого, что они слишком долго всматривались в раскаленную добела глубину обжигных печей, – казались выходцами из самого ада. Но какими бережными и легкими становились движения этих грубых, мускулистых людей, когда они брали в руки и рассматривали на свет готовую чашку или вазу! А с какой небрежной, почти жонглерской ловкостью переходили из одной мастерской в другую носильщики, держа на плече широкие и длинные доски, сгибавшиеся под тяжестью тарелок, чашек и ваз!
В самом дальнем конце фабричного здания было небольшое помещение, куда Катрин редко приходилось заглядывать. Если же тетушка Трилль посылала ее туда, она еле сдерживалась, чтоб не объявить попадавшимся навстречу ученикам: «Я иду в живописную!» Живописная была самой маленькой из мастерских, но значение ее в жизни фабрики было огромно. Именно здесь самые прекрасные и совершенные по форме изделия обретали законченный вид; их хрупкость, блеск и прозрачная белизна как бы получали новую жизнь, расцвечиваясь радужными переливами красок. Бабочки и стрекозы, листья и травы, розы и анютины глазки возникали, словно по волшебству, под кистью главного живописца фабрики господина Пардалу. Длинные волосы, очки на кончике носа, пышный бант галстука, бархатный костюм и полный достоинства вид-все изобличало в господине Пардалу художника, единственного работника фабрики, которого все остальные, от мала до велика, величали «мосье». Он царил – величественный и добродушно-снисходительный – над остальными работниками живописной мастерской: двумя женщинами средних лет и учеником Полем Дегайлем, долговязым рыжим парнем, всячески старавшимся подражать своему наставнику в одежде и в манерах. Расписывая фарфор, Поль Дегайль тоже пытался копировать букеты и гирлянды, которыми господин Пардалу украшал свои тарелки, чашки и вазы. Но розы; фиалки и маки, которые под кистью старого художника рождались живыми, словно обрызганными утренней росой, превращались у его ученика в искусственные цветы. Что касается двух пожилых «живописок», то их работа была несложной: поставив на круг готовую тарелку, они запускали круг и кончиком кисти наносили на край тарелки тоненький, идеально ровный золотой ободок. Мосье Пардалу всегда с неизменным мастерством разрисовывал фарфор цветами и узорами. Но в иные дни можно было подумать, что все мастерство, весь блеск его таланта сосредоточены только в его кисточках, которые словно сами по себе расцвечивают белый фарфор линиями и красками; сам же творец выглядел мрачным, еще более желтым, чем обычно, и словно бы отсутствующим. Зато в другие дни живописец сопровождал каждое движение своей кисти замечаниями, восклицаниями, смехом и вздохами восхищения или принимался распевать фальшивым, но сильным голосом диковинные песни, содержание которых было малопонятно Катрин: речь в них шла о королях и тронах, о девушках и рыцарях, о сатане и тавернах. Поль Дегайль, ученик живописца, не желая отставать от учителя, подтягивал ему в унисон или, если мосье Пардалу приказывал, исполнял с ним дуэт за дуэтом с таким жаром, что Катрин только диву давалась.
Несмотря на восхищение, которое вызывали у Катрин и у других учеников сам мосье Пардалу, его работа и его мастерская, был на Королевской фабрике еще один мастер, перед которым ребята испытывали еще больший восторг, граничащий с преклонением, – это был дядюшка Батист. В отличие от кокетливой претенциозности мосье Пардалу, дядюшка Батист выказывал полное пренебрежение к своему туалету и манерам. Ему даже нравилось подчеркивать свою неряшливость, а порой и неопрятность, вольность высказывании и грубоватый юмор. Долгое время Катрин, не поверяя никому своих сомнений, считала старика вруном и бахвалом, вороной в павлиньих перьях. «Как может, – думала она, – этот грубый человек, который вечно ругается, брюзжит, плюется, стучит кулаком по столу и кричит, – как может этот горлодёр и грубиян создавать тончайшие, почти невесомые, прозрачные и хрупкие, словно мыльные пузыри, чашки и вазы?»
В тот день, когда тетушка Трилль в первый раз послала Катрин с поручением к старому мастеру, девочка почувствовала, как краска заливает ее лицо. Как же смутится дядюшка Батист, когда увидит себя разоблаченным и вместо чудесных вещей, творцом которых он хвастливо себя называет, ему нечего будет показать Катрин, кроме топорных тарелок и блюд!
Но, войдя в помещение, где работал старик, Катрин удивилась другому: рядом с дядюшкой Батистом она увидела Орельена, вертевшего гончарный круг.
Мальчик нажимал обеими руками на рукоятку, нагибался и выпрямлялся, снова нагибался и снова выпрямлялся. Глядя на него, Катрин вдруг вспомнила белку, которую держали в детстве ее братья: проворно перебирая лапками, белка крутила колесо с таким же озабоченным и деловым видом.
Поглощенный работой, Орельен не заметил вошедшую Катрин, смотревшую в изумлении на своего приятеля. Удивление ее было столь велико, что она тут же забыла и о поручении тетушки Трилль, и о своих страхах за старого мастера.
Несколько недель назад Катрин увидела Орельена на церковной паперти, а сегодня застает его за работой, о которой он ей никогда не рассказывал; она даже не подозревала о существовании этого колеса, к которому он словно прикован… Он нагибается и выпрямляется, снова нагибается и снова выпрямляется; капельки пота выступили у него на висках и на лбу, у корней волос… Он ли вращает тяжелое колесо, или колесо тянет его за руки, а затем отпускает их, тянет и отпускает, тянет и отпускает?
Катрин шагнула вправо, чтобы разглядеть станок, который приводило в действие колесо. Это был плоский круг, похожий на большой поднос, вращающийся быстро и ровно. Тяжелые морщинистые руки дядюшки Батиста кладут на этот поднос комок каолиновой массы, старые руки, способные, как думает Катрин, создать из этого комка лишь пузатую супницу или незамысловатую чашку. Белая глина брызжет между пальцами, вздымается кверху круглой колонной; лицо, усы и блуза старого рабочего забрызганы белым, руки его теперь прижимают колонну книзу, уминают ее, округляют, и под их легким, словно ласкающим прикосновением она постепенно принимает форму… Руки, старые морщинистые руки… Но нет! – они уже больше не старые, не морщинистые, не растрескавшиеся. Они молоды – да, да! – молоды и прекрасны в своем могуществе и величии, в своих движениях – одновременно властных и нежных, придающих стройную и совершенную форму тому, что только что было комком простой глины… Иногда они раскрываются и трепещут вокруг белой колонны, словно крылья голубки, потом смыкаются вокруг нее, и от их объятий белая колонна меняет очертания: будто маленькая белая женщина с тонкой талией рождается под сжимающими ее пальцами. Еще немного – и Катрин почувствует страх перед этими волшебными пальцами, увидит кудесника и колдуна в старом, хорошо знакомом ей человеке с устало опущенными плечами и вечным окурком в уголке рта. Нет, не пузатая супница рождается на вращающемся без остановки круге, а высокая ваза на тонкой ножке раскрывается словно цветок, словно створки хрупкой морской раковины… Когда-то на уроках катехизиса аббат Ладюранти говорил им: «Бог сотворил человека из глины!» – и вот теперь дядюшка Батист своими старыми руками тоже творит чудо из этой самой глины. Руки его формуют глину по своему желанию, делают из нее все, что хотят, будто они обрели отдельную, самостоятельную жизнь, и Катрин видит только эти руки – и ничего больше.
Дядюшка Батист еле заметно кивнул головой, и Орельен тотчас же замедлил движение колеса; круг стал вращаться медленнее и наконец остановился.
Катрин не понимала, что с ней происходит; ей хотелось кричать от восторга перед этой вазой, возвышавшейся посередине круга, хотелось поцеловать сотворившие ее руки, которые отдыхали теперь на коленях старого мастера, – снова грубые и морщинистые, в глубоких царапинах и шрамах, но полные достоинства и благородства, – и вместе с тем ей хотелось уйти, исчезнуть, только бы не видеть побледневшее от стыда лицо Орельена, наконец заметившего ее. «Тебе нечего стыдиться, Орельен, ты напрасно не рассказывал мне о своей работе: я бы на твоем месте гордилась тем, что помогаю старым рукам делать их колдовскую, их волшебную работу!»
Лицо Орельена казалось осунувшимся, словно он прочитал в глазах Катрин не дружескую поддержку, а холодное презрение. Дядюшка Батист снял с круга вазу и медленно вертел ее в руках. Катрин угадывала, как щурит он маленькие, глубоко посаженные глазки, рассматривая свое новое творение.
Обернувшись, чтобы поставить готовую вазу на стол, старый мастер заметил стоявшую позади Катрин. Он посмотрел на нее внимательно, потом перевел взгляд на потупившегося ученика, застывшего в смущенной, неловкой позе.
– Эге, Кати, давно ты за нами подсматриваешь? Катрин молчала, не зная, что ответить.
– Тебя, верно, тетка Трилль послала?
Ах, верно! Катрин ведь пришла к дядюшке Батисту с поручением, но совсем позабыла о нем, потрясенная искусством старого мастера и опечаленная смущением Орельена. Когда девочка наконец собралась с мыслями и передала дядюшке Батисту поручение старухи, тот встал и усадил Орельена на свое место перед гончарным кругом.
– Ну, в чем дело? Вы что, незнакомы друг с другом? Ах, негодники!
Может, вы все-таки решитесь поздороваться? – И, обернувшись к Катрин, добавил: – Уф! Надо малость передохнуть. Пусть теперь Орельен поработает вместо меня. Он сделает для тебя чашку, сейчас увидишь!
Бледные щеки Орельена вспыхнули. Он взял комок каолина, помял его в руках, положил на середину круга и хотел было запустить круг ножной педалью, но дядюшка Батист знаком остановил его:
– Оставь педаль в покое, сынок, я покручу рукоятку.
– Вы… вы будете… – пролепетал Орельен.
– Ну да, я же сказал, что мне нужно размяться; это помогает от ревматизма.
– Но все-таки… – пробормотал снова Орельен.
– Давай занимайся своей чашкой, парень: ты подаришь ее Катрин, понял?
Ты вертишь круг для меня, могу же и я когда-нибудь покрутить его для тебя…
– Нет, нет…
Не слушая возражений, старик схватился за рукоятку и плавно пустил круг в ход. Орельену не оставалось ничего другого, как поскорее схватить обеими руками каолиновый комок и стиснуть его. И вот, крепко держа ладонями глиняный цилиндр, быстро вращающийся под его пальцами, Орельен понемногу снова превращается в того жизнерадостного мальчишку, которого так хорошо знает Катрин. Черты лица его постепенно разглаживаются, и скоро на нем не остается и следа мучительного стыда и унижения. Исчезает горькая складка у рта, губы складываются в ребячью гримасу. Делая углубление во вращающемся перед ним цилиндре, он стискивает зубы, и рот его отвердевает, придавая лицу спокойное и уверенное выражение.
«Как будто, – думает Катрин, – не он формует глину, а она формует его самого».
Дядюшка Батист старательно делает свою беличью работу: колесо крутится плавно и быстро. Ах, старая лукавая белка, ворчливая белка, милая, хорошая, добрая белочка!
Внезапно Катрин охватывает страх при мысли, что Орельен от волнения может испортить свою чашку. Девочка едва осмеливается глядеть на друга, боясь, как бы ее страх не передался ему. Она опускает глаза, чувствуя, как неудержимое и счастливое смятение овладевает всем ее существом…
– Эй дочка взгляни-ка одним глазком на этот шедевр! Дядюшка Батист держит на своей ладони чашку, простую круглую чашку, очень аккуратно и чисто сделанную. Глаза Орельена с тревогой перебегают от этой чашки к Катрин и обратно.
– Красивая чашка! – говорит она. И, одобрительно кивнув головой, повторяет:
– Да, красивая чашка, ничего не скажешь.
Орельен наконец отваживается улыбнуться.