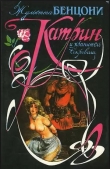Текст книги "Детство и юность Катрин Шаррон"
Автор книги: Жорж Клансье
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Глава 41
На следующий день Катрин замотала кисть левой руки полотняной тряпкой.
– Я вывихнула руку, – объяснила она.
Когда пришло время идти наверх, девочка показала госпоже Пурпайль свою перевязанную кисть и сказала, что ей не удержать поднос. Матильда долго ломалась и брюзжала, прежде чем выполнить распоряжение кухарки заменить Катрин.
– Заменить Кати! Заменить Кати! Это она заменяла меня! С какой стати я должна теперь делать эту работу за нее?
Не переставая ворчать, горничная с нескрываемым торжеством взяла поднос и отправилась с ним к голубому кедру. Так продолжалось три дня. Утром четвертого дня, когда Катрин шла через парк, к огороду, кто-то выскочил на аллею за ее спиной. Сердце у девочки ёкнуло, но она не обернулась. Через минуту позади послышались быстрые легкие шаги, и Эмильенна поравнялась с ней.
– Доброе утро, барышня, – сказала Катрин, не замедляя шаг.
Эмильенна шла рядом с ней, не отставая.
– Кати, почему ты на меня сердишься? Скажи: почему?
– Отчего бы мне на вас сердиться?
Катрин остановилась и посмотрела молодой хозяйке прямо в глаза.
Эмильенна вдруг порывисто обняла ее и поцеловала в лоб.
– Не надо сердиться на меня за тот раз, Кати… Я не сразу вспомнила…
У меня вообще плохая память… И потом, ты понимаешь, я не хотела говорить при Ксавье…
Проводив Катрин до ограды фруктового сада, Эмильенна взяла с нее обещание, что та снова будет приходить наверх.
– Да разве Матильда мне уступит?
– Матильду я беру на себя.
И Катрин стала опять подавать хозяевам полдник – то в комнату Эмильенны, то в сад, где с наступлением теплых дней господа проводили все больше времени.
* * *
По воскресеньям Катрин не могла удержаться, чтобы не рассказать домашним об Эмильенне и ее семье.
– Тебе-то какой в том прок? – ворчливо спрашивал Франсуа. – Легче тебе, что ли, жить оттого, что у твоей красавицы целых два десятка платьев и столько же ботинок?.. В нашем супе от этого не прибавится сала, а твои сабо останутся такими же стоптанными, как были.
– Франсуа прав, – подхватывал Орельен. – Люди с Верха – это люди с Верха.
Пусть похваляются, сколько душе угодно, своими нарядами, своим городским говором и прочими штучками.
Обычно спокойный и сдержанный, Орельен произнес эти слова с горечью, удивившей Катрин.
– Но есть же среди них и хорошие люди, – возразила она, – они помогают бедным, подают милостыню…
Орельен внезапно покраснел до ушей; его серые глаза потемнели.
Сдавленным голосом он ответил:
– Ах, милостыня! Ну, она им ничего не стоит, милостыня! А вот тем, кто ее принимает, обходится недешево…
– Не понимаю…
– Извини меня, Кати! В самом деле, нечего об этом и говорить. Извини, пожалуйста!
Потом, когда Орельен передал Катрин, как всегда украдкой, свой обычный воскресный дар, она спросила, не следует ли ей оскорбиться, принимая от него милостыню.
– Не говори так, Кати, – умоляюще сказал мальчик. – Это совсем не милостыня, ты сама прекрасно знаешь…
– Скоро я расскажу тебе, Орельен, на что пойдут эти деньги.
– Какое мне дело? Это твои деньги. Не думай никогда, что я дал тебе их.
Жан Шаррон, напротив, был всегда на стороне Катрин, когда та превозносила до небес добродетели Дезаррижей.
– Оставьте девочку в покое, – говорил он с сердцем, – она правильно делает, что хвалит своих господ, раз они добры к ней.
Если дядюшка Батист присутствовал при разговоре, он принимался насвистывать с насмешливым видом.
– Добрые господа и молочные реки с кисельными берегами – это из одной и той же сказки, – говорил он, язвительно усмехаясь.
Все смеялись, кроме Катрин. «Значит, они всегда будут ненавидеть Эмильенну», – думала она. Даже подруга Катрин, кроткая Амели Англар, и та упрекала ее в явном пристрастии к господской дочке.
– Эти люди – одна спесь, – говорила она, – вот увидишь, Кати! Когда ты им больше не понадобишься, они укажут тебе на дверь и никогда не вспомнят, что были с тобой знакомы.
* * *
Однажды, сидя напротив Эмильенны в тени голубого кедра, Катрин сказала:
– Если бы Обен не упал с сеновала и не разбился насмерть, что с ним стало бы? Может, на него, как на моего отца, обрушились бы разные беды, и он, как отец, уже не был бы больше ни красивым, ни сильным… – Понизив голос, она продолжала: – Он, конечно, скоро бы понял, что жениться на вас ему невозможно… Наверное, для него лучше было умереть молодым…
Эмильенна побледнела, губы ее задрожали. Она схватила руку Катрин и с силой стиснула ее:
– Замолчи! Замолчи сейчас же!
– Мне больно, барышня!
Эмильенна разжала пальцы.
– Прости, пожалуйста, Кати… Но ты сделала мне куда больнее…
Эмильенна долго молчала, покусывая травинки. Катрин не решалась прервать ее молчание. Наконец барышня, не поднимая глаз, сказала негромко:
– Он был красив, твой брат… Я теперь ясно припоминаю его лицо, серые глаза, густые волосы и широкие плечи. Он показался мне старше, чем я. Было что-то застенчивое, серьезное и гордое в его взгляде. Он был в тысячу раз красивее и благороднее всех этих щелкоперов и щеголей Ла Ноайли, которые мечтают жениться на мне из-за наследства… Я это знаю. О, я предпочла бы твоего брата всем этим олухам, но как могла бы я это сделать? Когда-то, во времена революции, одна из моих прабабок убежала из дому и вышла замуж за крестьянина…
Превозмогая волнение, Катрин спросила:
– Если бы сейчас была революция, вы, может, тоже ушли бы с ним из дому?
– Да, но сейчас нет больше революции.
«Нет больше революции», – повторяла про себя Катрин. Она не очень ясно понимала значение этого слова. Ей приходилось слышать его неоднократно из уст дядюшки Батиста, который произносил его торжественно и значительно, то повышая, то, наоборот, понижая голос. На страницах журналов и альманахов, которые читал Франсуа, это слово тоже попадалось. Картинки, иллюстрировавшие текст, изображали объятые пламенем замки, развалины крепостных стен, усеянные толпами людей в красных колпаках, с пиками наперевес идущих на приступ… Отныне к этим образам в сознании Катрин прибавилась картина бегства двух молодых людей; парня в крестьянской одежде и девушки в кружевном платье, – картина счастливой любви, ставшей возможной благодаря революции.
Глава 42
На всю жизнь запомнились Катрин дни, проведенные в особняке Дезаррижей.
Однако дни эти, переполнявшие ее радостью, не мешали девочке думать о семье и о той цели, которую она перед собой поставила. И однажды вечером, когда сестренки улеглись спать, Катрин подошла к отцу:
– Папа, мне надо сказать вам что-то по секрету.
– По секрету?
Жан Шаррон сидел на низеньком стуле, вытянув длинные ноги перед очагом.
И хотя на улице стояла жара и очаг последнее время разжигали лишь для того, чтобы сварить похлебку, в золе всегда оставались два-три тлеющих уголька, на которые отец смотрел неподвижным, отсутствующим взглядом. Катрин приходилось по нескольку раз окликать его и даже дергать за рукав, напоминая о том, что время позднее и пора ложиться спать. Но сегодня слова дочери сразу же вывели его из оцепенения.
– По секрету? – повторил он удивленно, высоко подняв кустистые светлые брови.
Франсуа, строгавший кусок дерева при неверном свете коптилки, положил на место инструменты и украдкой сделал сестре ободряющий знак. Катрин помолчала минуту, собираясь с духом, и тихо начала:
– Вы знаете, папа, когда хоронили маму…
– Что? – переспросил отец. – Говори громче, я ничего не слышу!
Катрин попыталась возвысить голос, но не могла. Она заговорила почти так же тихо:
– Маму похоронили на кладбище для бедных…
Отец беспомощно развел руками и бессильно уронил их на колени.
– Иначе нельзя было, Кати…
– На кладбище для бедных могилы никому не принадлежат. Проходит время, старые гробы выкапывают и выбрасывают в общую яму…
– Зачем говорить об этом?
– Потому что я подумала: нельзя допустить, чтоб с нашей мамой поступили так. Надо сохранить ее могилу.
– А где взять деньги для этого, Кати?
– Я экономила все эти месяцы, как могла, и Франсуа тоже… и Орельен помог нам… и, кроме того, я говорила с Фелиси, с Мариэттой, с Марциалом, с Крестным и даже с дядюшкой Батистом…
Жан Шаррон испуганно затряс головой:
– Боже мой, они, наверное, подумали, что это я тебя научил. Ах, как нехорошо, как некрасиво получилось! Ты не должна была этого делать.
– Они не подумали ничего плохого, папа. Я сразу же предупредила их, что вы ничего не должны знать… Ведь вы все равно не разрешили бы мне поговорить с ними. И они сказали мне, что я права, что им тоже грустно оттого, что мамина могила не оплачена, но сами они никогда не осмелились бы заговорить с вами. У каждого в отдельности не хватало денег, и я очень хорошо сделала, придумав все это.
– Да, да, они, конечно, славные, отзывчивые люди, но все-таки это может их стеснить… Когда-то я имел возможность принимать их всех у себя, и принимать неплохо… А нынче они берут на себя заботу о моей бедной покойнице…
– Но, папа, – возразил Франсуа, – ведь мы, Катрин и я, тоже вносим свою долю. А Мариэтта, Марциал и Крестный – ваши дети. Значит, это все равно, что вы сами…
– Вы так думаете, вы так думаете… Ну, а Фелиси, а Орельен, а дядюшка Батист… Нет, нет, не могу! Вы прекрасно понимаете, что я не могу принять от них деньги…
Франсуа снова перебил отца:
– Вы обидите их насмерть, папа. Фелиси нам родственница, не забывайте этого. И Орельен, я знаю, огорчится. Ну, а дядюшка Батист не столько обидится, сколько рассердится и уж наверняка не захочет помочь мне устроиться на фабрику…
– Орельен приносит каждую неделю по нескольку су… вот уже много месяцев… Послушайте, папа, – голос Катрин дрогнул, – скажите нам «да»…
Деньги собраны, все хлопоты берет на себя Крестный… но, конечно, последнее слово за вами…
– Последнее… последнее… – повторял отец, покачивая головой; казалось, он сам не слышит, что говорит.
Катрин и Франсуа тревожно переглядывались. Отец словно забыл об их присутствии. Носком деревянного сабо он упорно ворошил золу, выискивая в груде пепла последнюю тлеющую головешку. Катрин не решалась возобновить разговор. «Мне не надо было брать деньги у Орельена, – думала она. – Отец не может согласиться именно из-за него да еще из-за дядюшки Батиста. Это Франсуа настоял, чтобы я поговорила со стариком… Но должен же он понять, что деньги Мариэтты, Крестного, Марциала, Фелиси и даже дядюшки Батиста – это не милостыня, это знак их глубокого уважения и любви к маме…»
Катрин шумно вздохнула, откашлялась; Франсуа постукивал рукояткой ножа о стол. Напрасные усилия: отец не пошевельнулся. Оробевшие дети не рискнули даже пожелать ему спокойной ночи и молча улеглись спать.
На следующий день вечером, за ужином, разговаривали только Клотильда и Туанон. Обычно, если они болтали слишком громко, Катрин приказывала сестренкам замолчать. Но сегодня никто не обращал внимания на их болтовню, и девочки, разумеется, не преминули этим воспользоваться. Они не умолкали ни на минуту, смеялись, ссорились, капризничали. Старшая сестра видела все, но не останавливала их. «Здоровые, крепкие девчонки с отменным аппетитом, думала она, – настоящие маленькие чертенята! А если бы отец не послушал меня, они были бы теперь тихими, бледными сиротками из монастырского приюта… Так почему же отец не хочет согласиться со мной и на этот раз?»
Катрин убрала со стола, вымыла посуду, поставила ее в буфет и уложила спать расходившихся сестренок. Из спальни долго доносились их возня, визг, приглушенные взрывы смеха. Когда в доме наконец наступила тишина, отец негромко спросил:
– Они уснули?
Катрин на цыпочках подошла к постели, бросила взгляд на спящих девочек:
– Посмотрите на них, папа.
Отец поднялся со стула, приблизился к кровати. Улыбка осветила его худое, усталое лицо.
– Да, хороши… Ты была права тогда, Кати… Если бы мы отдали их в приют…
Он вернулся в кухню и уселся на свое место перед очагом.
– Что я должен сделать для того, чтобы… для того, о чем вы говорили вчера?..
Прежде чем ответить, Катрин бросила быстрый взгляд на брата. Тот чуть заметно кивнул ей.
– Вам надо повидать церковного сторожа, папа. Он уже знает обо всем…
Сторож сказал, что вы должны поставить два креста вместо подписи на бумаге, которую он вам даст. А Крестный оформит все остальное и внесет деньги. Они уже у него.
Глава 43
Две недели спустя Катрин случайно обнаружила, откуда берутся медные су, которые Орельен вручает ей тайком каждое воскресенье. Теперь, когда могила матери была оплачена и покрыта вытесанной из серого гранита плитой с ее именем, Катрин решила не принимать больше от Орельена его приношений.
– Не надо давать мне денег, – говорила ему она. – Яйца и овощи, которые ты приносишь, стоят дорого. И это просто глупо. Ты видишь, что теперь я сама могу прокормить и сестренок и Франсуа. Ты добрый, Орельен, но лучше побереги эти деньги для себя: они нужны вам не меньше, чем нам. Зачем тратить их на ерунду?
– Да они мне ничего не стоят, Кати: поработаешь маленько вечером, после фабрики, – вот и все. Хозяева расплачиваются со мной яйцами или овощами. А иногда деньгами. На что они мне? Лучше буду отдавать их тебе.
– Нет, нет, спасибо! Ты уже помог мне собрать деньги на мамину могилу, а теперь хватит. Теперь копи, деньги для себя.
Но Орельен заупрямился, и Катрин поняла, что своим отказом крепко обидит друга. И девочка по-прежнему брала у него Деньги и складывала их в тайничок под кирпичом очага. Она дала себе слово не трогать эти деньги и когда-нибудь, при случае, вернуть их Орельену.
Однажды вечером, в конце мая, Катрин задержалась на работе дольше обычного. У господ был званый обед, и госпожа Пурпайль заявила, что нуждается в ее помощи. Девочка старалась изо всех сил.
– Вот уж кто умеет работать! – приговаривала толстуха, раскрасневшаяся от жары и волнения. – Не то что ты, дражайшая моя Матильда!
Горничная бросала на Катрин яростные взгляды. С того дня, как девочка стала носить господам полдник, Матильда затаила злобу против Катрин.
Временами она даже изрекала по ее адресу туманные угрозы: «Ничего, скоро всему этому придет конец – мадемуазель Рашель обещала мне». Катрин не обращала внимания на эти враждебные выходки и прилагала все усилия, чтобы делать свое дело как можно лучше и быстрее! Госпожа Пурпайль, явно благоволившая к маленькой служанке, не раз говорила ей: «Матильда не столь зла, сколь глупа, Кати. Если бы не эта змея Рашель, которая вечно ее подзуживает, Матильда при ее лени была бы только рада, что избавилась от лишних хлопот».
Около девяти часов госпожа Пурпайль поблагодарила Катрин за помощь и сказала, что теперь управится сама. Катрин надела свои сабо и попрощалась.
Проходя по саду, благоухавшему сиренью, жасмином и розами, девочка замедлила шаг. Из распахнутых настежь окон парадных комнат доносились громкие, оживленные голоса, смех, звон посуды. Катрин ужасно хотелось заглянуть хоть одним глазком в столовую, чтобы узнать, кто так громко говорит и весело смеется.
Со стороны конюшен послышался скрип гравия под чьими-то тяжелыми шагами. «Это Клемент», – подумала Катрин и бросилась к воротам, опасаясь, что кучер заметит ее и насплетничает Матильде: «Маленькая Шаррон подслушивала под окнами в саду».
На улице было еще светло. Вдоль всей Городской площади пышно цвели акации. Вокруг беседки для оркестра прогуливались, заложив руки за спину, несколько пожилых горожан. За оградами садов и парков звенели молодые, веселые голоса. Женский голос крикнул: «А ну, дети, пора спать!» Ласка, прозвучавшая в этом мягком голосе, наполнила сердце Катрин острой тоской.
За Городской площадью на пути Катрин не встречались больше богатые особняки с высокими фасадами, узорными решетками и каменными оградами. Но и здесь, в тишине весеннего вечера, сидели у окошек или на крылечках домов лавочники, ремесленники, прачки, швеи, которым Катрин, проходя, желала доброго вечера, а они отвечали приветливой улыбкой. Весенний воздух был так мягок, последние лучи уходящего дня так теплы, что Катрин невольно замедлила шаг. Ей не хотелось спешить, и она решила идти окольной дорогой, по узкой улочке, выходившей прямо к церкви святого Лу. Уже издали она увидела богомольцев, выходивших поодиночке из дверей храма. Черная колонна воспитанниц монастырского приюта появилась на паперти; одна монахиня возглавляла безмолвное шествие, другая замыкала его. У. самого входа в церковь стоял, сгорбившись и протянув руку, мальчик-нищий. Кое-кто из проходивших мимо верующих, клал ему на ладонь медную монетку; другие отворачивались, делая вид, будто не замечают протянутой руки. В такие мгновения Катрин страдала за нищего. «Как ему, должно быть, стыдно, когда они шагают мимо и не замечают его!» Толстая дама остановилась у входа, вытащила из-под пышной верхней юбки кошелек, достала монету и положила ее на ладонь мальчика. «Но ему, может, еще стыднее, когда подают…»
Вдруг Катрин вздрогнула и замерла на месте. Бессознательным движением она запахнула на груди косынку, словно струя ледяного ветра внезапно пронизала ее до мозга костей. И хотя в теплом воздухе не ощущалось ни малейшего движения, и вечерняя свежесть ближних полей не долетала сюда, девочка почувствовала, как смертельный холод охватывает ее с головы до ног: в молодом нищем она вдруг узнала Орельена! «Нет, нет, не может этого быть!
Орельен давно спит в своей лачуге или помогает какому-нибудь огороднику пропалывать грядки. Орельен слишком горд, чтобы просить милостыню!»
Медленно, как во сне, Катрин двинулась дальше. Теперь верующие выходили из церкви целыми группами и то и дело заслоняли от нее нищего. Подойдя к паперти, Катрин подумала: «Хоть бы его там уже не было!» Но нет, он стоял на месте, стоял согнувшись, словно у него был горб, и все так же униженно протягивал руку. Чувствуя, что не в силах пройти мимо, Катрин прислонилась к стене у дверей какого-то дома. Отсюда, никем не замеченная, она могла наблюдать за тем, что происходило у входа в храм.
Да, сомнений больше нет: это действительно Орельен, это он просит милостыню, тот самый Орельен, который краснеет от гнева, когда говорит о милосердии богачей! Орельен, который каждое воскресенье приносит ей медные су! Катрин словно оцепенела от изумления, раскаяния, гнева, печали и странного чувства, которое не могла ни понять, ни назвать. Была ли то тревога? Или смутное восхищение? Пожалуй, и то и другое, но сплетенные так тесно, что разъединить их было невозможно. «Стыдно!.. Ах, как мне стыдно – и за него… и за себя!»
Последние прихожане выходили из церковных дверей; одна из женщин вернулась назад и подала Орельену милостыню.
Катрин показалось, что она слышит его униженное «спасибо». Как он должен ненавидеть этих благодетелей!
Нищий подождал еще минуту, но больше никто не появлялся в дверях храма.
Тогда он выпрямился и провел рукой по лицу.
Перед Катрин снова стоял прежний Орельен, такой, каким она знала его столько лет: прямой, стройный, серьезный. Он спустился с паперти, остановился, пошарил рукой в кармане, достал собранные монеты, пересчитал их, снова засунул в карман и пошел не спеша по улице. Когда он поравнялся с дверью, за которой пряталась Катрин, девочка окликнула его. Он вздрогнул, как от удара, и побледнел.
– Я заходила сюда по поручению хозяев, – сказала она. Орельен помолчал минуту, еще не опомнившись от неожиданности, и пробормотал:
– А я решил прогуляться перед сном; погода уж больно хороша.
Они шли рядом по улице и молчали. «Сказать ему, что я видела?» – думала Катрин. Но если она скажет, решится ли Орельен показаться ей когда-нибудь на глаза? А если не скажет, то ложь эта всегда будет стоять между ними, как стена, и тогда… тогда им лучше совсем не видеться. Дойдя до Ла Ганны, Орельен спросил:
– Ты только что вышла из тех дверей, когда окликнула меня?
– Да. А почему ты спрашиваешь?
– Просто так. И долго ты пробыла у этих людей?
– Не знаю. Точно не знаю.
– Народ уже выходил из церкви?
– Нет еще.
В сгущавшихся сумерках Катрин показалось, что лицо ее спутника теряет понемногу свое напряженное выражение. Он торопливо заговорил о работе на фабрике, о Жюли, которая с каждым днем становится кокетливее, о соседях по Ла Ганне…
Катрин не мешала ему говорить: она просто не слушала его. Скоро они расстанутся, думала девочка, и если она не соберется с духом и не скажет Орельену правду, дружбе их придет конец… У поворота на тропинку, которая вела к дому-на-лугах, они распрощались.
– До воскресенья, Кати!
– До воскресенья.
В это воскресенье она ни за что не возьмет деньги, которые он захочет ей отдать. Но если она промолчит сегодня, Орельен будет каждый вечер, до самого воскресенья, стоять на паперти с протянутой рукой. И в этом будет ее, только ее вина!
Сделав несколько шагов по тропинке, Катрин вдруг обернулась:
– Орельен!
Но крик застрял у нее в горле. Орельен, конечно, ничего не услышал.
Катрин побежала обратно. Она спотыкалась о камни, колючие ветви кустарников хлестали ее по лицу и рукам. Ее удивляло, что она никак не может догнать Орельена; наверно, он тоже бросился бежать от того места, где они расстались. Катрин остановилась, снова крикнула. Далеко впереди послышался голос Орельена. Она снова кинулась вперед. Теперь она отчетливо слышала, как он кричит: «Я иду! Я сейчас!» И внезапно Орельен возник перед Ней. Оба запыхались от быстрого бега и тяжело дышали.
– Что случилось? Ты напугала меня, Кати. Ты ушиблась?
Что сказать ему теперь? Позвать человека обратно ночью для того, чтобы заявить: «Я видела, как ты просил милостыню у церковных дверей», бессмысленно, грубо, жестоко. Она сказала:
– Я видела, как ты просил милостыню у церковных дверей.
На тропинке, окаймленной с обеих сторон высокими живыми изгородями, царила темнота. От этого Катрин было легче говорить: ей казалось, что и для Орельена так лучше – мрак скрывал его унижение. Но голос его, когда он заговорил, звучал глухо и хрипло:
– Я знал, что когда-нибудь попадусь, но никогда не думал, что ты первая увидишь меня…
– Мне известно, что все наши бывшие соседи по Ла Ганне ходят собирать милостыню, но ты! Отец запрещал нам попрошайничать даже тогда, когда дома нечего было есть.
Орельен молчал. Она угадывала в темноте очертания его фигуры. «Пусть он скажет хоть слово, пусть выругается, пусть рассердится – все, что угодно, только бы не молчал. Боже мой, а вдруг он плачет, плачет беззвучно? Орельен, Орельен, я не хотела быть жестокой, я не хотела оскорбить тебя! Скажи хоть слово!»
Но язык отказывается повиноваться ей, она не может даже протянуть к нему руку… Вдруг Орельен поворачивается и большими шагами уходит прочь.
Опомнившись, девочка бросается за ним:
– Орельен, Орельен!
Голос вернулся к ней, но слишком поздно.
– Орельен! Не уходи! Подожди меня! Не сердись!
В ответ он лишь ускоряет шаг. Катрин трудно бежать в потемках в своих тяжелых деревянных сабо.
– Орельен, я знаю, ты делал это для того, чтоб помочь мне… чтоб я не отдавала сестренок в приют… Орельен, не уходи так, подожди…
Споткнувшись о камень, Катрин падает и стукается лбом о дерево. Удар так силен, что в голове у нее помутилось. Придя в себя, она чувствует, как две дрожащие руки берут ее за плечи, поднимают с земли; чье-то лицо склоняется над ней, смутно белея в темноте.
– Кати, ты ушиблась? Ну и болван я, Кати! Где у тебя болит?
Нет, нет, ей совсем не больно, она не замечает даже боли от ссадины на лбу. Орельен вернулся! Орельен не сердится на нее! Орельен ее друг! Он берет ее за руку и бережно ведет по тропинке к дому-на-лугах. Время от времени он снова спрашивает ее с тревогой:
– Ты ушиблась? Тебе больно?
Чтобы успокоить его, она крепко сжимает ему руку. По правде сказать, она даже рада этой царапине на лбу, этой боли. Теперь, думает она, мы квиты.
Никогда больше не станут они говорить об этом вечере. Но когда на пороге дома он желает ей спокойной ночи, она не может удержаться от вопроса:
– А эти яйца, эти овощи, эти цыплята, которые ты мне приносил?..
Секунду он колеблется, потом говорит с вызовом:
– Я их воровал.
– Ты их… – Катрин ошеломлена не столько этой новостью, сколько горделивым тоном признания.
Она не решается повторить «воровал» и заканчивает:
– …ты их брал?
– Ты хочешь, чтобы я больше их тебе не приносил? – спрашивает Орельен уже мягче.
– Да, не надо. Не надо ничего больше брать…
И, боясь, что Орельену снова почудится упрек в ее словах, Катрин придвигается к нему вплотную и, обняв рукой за шею, крепко целует в обе щеки: сначала в правую, потом в левую. Он поворачивается и, не говоря ни слова, уходит.
Катрин стоит на пороге дома и прислушивается к удаляющимся шагам. Через минуту до нее долетает его голос. Орельен поет, уходя по тропинке в ночную темноту.