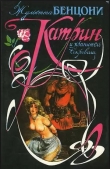Текст книги "Детство и юность Катрин Шаррон"
Автор книги: Жорж Клансье
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
– Заменить маму! – возмутилась девочка.
– Я хочу сказать: мама устала, ужасно устала… Она все время надрывалась, изводила себя ради вас всех, а непосильная работа убивает человека… Она и до несчастья не была цветущей, и теперь я боюсь, что…Мариэтта умолкла, сдвинув тонкие брови. – Боюсь, как бы несчастье не доконало маму… Ты видела, до чего она худа: кожа да кости… и потом, этот кашель… Ты позаботишься о ней, Кати.
Они подошли к двуколке. Мариэтта проворно вскарабкалась на козлы, взяла в руки вожжи.
Лошадь тронула с места. Мариэтта вдруг придержала ее, натянув поводья, перегнулась с сиденья и указала рукой на дом.
– Теперь, Кати, – сказала она, – ты должна…
Она запнулась, отвела глаза в сторону под недоумевающим взглядом девочки.
– Я хочу добраться до дому засветло! – прокричала Мариэтта, словно желая перекрыть грохот повозки, со скрипом двинувшейся вперед.
Катрин посмотрела ей вслед и медленно побрела к дому. «Теперь, Кати, ты должна…» О каком долге хотела сказать ей Мариэтта? И почему она не посмела договорить? Без сомнения, это печальный суровый долг…
Каждый шаг, приближавший Катрин к дому, давался ей с трудом. «Теперь, Кати, ты должна…» Она вошла в кухню. Отец ссутулившись сидел на лавке все в той же позе, уронив голову на руки. Франсуа, измученный поездкой, вытянулся на кровати; Клотильда и Туанон опрокинули миску с молоком и теперь старательно размазывали его руками по полу. Катрин молча оглядела комнату, потом подошла к сестренкам, нашлепала их, вытерла лужу, подмела пол, смахнула пыль с убогой мебели, натерла до блеска комод, убрала под кровать сабо Франсуа. Только тогда, окинув удовлетворенным взглядом прибранную, словно ожившую комнату, она приблизилась к дверям спальни. Ей показалось, что мать стонет, и она остановилась на пороге, прижав руку к забившемуся сердцу. «Теперь, Кати, ты должна…» Проглотив подкативший к горлу комок, она опустила глаза и на цыпочках вошла в спальню.
Глава 30
«Я не должна была… Я не должна была отпускать его туда…»
Сколько раз слышали они, как казнилась мать, обвиняя себя в смерти Обена. Франсуа, подпрыгивая на костылях, подходил иной раз к постели больной и пытался образумить ее:
– Вы же знаете, мама, что не могли поступить иначе. В Амбруассе он хоть ел досыта…
Отец умолял:
– Мария, прошу тебя, перестань терзать себя! Доктор говорит, что ты никогда не поправишься, если будешь все время думать… думать о…
Он горестно скреб пятерней затылок, а мать снова принималась за свое:
– Я не должна была…
Разве могла она выздороветь, если почти ничего не брала в рот, снедаемая день и ночь своей горькой думой, не говоря уже о коротких, но жестоких приступах кашля, раздиравших ей грудь? На следующее утро после возвращения из Амбруасса она хотела было встать с постели, но, поднявшись, тут же зашаталась и едва не упала. Катрин одной пришлось помочь ей раздеться и лечь в кровать: отец еще на рассвете ушел на работу, а Франсуа сам с трудом передвигался по комнате.
Крестная навещала их теперь каждую неделю; часто заглядывали Крестный и дядюшка Батист; раз или два приезжал Марциал; появлялась и Мариэтта. Они садились у постели матери и заклинали ее не думать все время о своей утрате и постараться быстрей стать на ноги – не только ради себя, но и ради близких. Сидя на постели, мать встречала их вежливо, даже старалась улыбаться шуткам, благодарила за внимание и заботу, но после их ухода, измученная и обессиленная, откидывалась на подушку.
– У вашей матери чахотка, – сказала как-то крестная Фелиси.
Катрин потом спросила у Франсуа, что это за болезнь? Брат покачал головой.
– Что-то скверное, – сказал он. – Помню, что так говорили о жене сапожника, который жил рядом с монастырской школой…
– И что с ней было? – с тревогой спросила девочка. Франсуа ничего не ответил, снова покачал головой и, словно желая избежать новых вопросов, быстро уселся за свой станок.
Глядя на его работу, дядюшка Батист частенько говаривал:
– Ты лучший токарь по дереву из тех, кого я знаю. Выздоравливай поскорее, поступишь учеником к нам на фабрику.
– Он будет делать такие же красивые чашки, как та, что вы мне подарили? – спросила Катрин.
– Конечно, Кати. А потом… – Старый рабочий запнулся и задумчиво поглядел на обоих детей. – А потом, Кати, я и тебя устрою на работу туда же. Он обернулся к Жану Шаррону, понуро сидевшему у края стола. – Тогда, Шаррон, эти двое будут пристроены, на тот случай, если…
Отец поднял голову. Прежде голубые глаза его утратили свой блеск и казались выцветшими; тонкая сеть красноватых жилок окружала зрачки.
– Вы хотите сказать… – пробормотал он сдавленным голосом.
– Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, – проворчал старик, сдвигая на лоб кепку и почесывая затылок.
Катрин совсем не хотелось думать об этом непонятном будущем, на которое намекал дядюшка Батист. До нее не доходил смысл его неоконченных фраз, хотя она и улавливала в них скрытую угрозу. Но разве не живут они после гибели Обена в предчувствии непрерывных угроз и опасностей, которые мерещатся ей всюду? Нет, она не желала об этом думать и, чтобы отвлечься, погружалась, как в омут, в бесконечные домашние дела. Надо было кормить и держать в чистоте Клотильду и Туанон, готовить отвары лечебных трав для матери, убирать дом, стряпать, стирать, мыть посуду… Катрин не хватало дня, чтобы переделать все эти нескончаемые дела, хотя вставала она с рассветом, а ложилась спать глубокой ночью.
– Кати – настоящая маленькая мама, – говорила растроганная Фелиси.
И в самом деле: Клотильда и Туанон нередко ошибались, называя старшую сестру «мамой». Катрин гневно упрекала себя за ту тайную радость, которую невольно испытывала в эти минуты.
– Да, да! – повторяла Фелиси. – Можете быть спокойны, Мария. Кати управляется с хозяйством не хуже вас.
Мать слабо улыбалась старшей дочке и снова впадала в свою обычную меланхолию.
– Виновата я, так виновата… – еле слышно шептала она. – Целыми днями валяюсь в постели, а в доме по горло работы… Ты, Кати, и вправду теперь мать семейства…
Она умолкала, уставившись куда-то в пространство отсутствующим взглядом, потом снова пыталась улыбнуться, но лишь слегка морщила бескровные губы.
– Ну, ну! – ворчала Фелиси. – Полноте, Мария, нечего об этом думать.
Если погода продержится, вы скоро встанете.
Хорошая погода держалась: последние дни сентября выдались теплые и ясные. Листья на деревьях медленно наливались золотом и, казалось, не собирались опадать. После полудня мать вставала с постели часа на два и садилась на солнышке перед домом. Силы как будто понемногу возвращались к ней, и она даже пыталась делать что-то по дому. Как только матери становилось чуть полегче, Катрин готова была вновь превратиться в ребенка, каким была всего несколько недель назад. Она с трудом подавляла в себе желание посмеяться, помечтать, попрыгать на одной ножке или поваляться в траве вместе с Клотильдой и Туанон. Но нет! Нужно было оставаться серьезной и степенной, неукоснительно следить за порядком в доме, заботиться о сестренках, отчитывать их за шалости.
Наступил октябрь, но солнце светило все так же ярко. Его теплые лучи согревали больную, дремавшую на пороге дома. Дети пристально вглядывались в ее лицо.
– Видишь, как она разрумянилась на солнышке, – радостно шептал сестре Франсуа.
Действительно, на щеках матери, по-прежнему впалых и бледных, вспыхивали яркие багровые пятна.
Однажды под вечер мать вдруг встала со своего стула: щеки ее пылали сильнее обычного. Она поднесла руку к горлу, словно чьи-то невидимые пальцы пытались задушить ее, и, пошатываясь, направилась в комнату.
– Кати, помоги мне. Я сейчас упаду…
Катрин бросилась к больной. Раздевая ее, девочка заметила, что руки и плечи у матери горячи, как огонь. Но, несмотря на это, больная дрожала от озноба так, что зубы ее стучали. Лепеча какие-то невнятные слова, она перебирала худыми пальцами складки одеяла. Забившись в угол комнаты, Клотильда и Туанон со страхом смотрели на мать. Катрин хотела было дать ей напиться, но побоялась поднести стакан к ее трясущимся губам. Франсуа прыгал по комнате на своих костылях, словно большая птица в клетке. Наконец он не выдержал.
– Дойду до Лартигов, – сказал он, – и попрошу Орельена сходить за доктором.
– Тебе трудно… да и далеко… Лучше схожу я.
– Нет, нет, – запротестовал Франсуа, – если надо будет помочь маме, я один не смогу… Я ухожу.
Он ушел прихрамывая. Девочки выбрались из своего угла и уцепились за юбку старшей сестры. Мать глухо застонала. Это была низкая, монотонная жалоба, которая словно билась в ее груди, не находя выхода. Щеки больной по-прежнему горели огнем, но лоб, виски и нос приняли восковой оттенок; закрытые глаза с темными кругами глубоко запали в орбиты. Катрин не узнавала больше матери. О, скорей, скорей бы кто-нибудь пришел: отец, Франсуа, доктор – все равно кто!
Вдруг мать села на постели, широко раскрыв глаза.
– Кати! – крикнула она.
– Что вы, мама? – спросила Катрин.
– Кати! Где Кати?
– Я здесь… я здесь, мама!..
Мать пристально смотрела на нее и повторяла:
– Позовите, пожалуйста, Кати… Я очень вас прошу…
– Я здесь, я здесь, мама! – шептала в страхе девочка. Творилось что-то непонятное, немыслимое… Мать больше не узнает ее. Странная улыбка тронула бледные губы больной, блуждающий взгляд сверкнул огнем.
Она подняла руку, словно прислушиваясь к чему-то.
– Слышите? Слышите, как стучат копыта, гремят колеса, звенят бубенцы?..
Это он, это Обен… он подъезжает…
Глаза матери были прикованы к какой-то невидимой точке в глубине комнаты. Катрин, не сдержавшись, бросила взгляд туда же. Страшный, нечеловеческий крик заставил ее обернуться. Выпрямившись на постели, с перекошенным ртом, мать протягивала руки ладонями вверх, звала кого-то. Крик оборвался, и она умоляюще, еле слышно зашептала:
– Нет, нет, Обен! Остановись! Не уходи… О-о!.. Это уже не он! Это экипаж Манёфа… Остановитесь! Остановитесь! Вы меня разда…
Она рухнула навзничь и снова застонала. Катрин на цыпочках подошла к кровати. Сестренки, цепляясь за ее юбку, кричали и плакали от страха. А Катрин, крепко сжав кулаки, так, что ногти вонзились в ладони, твердила про себя: «Я не должна кричать… Я не должна плакать! Я не должна… не должна…»
Глава 31
Несмотря на все принятые доктором меры, мать провела в жару и бреду несколько дней и ночей. Как только солнце склонялось к западу, она начинала борьбу со своими видениями. Ей снова мерещился Обен: то она должна идти гулять с ним в Жалада или в Мези, то вести его в школу, то готовить ему обед… И всякий раз бред внезапно оборачивался кошмаром…
Наконец больная медленно выбралась из жуткого мира призраков, истратив на борьбу с ними последние силы.
Однажды утром она окликнула Катрин. Девочка подошла к постели, думая, что мать опять не узнает ее, как было в последние дни. Но та прошептала еле слышно:
– Доброе утро, доченька.
– Вы что-нибудь хотите, мама? – спросила Катрин. – Может, липового отвару?
Она ждала, что в ответ мать снова начнет лепетать какую-нибудь бессмыслицу.
– Мне ничего не нужно, я хотела только посмотреть на тебя.
Несколько минут больная лежала молча, закрыв глаза. Катрин подумала, что она уснула, и хотела уйти, но снова услышала:
– Подожди немного, Кати.
Девочка подошла к больной.
– Как дела, дочка?
– Все в порядке.
– А отец?
– Тоже.
– Франсуа?
– Он гуляет на лугу с Клотильдой и Туанон.
Мать снова умолкла; глаза ее были по-прежнему закрыты, и Катрин не могла понять, спит она или нет.
– Кати!
– Да, мама.
– Я была очень больна?
– О, вы…
– Можешь не скрывать: я знаю, что была больна, только не знаю, долго ли, и не помню, что произошло.
«Может, она забыла про Обена? – подумала Катрин. – А когда вспомнит о нем, снова начнет бредить».
Но в этот день мать ни разу не заговорила об умершем. А в последующие дни, если ей и случалось упомянуть о нем, в голосе больной не было больше ни тоски, ни ужаса, разве что сам голос звучал еще слабей, еще тише.
– Что-то больно тихо она говорит, – вздыхал Франсуа. – Лучше бы уж кричала и билась… Боюсь я этой тихости…
Чтобы как-то подбодрить мать, Франсуа решил появляться перед ней без костылей. Он оставлял их за дверью и подходил к постели уверенным шагом, стараясь скрыть свою хромоту.
– Видите, мама, я уже здоров, – весело говорил он. – Теперь очередь за вами.
И, превозмогая боль, поспешно присаживался в ногах у нее на кровати.
Мать улыбалась ему своей жалкой, вымученной улыбкой, которая всякий раз вызывала у Катрин и Франсуа страстное желание броситься к больной, схватить ее на руки и унести далеко-далеко отсюда, в неведомую счастливую страну, где она снова обретет силы, здоровье и жизнь.
– Хоть одно мне удалось, Франсуа, – шептала она, глядя на сына, – я не дала им тогда отрезать тебе ногу…
Она долго смотрела на него.
– Твоя болезнь, – продолжала она, – теперь только дурной сон…
Она повторяла задумчиво: «Сон… сон…» – и взгляд ее устремленный вдаль, казалось, созерцал что-то невидимое другим, нежное и печальное.
– Жюли принесла мне сегодня утром новый альманах, – начинал Франсуа, желая отвлечь больную от ее дум.
Он доставал из кармана тоненькую потрепанную книжечку.
– Хотите, мама, я вам почитаю?..
И, не дожидаясь ответа, Франсуа принимался читать, время от времени поглядывая на мать, чтобы удостовериться: отгоняет ли его чтение от больной неотвязные мысли? Когда он останавливался, наконец, с пересохшим горлом, мать говорила тихо:
– Ты хорошо читаешь, сынок! В будущем это тебе пригодится.
Она протягивала свою исхудалую руку к Катрин, брала ладонь девочки в свою.
– Как мне хотелось, чтоб ты тоже научилась грамоте, Кати! Да вот не довелось…
Приподняв голову, мать задумчиво смотрела на сына.
– Франсуа, а ты не можешь научить Кати читать и писать? Мальчик хмурил брови.
– Не знаю, как взяться за такое дело…
Мать выпускала руку Катрин и говорила, словно, про себя:
– Если бы Жан умел читать, и писать, и считать, и говорить как надо, мы, может, и сейчас жили бы на ферме… все вместе, всей семьей… Тогда бы они не заманили его в ловушку…
Она устало закрыла глаза. Дети не шевелились. Может, она спит?
Слышалось только ее хриплое, трудное дыхание.
Не раскрывая глаз, мать снова заговорила, но так тихо, что трудно было различить слова:
– Когда-нибудь… такие люди, как мы… все простые люди, вроде нас, будут грамотными… и Мариэтта, и Фелиси, и другие… и смогут прочитать в книгах, в газетах о том, что происходит в мире… здесь и в других местах… и напишут о своих бедах и своих нуждах… скажут, как они хотели бы устроить жизнь… чтоб всем было хорошо… Тогда на свете будет меньше… меньше…
Приступ, кашля, острый и мучительный, прервал ее.
– Мама, – с упреком прошептала Катрин, – вы же знаете: доктор сказал, что вам вредно много говорить…
Мать поднесла платок к губам, взглянула на него и спрятала под подушку.
Стирая потом белье, Катрин со страхом рассматривала эти носовые платки матери с засохшими пятнами крови.
Зима надвигалась стремительно. С каждым днем становилось холоднее.
Дверь из кухни в спальню не закрывали, но тепла кухонного очага было недостаточно, чтобы прогреть ледяной воздух комнаты, и больная дрожала от холода в своей постели. Приступы кашля становились все чаще, все острее и багровые пятна на носовых платках расплывались все шире и шире.
Отец работал на дальней стройке и возвращался в дом-на-лугах только поздно вечером. Переступив порог кухни, он бросал тревожный взгляд на Франсуа или Катрин. Клотильда и Туанон с воплями кидались ему под ноги, тянули к нему ручонки. Он наклонялся, рассеянно целовал детские головки.
– Ну как? – спрашивал он.
Старшие дети лишь молча качали головой. Отец быстро раздевался и шел в комнату. Катрин приносила ему туда миску с супом, иначе он бы и не вспомнил об ужине. Больная в эти часы обычно дремала. Отец садился у постели и смотрел на нее, молчаливый и неподвижный, не в силах оторвать глаз от изможденного лица, тонущего в густых волосах.
Однажды вечером мать почему-то не спала. Она заговорила с отцом, и тот стал рассказывать ей о своей работе, о снеге, валившем со вчерашнего дня, о крестной Фелиси, которую он встретил на Городской площади. Потом отец встал, прикрыл дверь на кухню, и до детей доносился теперь лишь неясный звук его голоса. Катрин, уложив спать сестренок, молча сидела рядом с Франсуа у очага, недоумевающая и встревоженная. В спальне послышался стук, будто что-то упало. Брат и сестра вздрогнули.
– Подойди к двери и посмотри, – шепнул Франсуа.
Катрин заглянула одним глазом в щелку. Сначала она ничего не увидела в царившей темноте, потом пригляделась и различила в неясном мерцании снега, проникавшем в спальню сквозь не прикрытое ставнями окно, фигуру отца, стоявшего на коленях у кровати. Она прижалась ухом к двери, но разобрать ничего не могла. Отец что-то говорил – глухо, взволнованно. О чем он? Одно слово то и дело срывалось с его губ: «Прости… прости меня…» За что он просит прощения? Разве он сделал матери что-нибудь плохое? Мать отвечала ему, и голос ее был так же слаб и бесплотен, как исстрадавшееся тело. Но вдруг голос этот преобразился и зазвучал внятно и отчетливо, мягко и молодо:
– Нет, Жан, нет! Никакой вашей вины здесь нет и не было… Те, другие, в Мези просто были сильнее, вот и все… сильнее вас… – Она с усилием перевела дыхание и договорила: – Да, они были сильнее, и они раздавили нас, как раздавили несчастного Мишело…
Катрин послышались заглушенные рыдания. Голос матери стал еще мягче, еще ласковее:
– Жан, мальчик мой, бедный мой Жан, перестань, не надо… Разве ты виноват, что всегда был честным и справедливым, а люди… а люди…
Катрин на цыпочках вернулась к Франсуа.
– Я ничего не понимаю, – прошептала она, – мама говорит про Мези… и про людей… Не понимаю…
Глава 32
Вот уже несколько дней у больной шла горлом кровь. Снова позвали доктора. В присутствии матери он прописал несколько лекарств, но, выйдя на кухню, печально пожал плечами и сказал, что никакие лекарства не помогут…
– Не пойму, откуда у мамы столько крови, – шептала Катрин на ухо Франсуа. – По-моему, в ней уже не осталось ни капли…
– Замолчи, ради бога! – перебил ее Франсуа. Он повернул голову, прислушался. Странные звуки доносились из комнаты больной. Катрин и Франсуа вошли в спальню, приблизились к кровати. Мать, закрыв глаза, глубоко уйдя головой в подушку, казалось, задыхалась. Грудь ее стремительно вздымалась и опускалась, сквозь полуоткрытые губы вырывались короткие, свистящие хрипы.
– Надо позвать доктора, – тихо сказал Франсуа.
Но Катрин в ужасе уцепилась за его руку. Нет, она ни за что не останется одна! И потом, разве Франсуа сумеет на своих костылях добраться до Городской площади, где живет доктор? Он поскользнется, упадет в снег и не встанет. Да разве доктор поможет? Он сам сказал в последний раз, что лекарства бесполезны…
Они стояли неподвижно перед кроватью. Сестренки молча забились в угол комнаты. Хрипы становились все короче, все громче… Руки матери судорожно перебирали складки простыни, затем взметнулись вверх, словно пытаясь ухватиться за что-то, и бессильно упали обратно. Катрин и Франсуа вздрогнули: теперь худые пальцы принялись царапать простыню, и этот звук, перемежавшийся хрипами, был невыносим для слуха. Катрин хотелось заткнуть уши, чтоб не слышать его. Она прислонилась к стене, закрыла глаза…
«Нет, нет!» – повторяла она про себя…
– Кати! Кати!
Кто зовет ее так отчаянно? Кто дергает за рукав? Она открыла глаза.
Какое странное лицо у Франсуа… Почему у него кривятся губы? Почему он зовет ее шепотом? Она опять взглянула на него, и он замолчал. Катрин стиснула зубы, удерживая крик: тишина, бесконечная тишина стояла в комнате.
Она прислушалась: ни звука, ни стона, ни хрипа. Она не смела взглянуть на кровать: ей казалось, что она пуста…
Наконец она заставила себя поднять глаза и посмотрела… Мать по-прежнему лежала там, удивительно спокойная и тихая. Руки ее не царапали больше простыню, грудь не вздымалась больше. Казалось, она спит, чуть приоткрыв губы. Но спала ли она? Глаза были полуоткрыты. На бледных губах проступала слабая, еле заметная, еле уловимая улыбка – первая за все эти долгие страшные дни…
– О чем она думает? – шепнула Катрин. Франсуа посмотрел на сестру, широко открыв глаза.
– О чем… – начал он.
Запнувшись, словно ему не хватило дыхания, мальчик бросил взгляд на мать и снова обернулся к Катрин.
– Да ведь она умерла, – сказал он, и в голосе его прозвучал глухой гнев.
Катрин попятилась, стукнулась плечом о стену. Так, значит, это смерть?
Эта тишина после стольких стонов и жалоб, это спокойствие после долгих мучений, это выражение тихой радости после стольких бед и несчастий!
Франсуа вышел из комнаты, прыгая на одной ноге, и тут же вернулся на костылях. Лицо его теперь было залито слезами. Увидев слезы брата, Катрин вдруг почувствовала ужас; только сейчас ощутила она глубину собственного горя; рыдания подступили к горлу. Она быстро отвернулась от Франсуа, стиснула зубы и крепко сжала кулаки, пытаясь из последних сил подавить эти рвущиеся из самого сердца рыдания. Беззвучные слезы брата испугали младших сестренок, которые все это время сидели, притаившись, в углу комнаты, и они тоже заплакали и закричали от страха. Катрин подошла к ним и велела замолчать.
– Ради нашей бедной мамы будьте умницами! – твердила она.
Удивление, вызванное этой непонятной фразой, суровый и решительный вид старшей сестры заставили Клотильду и Туанон умолкнуть. Катрин увела их на кухню, умыла, дала по куску хлеба. Эти привычные, обыденные дела помогли ей справиться с собой. Слова Мариэтты пришли ей на ум, слова, которые та сказала на прощание при последней встрече: «Теперь, Кати, ты должна…»
– Теперь я должна, – повторила про себя Катрин, – должна…
Она вынула из верхнего ящика комода большой черепаховый гребень, вернулась в комнату и попросила Франсуа, стоявшего у изголовья кровати, посторониться.
Брат бросил на нее испуганный взгляд.
– Ты мне не понадобишься, – прибавила она ласково.
«Теперь ты должна…» Она вплотную подошла к изголовью. Что почувствует она, прикоснувшись к голове мертвой матери? «Ты должна, Кати, ты должна!»
Удерживая дыхание, Катрин протянула руку, взяла в горсть темную прядь и стала медленно расчесывать тяжелые, еще теплые спутанные волосы.