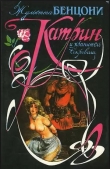Текст книги "Детство и юность Катрин Шаррон"
Автор книги: Жорж Клансье
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Глава 2
Отец! Его глаза, синие, словно родник весной, длинный нос с горбинкой, старомодные светлые усы, вечно спутанные волосы, большие костистые руки, его смех, взрывы его гнева! Катрин боялась отца, восхищалась им, боготворила его. Он был для нее воплощением могущества, доброты и справедливости. И на всю жизнь остался в ее глазах воплощением доброты. Ну, а могущество? Что ж, едва Катрин исполнится двенадцать лет, как ей уже захочется беречь и защищать его, словно малого ребенка.
Но сейчас, в Жалада, отец был еще в зените своей силы: он кричал, он пел, он смеялся, он гневался и бушевал.
Отец и мать – Жан и Мария Шаррон. Он старше ее на целых десять лет. Она стала его второй женой после того, как была свояченицей. Она пришла к нему в дом вести хозяйство и ухаживать за первой женой Жана – своей старшей сестрой, тяжело заболевшей после рождения Мариэтты. Вскоре сестра умерла, и Мария осталась на ферме Жалада, продолжала вести дом и воспитывать свою племянницу Мариэтту, такую же миниатюрную и черноволосую, как она сама. Жан Шаррон, молодой вдовец, с горя запил. Мария сурово отчитала его: разве можно поддаваться отчаянию? Такой видный мужчина, еще совсем не старый и полный сил! Он бросил пить и женился на ней, а через несколько лет дети оживили своими играми и криками старый дом в Жалада: сначала Марциал, когда Мариэтте было немногим более двух лет, затем Франсуа, Обен и, наконец, Катрин.
– Что мы будем делать с такой оравой ребят? – озабоченно спрашивала иногда мать.
Отец только смеялся в ответ:
– Не беспокойся! Господь Бог обо всех позаботится.
И они усыновили маленького Фредерика Леруа, которому было всего десять лет, когда его отец, товарищ Жана Таррона, разбился насмерть, упав с воза.
Были на свете две вещи, которыми отец гордился до безрассудства: волосы его жены и старинные золотые украшения – серьги, цепочка с крестом и массивный браслет, – доставшиеся ему по наследству от далекой прабабки.
Погожим воскресным утром Жан Шаррон появлялся в дверях спальни в тот самый момент, когда Мария кончала расчесывать свои густые темные волосы и уже собиралась заплести их в тугую косу, которую укладывала затем на голове высокой короной.
– Погодите! – кричал он Мариэтте и Катрин, помогавшим матери.
Он подбегал к бельевому шкафу с резными дверцами, шарил под стопками чистых простынь и возвращался, держа в руках шкатулку с драгоценностями.
Накинув цепочку с крестом на шею жены, он протягивал ей серьги и, пока она вдевала их в уши, застегивал на узком запястье тяжелый браслет.
– Ну вот, – торжественно говорил он. – Теперь встань!
Мать поднималась на ноги – такая маленькая в своей длинной ночной сорочке из домотканого полотна – и выходила на середину комнаты. Волны темных волос, словно мантия, окутывали ее спину и плечи.
– Обен! – кричал отец. – Марциал! Франсуа! Крестный! Эй, Крестный! Все сюда!
Мальчики вбегали в комнату и окружали мать.
– Вы совсем рехнулись, бедный мой муженек, – сконфуженно говорила мать.
Румянец делал ее совсем юной; она казалась старшей сестрой Мариэтты.
Разве можно было поверить, что ей уже давно минуло тридцать?
А отец, обращаясь поочередно ко всем детям, призывал их в свидетели своих слов.
– Разве наша мать не красавица? – спрашивал он. – Разве она не похожа на королеву?
* * *
Несколько раз в год ферму Жалада навещали бродячие торговцы, проходившие мимо по дороге в Ла Ноайль. Они заходили в дом, торопливо опрокидывали стаканчик сидра и тут же выкладывали свой товар: шейные платки, черные и красные кашемировые шали, дешевые украшения, рулоны кружев, искусственные цветы, пестрые ткани – словом, множество заманчивых вещей, способных вскружить не одну женскую головку.
– Уберите ваш товар, сударь, прошу вас! Я уже купила нитки, иголки и остаток сукна. Больше мне ничего не нужно!
– Ба! – говорил смуглый человек с курчавыми черными бакенбардами. – Я не каждый день прохожу мимо вашей фермы, хозяюшка. Взгляните на эту розовую тафту, – разве она не великолепна? О, позвольте прикинуть ее на вас, вот так!
– Нет, нет, сударь, не надо. Вы небось считаете нас богачами?
– Да ведь это просто даром, хозяюшка! Одно маленькое серебряное экю – и тафта ваша.
– У меня нет денег, и нечего меня уговаривать!
Меднолицый разносчик отступил на шаг, бросил взгляд на тяжелую корону темных волос и присвистнул от восхищения:
– Нет денег? Да у вас на голове целое состояние!
Он ловко выхватил из кармана блестящие ножницы и щелкнул ими. Мариэтта вздрогнула. Катрин невольно схватилась за свои косы. Мать оцепенела, словно зачарованная.
– Заключим сделку, – продолжал разносчик. – Вы отдаете мне свои волосы и получаете взамен розовую тафту.
В одной руке он держал ножницы, в другой – развернутую тафту, переливавшуюся на солнце всеми своими оттенками.
Дверь внезапно распахнулась, и в кухню вошел отец. Женщины были так поглощены происходящим, что не слышали его шагов.
– Вот и я! – сказал Жан Шаррон. – Что здесь происходит? Катрин торопливо принялась объяснять:
– Маме очень хочется купить эту красивую розовую материю, а денег у нее нет, и этот человек сказал, что отдаст ей материю, если мама позволит ему остричь ее волосы…
– Ос… остричь волосы?! Ее волосы! – задохнулся от негодования отец. И вдруг двинулся на торговца, крича: – Остричь мою жену, словно овцу?! Самые красивые волосы во всей округе! Убирайтесь вон, не то я спущу на вас собаку!
Словно поняв речь хозяина, Фелавени, до тех пор смирно лежавший в стороне, вскочил и, оскалив зубы, угрожающе зарычал.
– Ладно, ладно! – заторопился разносчик. – Можете не поднимать столько шуму…
Он проворно сложил товар, сунул его в черную дорожную суму, перекинул ее через плечо и, дотронувшись пальцами до фуражки, вышел. Он был уже на дороге, когда отец окликнул его:
– Эй, любезный! Сколько она стоит, ваша розовая тафта?
Обнажив в злорадной улыбке мелкие, очень белые зубы, торговец назвал цену.
– Ладно, – сказал отец. – Подождите.
Он зашел в спальню и тут же вышел обратно с деньгами в руке.
– Получите!
Торговец сунул монеты в карман, достал материю, передал ее покупателю и, снова приложив руку к фуражке, ушел.
Отец развернул розовую тафту и накинул ее на плечи матери.
– Она и в самом деле тебе к лицу! – сказал он. – Ты довольна?
Мать была так растрогана, что не могла ответить.
– Очень тебя прошу, – продолжал отец, – не пугай меня так больше, ладно?
Когда я увидел этого проходимца с ножницами в руках, я готов был убить его на месте. – Он положил свою большую руку на голову жены. – Береги свои волосы, Мария, – ласково сказал он. – Лишиться их для меня горше смерти. Это, к примеру, то же самое, что потерять крест с цепочкой и другие прабабкины вещи.
* * *
Обеды, завтраки и ужины стряпали мать и Мариэтта, но кормильцем семьи, в глазах Катрин, был отец. Это он делал из муки хлеб. Сначала он месил тесто: голый до пояса склонялся над деревянной квашней, погружая в нее по локоть белые от муки руки, и громко ухал, помогая себе в работе. Круглые мягкие хлебы выстраивались в ряд на чистых досках, затем их несли в печь.
Хлебная печь помещалась в заднем углу просторной пристройки, примыкавшей к дому. Осенью здесь сушили каштаны; их насыпали в большие решета, подвешенные к потолку, а посреди помещения, на плотно утрамбованном глиняном полу, разводили огонь, который поддерживался круглые сутки.
Отец пек хлеб два раза в месяц. Катрин любила смотреть, как он сажает в печь караваи на длинной лопате: плавно вдвигает ее в пышущую жаром пасть печи и ловко выхватывает обратно, сбросив груз на раскаленные камни. Иногда в день выпечки Катрин разрешалось слепить из теста крохотный каравай и испечь его вместе с остальными.
Когда высокие и пышные хлебы были готовы, их вынимали из печи, торжественно несли на кухню и укладывали рядами на решетчатой полке, подвешенной к потолочным балкам. В первые дни хлеб был таким мягким и нежным! Но потом, когда он уже подходил к концу, можно было обломать зубы о черствые серые ломти. Сахар отец сам не делал, он покупал его. Раза четыре в год он отправлялся в Ла Ноайль и возвращался оттуда изрядно нагруженный.
Катрин выбегала ему навстречу, помогала развязать тяжелые торбы и вынуть покупки. Вот соль, пакет с пробками, связка сальных свечей, пачка табака и, наконец, великолепная сахарная голова. Еще не расколотую на куски, ее торжественно водружали на комод, чтобы все могли полюбоваться ею.
– Артиллерийский снаряд, да и только! – говорил отец. – Вот бы обрушить ее на головы пруссаков!
Случалось, что во время путешествия от Ла Ноайли до Жалада от сахарной головы откалывались кусочки. Катрин старательно шарила на дне сумки и, отыскав осколочек, тайком сгрызала его где-нибудь в уголке.
Отец был хозяином веселья. Это он устраивал посиделки с песнями, танцами и другими развлечениями.
В сентябре, когда хлеб был уже обмолочен, начинали убирать коноплю. Ее жали вручную, серпами. Длинные снопы мочили несколько недель в ручейках и прудах. Затем коноплю сушили на солнце и, когда наступало время, мяли в сушильне фермы Жалада, где под потолком сохли в решетах каштаны. Каждая семья приносила свою мялку – примитивный деревянный станок, снабженный подобием рычага, который то поднимали, то опускали, чтобы раздробить сухую костру и отделить ее от волокна. Обломки костры с сухим стуком падали на пол. Очищенное от костры волокно снимали с железных зубьев и связывали в пучки. Работа шла в полном молчании; никто не разговаривал, не пел. Густая белая пыль плотным облаком висела в воздухе, и люди скоро становились похожими на мельников. Женщины повязывали головы платком по самые брови; мужчины надвигали на глаза шляпы. Закончив работу, люди выходили из сушильни с пересохшим горлом, оглушенные грохотом мялок.
Любители попеть и поболтать наверстывали эту вынужденную игру в молчанки на посиделках. Здесь коноплю уже не мяли и не очесывали – ее пряли.
Сушильня слабо освещалась тусклым светом сальной свечки, вставленной в расщеп толстой палки. Этот допотопный светильник не столько освещал помещение, сколько чадил, трещал и брызгал во все стороны салом. Но никто не обращал на это внимания. Все слушали, как отец поет старинные народные песни. В этих песнях говорилось о пастушке и знатном синьоре, о помолвленных и о войне, о любви и о смерти.
Голос у отца был глубокий и мягкий, и, пока он пел, мать неотрывно смотрела на него, а женщины, примолкнув, пряли свою пряжу. Одной рукой они держали пучок кудели, а другой крутили веретено.
Готовую пряжу сматывали с веретена на колесо прялки. Отец крутил рукоятку, и пряжа ложилась ровными мотками. И все время, пока шла работа, люди смеялись, пели, болтали.
Но вот все каштаны в подвешенных к потолку решетах высушены, пряжа готова, вымыта и отнесена ткачу, который должен выткать из нее холст для рубашек и простынь. Работы закончены. Но по вечерам на ферме Жалада снова собираются соседи, чтобы повеселиться и потанцевать. Музыкант, маленький горбатый старичок, взгромоздившись на стол, притопывает ногой и извлекает из своего инструмента высокие, пронзительные звуки. Кружащиеся в танце пары хором подхватывают веселый припев.
Катрин поручают отнести музыканту стакан сидра. Она торопливо ставит стакан на край стола и убегает. Вдруг горбун схватит ее своими крючковатыми пальцами?! Танцоры бросают в шляпу музыканта мелкие монеты, игроки в карты добросовестно кладут на развилку светильника по одному су после каждой партии.
А отец пляшет, отец поет, отец смеется. Он – хозяин веселья, хозяин радости.
Глава 3
Сразу после жатвы Крестный покинул Жалада. Он кое-как дотерпел до этого дня, ночуя в хлеву.
– Теперь, – сказал Крестный Жану Шаррону, – самое трудное позади. После праздника всех святых вы подыщете себе другого работника.
– Ты бросаешь нас в самую страдную пору! – возмутился отец. – А молотьба, а уборка картофеля, а несжатая конопля, а каштаны, которые надо собирать… Подумал ты об этом?
– Ничего! Ваш работник силен, как турок. Он поднатужится малость, и все будет в порядке.
– Это из-за него ты уходишь…
– Нечего о нем толковать.
– Из-за него… и из-за Мариэтты…
– Мариэтта мне все равно что сестра, – живо возразил Крестный. – Вы хорошо это знаете…
– Жалко, что ты уходишь, Крестный. А что ты собираешься делать?
– У меня есть дядя, он плотник в Брёйле. Попрошусь к нему в ученики.
– Хорошее ремесло, – сказал отец.
– Да, неплохое.
– Ну что ж, раз тебе так хочется… Они вернулись в кухню.
– Господи, да разве так можно! – воскликнула мать, бросая суровый взгляд на Мариэтту.
Девушка поджала губы и отвернулась.
– Ну, до свиданья, матушка, – сказал Крестный.
– До свиданья, сынок, – грустно ответила мать и поцеловала Крестного, потом еще и еще раз.
Отец похлопал Крестного по плечу и крепко пожал ему руку. Катрин повисла у него на шее, заливаясь слезами.
– Я не хочу, чтобы ты уходил! – рыдала она. – Не хочу!
– Я вернусь, – сказал Крестный, – обещаю тебе, что вернусь, моя Кати.
Он вытащил из кармана конфеты, насыпал ей полную горсть. Потом достал голубую ленту и протянул матери.
– Пусть заплетает в косы по праздникам, – сказал он.
– Незачем было тратить деньги, они тебе самому пригодятся, пока не устроишься.
Катрин сосала леденец, и соль ее слез примешивалась к приторной сладости конфеты.
– Ну, мне пора, – вздохнул Крестный.
Он неловко подал руку Мариэтте; девушка протянула ему кончики пальцев.
– До свиданья, Мариэтта!
– Прощай, – ответила она.
– Желаю всем здоровья и счастья, успехов и благополучия, – глухо проговорил Крестный.
– Спасибо, и тебе того же желаем, – ответили в один голос отец и мать.
– Спасибо! Спасибо! – повторила за ними Катрин, и Крестный ушел.
Фелавени, дворовый пес, вприпрыжку побежал за ним.
– Ушел, – пробормотал отец.
– Ушел, – как эхо повторила мать. Отец пожал плечами.
– Мариэтта, – сказал он сухо, – чего ты стоишь без дела? Помоги маленько матери, черт возьми!
Мариэтта ничего не ответила. Схватив тряпку, она яростно принялась стирать пыль с комода, потом со стола, с сундука, со стенных часов, со шкафа…
Глава 4
Осенью Обен пошел в школу, и пасти свиней вместо него приходилось Катрин. Рано утром свиньи выбегали, визжа и хрюкая, из свинарника позади фермы, толкаясь, огибали кухню, на мгновение замирали в нерешительности у края дороги и снова устремлялись вперед, вслед за толстой маткой, в каштановую рощу.
Сбор каштанов только что закончился, и Катрин приводила сюда своих питомцев: пусть полакомятся каштанами, закатившимися в густой мох или в заросли папоротника.
Иногда девочка встречала здесь других пастушек своего возраста: Марион с фермы Лагранжей и Анну от Мориера. Собаки мирно дремали на залитой солнцем поляне, свиньи в поисках каштанов прочесывали своими пятачками кусты и мох, а девочки либо собирали лисички и последние осенние грибы – боровики, либо, пересмеиваясь, уписывали ломти серого хлеба.
Марион, которой должно было скоро исполниться восемь лет, была самой болтливой. Катрин и Анна, затаив дыхание, слушали ее бесконечные рассказы о пречистой деве и святых, об оборотнях и привидениях, которые бродят ночью вокруг дома или с визгом и воем проносятся над крышами.
Рассказы эти так захватывали девчонок, что они иной раз приседали от страха и с размаху шлепались на землю, усеянную колючей кожурой каштанов.
Вскочив как ужаленные, они отдирали колючки, глубоко вонзившиеся в их голые ноги.
– У, проклятые, чтоб вас черти побрали! – бранилась Анна, к великому смущению Катрин.
Когда солнце клонилось к западу, девочки окликали собак: пора было гнать свиней домой. В роще поднимались визг, лай, сумасшедшая беготня, от которой взлетали в воздух опавшие листья, и вот уже свиньи бегут неторопливой трусцой к дому.
Однажды Катрин освободилась раньше обычного; ей не пришлось даже запирать за свиньями двери хлева. Отец, работавший во дворе фермы, сделал это вместо нее. Проводив подружек, она возвращалась домой по берегу канала.
Смеркалось. Небо затягивали пышные облака – белые, золотистые, сизые. Катрин любила смотреть на облака, стараясь угадать в их быстро меняющихся очертаниях то лица ангелов, то видения сказочных городов, то неприступные горы – целый мир, куда более прекрасный и фантастический, чем тот, что раскрывался перед нею в рассказах Марион. Как необычно выглядит все вокруг – и облака, и небо, и земля, – если идти не как все, лицом вперед, а медленно пятиться, глядя прямо перед собой…
И вдруг… что случилось? Она летит куда-то вниз, она падает…
Холодная вода обжигает ее ноги, грудь, спину… Канал… она забыла, что идет по самому его краю… Она упала в канал, сейчас она утонет, умрет…
Далеко-далеко, на другом конце луга, она видит отца у дверей стойла. Он не смотрит в ее сторону… Позвать? Нет, ни за что! Он рассердится… Сейчас она умрет… Уже трудно дышать, уже она… Но что такое? Катрин почему-то не тонет, что-то удерживает ее на поверхности. Это ее брезентовый плащ, плащ пастушки, – он распахнулся, развернулся, словно гигантский лист кувшинки, и поддерживает ее… Катрин барахтается, шлепает руками по воде, но течение относит ее все дальше и дальше… Наконец, взмахнув руками, она подгребает под себя воду, медленно подплывает к берегу, хватается за пучок тростника, подтягивается… но стебли трещат, обрываются, и течение снова увлекает ее на середину. А плащ уже намок, отяжелел… Катрин яростно колотит по воде руками, ну совсем как Фелавени, когда мальчишки бросают его в воду… Вот другой пучок тростника, словно бы попрочнее… Катрин уже у самого берега; она выгибается, напрягает все силы, ложится грудью на край канала, вползает на берег… И вот она уже лежит на траве – дрожащая, промокшая до нитки, но живая и невредимая…
Отдышавшись, Катрин вскакивает на ноги и бросается прочь от канала.
Миновав каштановую рощу, она бесшумно проскальзывает мимо отца: только бы он не заметил ее! Перебежав дорогу, она поднимается на крыльцо, открывает дверь…
В первую минуту мать не знала, что и подумать. Девочка стояла перед ней, низко опустив голову, вода бежала с нее ручьями, заливая пол. Вдруг мать побледнела, бросилась к дочке, схватила ее на руки и крепко прижала к груди, целуя и плача.
– Маленькая моя! – бессвязно лепетала она. – Моя маленькая Кати!
Сокровище мое! Бедная моя детка…
– Боже мой! Боже мой! – повторяла Мариэтта.
Вдвоем они быстро раздели девочку, растерли суровым полотенцем. И вот Катрин уже лежит в постели с грелкой, и Мариэтта дает ей выпить горячего липового отвару. А мать снова шепчет ей на ухо ласковые слова и целует, целует без конца…
И отец здесь. Он и не думает сердиться. Большой и неловкий, он стоит в ногах кровати и молча смотрит на дочку.
– Подумать только! Эта маленькая дурочка побоялась позвать вас на помощь, Жан… Думала, что ей попадет…
Отец не говорит ни слова. Он только улыбается такой ласковой, такой робкой улыбкой…
Ах, это тепло постели! Эта любовь и нежность окружающих! Это ощущение счастья!
* * *
– Ну что ж! Там, по крайней мере, наши дети не будут падать в канал.
Так рассудила мать, когда отец решил наконец расстаться с Жалада.
Нечего было и думать оставаться здесь на зиму. Отца это, по-видимому, огорчало гораздо больше матери. Но что поделаешь?
Все случилось сразу после молотьбы. Госпожа де ла Мот, владелица Жалада, приехала вместе со своим сыном Гастоном. У мамаши с сынком был наметанный глаз. Они прохаживались по усадьбе, пересчитывали снопы. Должно быть, несмотря на свои земли, хозяева отнюдь не были богачами, жили довольно скудно и были не прочь заполучить с фермера лишний мешок зерна или курицу.
Пока шла молотьба, Робер, работник Шарронов, пил сколько хотел.
Разгоряченный вином, утомленный работой, пылью и жарой, этот угрюмый и злобный человек с самого утра был не в духе. Непрерывное хождение хозяйки и ее сына от гумна к риге и обратно явно раздражало его. Он яростно колотил цепом, стараясь, чтобы вся пыль летела в сторону дамы, и ругался самыми грязными словами, надеясь, что она оскорбится и уйдет. Но ничего не действовало! Госпожа де ла Мот продолжала как ни в чем не бывало свою прогулку, посматривая зоркими сорочьими глазами на снопы, на кучу обмолоченной ржи, на первые мешки с зерном.
Наконец терпение Робера лопнуло; желая якобы освободить угол риги, он схватил громадный сноп и с размаху швырнул его в другой конец помещения, где в эту минуту стояла госпожа де ла Мот. Удар был так силен, что дама рухнула на землю как подкошенная. Сын бросился к ней со всех ног, восклицая:
– Мама, мамочка, вы ушиблись?
И все семейство Шарронов бежало за ним, лепеча слова соболезнования.
Господин Гастон помог матери подняться с земли. Ее черное шелковое платье было перепачкано пылью и навозной жижей. Негодующие и безмолвные, мать и сын проследовали мимо Шарронов к своему экипажу, ожидавшему их в тени каштанов. Жан Шаррон растерянно брел позади, продолжая бормотать извинения.
Садясь в экипаж, госпожа де ла Мот сухо проговорила:
– Шаррон, или вы немедленно выгоните этого хама, или вам придется подыскать себе другую ферму!
Именно это последнее решение пришлось принять отцу с матерью. Нечего было и думать о том, чтобы рассчитать Робера: вот уже несколько дней, как он был помолвлен с Мариэттой, и этому предшествовало событие совсем иного порядка.
У Лагранжей, соседей Шарронов, был бык – огромное черное чудовище с массивной головой, короткими острыми рогами и вечно слюнявой мордой. В ноздри быка было продето железное кольцо с веревкой, за которую Марсель Лагранж мог водить этого злобного дикого зверя. По ночам вся округа слышала, как бык ревет и мечется в своем стойле.
Как-то утром обитатели Жалада услышали шум, крики и свирепый лай собак, доносившиеся из низины, где стояла ферме Лагранжей. Жан Шаррон вышел на крыльцо и прислушался.
– У Лагранжей что-то стряслось, – сказал он.
– Ты думаешь? – спросила мать. – По-моему, они просто выгоняют скотину в поле.
Но вскоре и она вынуждена была признать, что у соседей действительно творится что-то неладное.
– Пойду погляжу, – сказал отец.
– И я с вами, – предложил Робер.
Женщины столпились на пороге, глядя вслед уходящим. Но мужчинам не пришлось идти далеко. Они скоро увидели, в чем дело: сорвался с привязи и убежал бык. Лагранж и его сыновья пробовали окружить его, но бык, опустив рога, ринулся на самого младшего, и тот, чтобы спастись, проворно вскарабкался на яблоню.
Теперь бык, черный и страшный, шел по дороге, которая, поднимаясь по косогору, вела к ферме Жалада.
Увидев зверя, отец стал лихорадочно озираться, ища хоть какую-нибудь палку или сук, но под рукой не оказалось ничего, кроме тоненького орехового прутика, который он выдернул из ближайшей изгороди.
– Боже милосердный! – закричала мать. – Эта зверюга сейчас убьет моего мужа!
Бык остановился посреди дороги и низко пригнул к земле голову. Видно было, что он сейчас ринется на высокого худого человека с жалкой хворостиной в руке и проткнет его насквозь своими острыми рогами.
И тогда-то произошло событие, которое так поразило и отца, и мать, и Мариэтту, и Катрин с Обеном, и все семейство Лагранжей, столпившихся внизу, на обочине дороги: Робер, работник, твердым шагом двинулся прямо на быка.
Подойдя почти вплотную к разъяренному животному, он остановился и слегка пригнулся, разведя руки в стороны. Бык в бешенстве ударил копытом о землю.
Все затаили дыхание: еще минута – и бык кинется на смельчака, поднимет его на рога и отшвырнет далеко в сторону окровавленное, бездыханное тело… Но человек опередил зверя: он первым бросился в бой и схватил быка за страшные острые рога. Бык взревел; мотая во все стороны головой, он пытался освободиться от цепкой хватки и могучим усилием приподнял было противника в воздух. Но через секунду Робер уже снова стоял на земле, широко расставив ноги, и можно было только догадываться, с какой ужасающей силой давят его руки на рога, медленно пригибая массивную голову к земле. Бык хрипел, глаза его налились кровью, из полуоткрытой пасти текла слюна. Вдруг шея его согнулась, и он упал на колени. Робер склонился над побежденным, пот градом катился по его лицу. Он кивнул Лагранжу, и тот, подбежав, продел веревку в железное кольцо. Бык замычал протяжно и жалобно.
– Вот и все! – хрипло сказал Робер.
Он вытер руки о штаны и смахнул с лица пот.
Лагранж поднял быка на ноги.
– Ну и силища у человека! – изумленно пробормотал он.
Отец переломил надвое ореховый прут и швырнул в придорожную канаву.
– Спасибо, Робер, – сказал он. – Спасибо.
– Не за что, – ответил работник, подтягивая брюки.
Вечером того же дня, когда Катрин и мальчики уже спали, Мариэтта попросила родителей выйти с ней на минутку во двор. Ей необходимо поговорить с ними наедине.
– Вот еще новости! – удивился отец.
Мариэтта настаивала. Когда они втроем вышли из дома в темноту осенней ночи, девушка попросила у них согласия на брак с Робером.