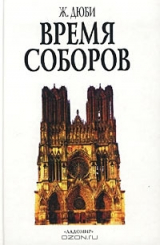
Текст книги "Время соборов. Искусство и общество 980-1420 годов"
Автор книги: Жорж Дюби
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
Другой путь – путь оккамизма. Растет популярность учения Уильяма Оккама, который «прежде всего выступал за строгое разделение духовного и светского. Область первого, сердце, остается под духовным контролем очистившейся Церкви. Что же касается области разума, здесь, напротив, следует избегать любого церковного вмешательства. Это учение предполагало освобождение науки из-под гнета Церкви и в то же время освобождало ее от влияния различных метафизик, в частности Аристотелевой системы. <...> Новый путь, побуждавший к непосредственному, критическому, свободному от влияния любой заранее принятой системы взглядов исследованию каждого отдельного явления, оказался необыкновенно плодотворным. Этот путь подразумевал, что факты следует представлять такими, какие они есть, во всем их многообразии, символ абстрактной идеи уступал место истинному образу того или иного явления тварного мира. Учение Оккама напрямую способствовало тому, что в искусстве принято называть реализмом».
Впрочем, перемены в религиозности заключались не только в этом. «<...> Христианская религия в конце концов перестала ограничиваться ритуалами и быть делом лишь священнослужителей. В XIV веке она стала привлекать к себе народные массы. <...> Начался период избавления от влияния Церкви. Однако это не было отходом от христианства. Наоборот, к христианству проявлялся все более сильный интерес, отношение к нему становилось более личным, более глубоким благодаря распространению и укоренению в сознании евангельского учения. До тех пор в Европе существовала только видимость христианства. Лишь очень немногие действительно жили в соответствии с учением Христа. С кардинальным изменением отношения к миру христианство становится народной религией. <...> В новом христианстве миряне уже не молчаливые и бессознательные зрители богослужения. Все члены светского общества, знать <...>, рыцари-грабители <...>, итальянские банкиры <...>, ганзейские купцы, владельцы крупных ферм и даже городские ремесленники в соответствии со своими возможностями участвовали в религиозной жизни. Художественное творчество было одной из составных частей этой жизни. Служа прославлению, горячему поклонению, выразившемуся в жертвенности, в неприятии богатства, в надежде заслужить милость Господа или спасительное заступничество, художественное творчество более чем когда-либо выполняло религиозную функцию». Поскольку «главное место занимали личные духовные достижения – молитва, благоговение сердца и постепенное восхождение души к Богу <...>, обретают смысл новые формы религиозного искусства».
Одна из таких форм – новые городские храмы. «Новая архитектура в своем стремлении привлечь как можно большее число верующих к участию в богослужении развивалась, отрицая само понятие амвона. Она разрушала любую ограду, убирала перегородки. Необходимо, чтобы каждый мог отовсюду видеть тело Христово <...> Вдоль боковых стен вытянулся ряд внутренних часовен». Эти часовни, которые строили и короли, и принцы, и религиозные братства, и цехи и гильдии, и богатые семьи, были местом как поминальных служб, так и молитвенного, духовного созерцания. Целью нового благочестия – имеются ли в виду конкретное религиозное движение devotio moderna или обновленные формы религиозности в широком смысле – «было подготовить душу к брачному союзу со Святым Духом, вести ее к Нему навстречу, оградить в решающий момент, на пороге смерти, от подстерегающих опасностей. Верующего призывали приблизиться и услышать Слово Божие, черпать в нем пишу для постоянного размышления». Это Слово Божие распространяется через переводы Библии на народные языки (с чем активно борется католическая Церковь), через проповедь, которая, в целях убедительности, становится все более и более театрализованной, через духовную драму, религиозные «спектакли». Это отражается и в изобразительном искусстве.
«Слава пришла к Джотто благодаря тому, что он лучше своих предшественников сумел воспроизвести на стенах церквей сцены таинственной драмы. Оказавшись гениальным постановщиком, он запечатлевал сценическое движение, предлагал примеры образов тем, кто желал изобразить святого Франциска Ассизского, Иоакима, Деву Марию или Иисуса, понять глубинные черты этих образов, чтобы добраться до их духовной сути». Зримые изображения священного воздействовали на простой народ, но одновременно выражали веру этого простого народа. «Монументальное искусство, как и произведения малых форм, появившиеся благодаря развитию индивидуальной религиозности, в XIV веке предстают как иллюстрация веры простого народа».
Радость жизни, описанная выше, никак не исключала страха смерти. «Христианство XIV века было не столько наукой жить, сколько искусством умирать, а часовня – не столько местом молитвы и созерцания, сколько местом отправления погребального культа. Опрощение религии и влияние на нее светского общества привели к тому, что мысль о смерти заняла главенствующее положение. В религиозных обрядах и иконографии на первый взгляд выступил вопрос: что происходит с умершим, куда он попадает? Учение официальной Церкви предлагало успокаивающий ответ. Смерть – это переход, окончание земного путешествия, прибытие в гавань. Однажды, быть может уже скоро, наступит конец времен, Христос во славе придет на землю, произойдет всеобщее воскресение из мертвых. Тогда праведники будут отделены от грешников, огромная толпа воскресших разделится на две части: одни пойдут навстречу вечной радости, другие – к вечным мукам. Ожидая наступления последних дней, умершие находятся в месте отдохновения и покоя, спят вечным сном».
Но мощное влияние народных верований проникает и в официальную религию, и в изобразительное искусство, «На стенах церквей появились новые символы. Проповедники, деятельно участвовавшие в религиозной жизни, не смогли уничтожить любовь ко всему земному, сдержать всплеск оптимизма, охватившего светское общество. Они пытались выразить в своем обращении к народу хотя бы ту тревогу, которая находилась на другом полюсе оптимизма, – страх перед смертью, разрушающей все земные радости. <...> Новое изображение сильнее действовало на зрителя, так как его трагическая глубина задевала струны нового отношения к миру. В конце XIV века центральное место в религиозной иконографии вновь заняли изображения мрачного и зловещего». Сюда относится, в частности, сверхпопулярный сюжет Пляски Смерти — изображения танца, в котором участвуют люди, полуразложившиеся трупы, скелеты; среди персонажей представлены обычно все сословия и состояния: мужчины и женщины, старики и дети, священники и миряне, крестьяне и рыцари, короли и Папы и т. д. Этот сюжет символизировал тщету всего земного. «В глубинах народных верований образ торжествующей смерти часто сливался с образом Гаммельнского Крысолова. Смерть-музыкантша завораживала своей дурманящей мелодией мужчин и женщин, молодых и стариков, богатых и бедных, Папу, короля, рыцаря – любого человека, независимо от того, на какой социальной ступени он находился. Она была неумолима».
Такое отношение определяет сюжеты не только живописи. Скульптурные изображения на надгробиях появляются еще в XII веке, а «пора их расцвета пришлась на XIII век <...> Духовенство приняло изображение умерших в виде лежащих фигур, но требовало, чтобы скульптуры были иератическими и безмятежными. <...> Их глаза открыты, из них стерлось воспоминание обо всех событиях земной жизни, лица преображены, исполнены красоты, находящейся вне времени, красоты, присущей телу, ожидающему воскресения из мертвых. Они спят спокойным сном, который может продолжаться вечно. Они перешагнули порог смерти, чтобы мирно достичь берегов вечности».
Теперь все не так. Появляются изображения разложившихся трупов, скелетов, и это «символизировало пустоту материального мира, обреченного на тлен и возвращение в прах. Те, кто заказывал подобные изображения, желали, находясь на пороге смерти, продемонстрировать свое презрение к своему бренному телу, оторваться от земного существования и превратить строительство гробницы в акт назидания и смирения, проповедь, зовущую к покаянию».
Но бывало и иное. «Заказчики не желали, чтобы художник изображал их погруженными в священный сон и безвестность избранных. Они требовали, чтобы их изваянию были приданы яркие, узнаваемые черты, чтобы оно было наполнено жизнью <...> Знатные особы желали, чтобы на их могиле находилось изображение, обладавшее чертами сходства с покойным. <...> Лица умерших стали излюбленной темой мастеров XIV века, стремившихся запечатлеть то или иное выражение».
При этом «стремление отметить каким-либо личным знаком главное из заказанных при жизни произведений искусства, которым оставалась гробница, было сродни другому желанию, быть может менее осознанному, но столь же противоречившему духу отречения от мирской суеты. Запечатлеть свои черты в камне означало продлить их жизнь, избавить их от разрушений, поносимых смертью, символизировало победу над деструктивными силами. <...> На усыпальнице, состоявшей из нескольких уровней, фигура умершего, преклонившего колени или же восседающего на тропе в полной славе <...>, символизировала победу над тем образом умершего, который они отрицали».
Это желание утвердить себя в вечности находит соответствие в рыцарском тяготении к славе, к подвигу, но и к пышной, театрализованной жизни. «По убеждению рыцаря и крупного буржуа, изо всех сил стремившегося подражать ему, богатство мира должно сгорать и растворяться в празднике. Феодальное общество просто не мыслило отправление власти и практику применения оружия без сопутствовавшего им расточительства. Самым лучшим сеньором считался тот, кто беспрестанно черпал из своих сундуков, осчастливливая тем самым всех окружающих. Для того чтобы сеньора любили и служили ему, он должен жить в постоянном окружении огромной свиты, устраивать праздники, созывать друзей на веселые пирушки, которые постепенно становились все более рафинированными и утонченными».
Рыцарская куртуазная любовь становится все более плотской, при всей своей утонченности. Возникает стремление увидеть – и изобразить – обнаженное женское тело. Это происходит не сразу. «Если скульпторы и художники отваживались показать обнаженное тело женщины, то непременно с оттенком осуждения, считая его греховным. Их охватывало какое-то странное беспокойство. Оно навязывало им нервный, пронзительный стиль Пляски Смерти и заставляло отмечать тела знаком порочности. В готическом мире из всех форм вновь освященной природы тело женщины освободилось от греха последним. Чтобы затем расцвести для земной радости».
Не менее, чем любовь, высшую элиту XIV века волнует власть. «Культура XIV века пришла к государям, людям, которые правили, заключали мир и вершили справедливость. Светское искусство Европы, большинство шедевров которого было создано по заказу государей, прославляло главным образом могущество». Символом этого могущества был замок, цитадель, и «правители XIV века действительно хотели, чтобы в цитадели, демонстрировавшей их могущество, поселилась радость. <...> Если их жилище должно было по-прежнему сохранять функции крепости, то оно хотя бы становилось по крайней мере уютнее. <...> Государь, цвет рыцарства и, следовательно, образец галантной учтивости, должен был в первую очередь обустроить в своей резиденции места, способствовавшие интимным утехам и любовным праздникам. Во всех новых или отремонтированных замках около старого зала, где собирались воины и где хозяин вершил правосудие, располагались небольшие комнаты с камином. Гобелены, развешанные на стенах, придавали им теплоту и уют. Итак, в XIV веке рыцарский замок начал постепенно превращаться в особняк».
В немалой степени к утверждению своего могущества стремились и города, в первую очередь самые богатые и самые независимые – свободные коммуны Италии. Знаком этого становились не только палаццо, где пребывала местная власть, но и фрески, «воспевавшие величие городов». В своих фресках в Зале заседаний Совета Сиены Амброджо Лоренцетти «не ограничивает жизнь символическими рамками архитектуры соборов. Он переносит ее на театральные подмостки, поскольку политика свободна от литургии. Народ мирно трудится, стремясь разбогатеть и при этом не нарушить закон. Скрупулезно выписанный тяжелый труд действительно позволяет достичь благосостояния, необходимого для обеспечения безопасности и дальнейшего продвижения народа по пути справедливости. Тем не менее тривиальные усилия крестьян и торговцев влекут за собой исключительно радости дворянства, немотивированные действия, позволяют беззаботным девушкам устраивать танцы, а кавалькадам всадников отправляться на соколиную охоту. Однако самое главное заключается в том, что эта публичная аллегория могущества представляет собой одно из самых восхитительных изображений чувственной природы. Это первый настоящий пейзаж, написанный на Западе».
Природа в Средние века долгое время «была концептуальной формой проявления сущности Бога, непреходящим и искусственным явлением, которое нельзя постичь с помощью зрения, слуха, обоняния. Не беспорядочной и недостоверной видимостью мира, а тем, чем был Райский сад для Адама до грехопадения: спокойной, размеренной и добродетельной вселенной, упорядоченной Божественным разумом и не подвластной смятению или разложению». Это никак не реальная природа. Романское искусство и искусство ранней готики изображают «не дерево, а идею дерева».
Перемены, по мнению Дюби, связаны с философией, с упоминавшимся оккамизмом. «Все развитие мысли, которое привело к оккамизму и вместе с ним устремилось в треченто, вырвало природу из области абстрактного, переводя ее в сферу конкретного, и восстановило видение в правах. Став союзником францисканской и придворной радости, оно побуждало художников видеть».
Это не осталось убеждением только придворных или францисканцев. «Рыцарское общество, которое переняло эстафету от лучших представителей Церкви, намереваясь управлять творческим процессом, неожиданно проявило любопытство и стало находить удовольствие в созерцании вещей. <...> Рыцарская культура вызвала к жизни четкое изображение действительности – правда, действительности фрагментарной».
Однако такое изображение действительно фрагментарное, оно не есть полное и точное отображение природы. Пейзаж как жанр возникает в Италии. Здесь, как и везде, в XV веке, как и всегда, это означает, что таково было желание заказчиков. «У итальянских меценатов также пробудилось любопытство к природе вещей. Теперь они захотели, чтобы искусство давало им правдивую картину реальной действительности».
Это новое искусство – не только в области пейзажа – обошло прежнюю куртуазную столицу, Париж. Из Италии новое искусство перешло во Фландрию, и в этих странах со временем появится великое искусство Возрождения. «То, что фламандское искусство, до сих пор провинциальное, внезапно вышло на передовые рубежи в живописи, было связано с политическими событиями: герцоги Бургундские, принцы цветов лилии, унаследовавшие славу и состояние королей Франции, перенесли свое могущество и двор во Фландрию и призвали к себе лучших художников, которым в Париже более нечего было делать. А великий флорентийский век начался тогда, когда утихла смута, посеянная в рядах городской аристократии смертоносными эпидемиями, когда патрицианская элита вновь стала безупречным обществом, воспитанным в уважении к культуре, причем к культуре рыцарского вдохновения. Флоренция превратилась в блистательный очаг нового искусства в тот момент, когда республика незаметно трансформировалась в княжество, когда сеньория переходила под власть тирана, которого позднее сыновья постарались представить как самого щедрого из меценатов» .
Ян ван Эйк и Мазаччо – новые, уже совсем новые художники. «Ян ван Эйк работал на заказ. Он писал портреты каноников, прелатов, финансовых магнатов, возглавлявших в Брюгге филиалы больших флорентийских компаний. Но однажды он решил написать портрет своей жены. Не в облике королевы, Евы или Богоматери, а в жизненной простоте. Эта женщина не была принцессой. Ее изображение имело ценность только для автора. В тот день придворный художник обрел независимость. Он завоевал право созидать ради собственного удовольствия, творить свободно. <...> Мазаччо поместил изображение своего лица среди лиц апостолов... Лицо человека. А теперь еще и лицо свободного художника».
На этой фразе Жорж Дюби завершает свою книгу. Насколько можно судить, для него на этом событии – появлении Яна ван Эйка и Мазаччо – завершается история средневекового искусства и начинается искусство Возрождения, ибо появляется фигура, которой никогда не было в Средние века, – свободный художник, появляется персонаж, которого никогда не было в Средние века, – просто человек.
Поскольку последняя фраза до некоторой степени есть плод мысли не Дюби, а автора настоящей статьи, проницательный читатель наверняка догадался, что здесь завершается затянувшееся цитирование книги профессора Дюби (мне хотелось дать слово самому ученому, сведя свою роль к минимуму), и оный автор переходит к обсуждению «Времени соборов».
Итак, как явствует из этой книги, средневековое искусство формировалось внутри треугольника: экономика – власть – идеология. Экономика в данном случае есть наличие средств, которые можно вкладывать в строительство храмов, в создание иллюминированных рукописей, в изготовление драгоценной церковной утвари, в возведение надгробных памятников и т. д., и т. п. При этом количество средств, вкладывавшихся в искусство, не находится ни в какой зависимости от благосостояния общества. Важно, чтобы эти средства были у тех, кто желает облагодетельствовать Церковь, принести искупительные жертвы Богу, прославить свой род или свой сан, увековечить память о себе самом. То есть у элиты общества.
Вторая сторона треугольника – власть – принадлежит элите, так сказать, по определению. Это могут быть императоры и короли, крупные феодалы и принцы крови, правительства и правители-тираны свободных городов. Любые из тех, кто, как говорят сегодня, «управляет денежными потоками», хотя эти «потоки» могли быть и не собственно денежными, а, скажем, земельными дарениями.
И наконец, третья сторона (или вершина?) треугольника – идеология. Поскольку, как говорилось (и цитировалось) выше, по мнению Ж. Дюби, искусство в первую очередь – жертва Богу, то идеи для этого искусства дают те, кто служит посредником между Богом и людьми, – люди Церкви в широком смысле (переход художественной инициативы в руки мирян есть знак завершения Средневековья, его последней фазы). Это могут быть и государи, и монахи, и епископы, и университетские профессора. В большинстве своем они – духовная, интеллектуальная элита. Поскольку перед нами люди Церкви, то их усилия направлены на спасение в ином мире, спасение их самих и всего христианского народа. Впрочем, университетские науки нацелены на познание этого мира, притом не мира символов, а мира феноменов, явлений. И в этом профессора смыкаются с нецерковной, чисто мирской элитой – рыцарской и придворной, которая также пристально вглядывается в этот земной мир, мир яркий, красивый, мир любви, празднеств, охоты и ратных подвигов.
Следовательно, искусство творит элита. Нет, воплощают те или иные произведения, так сказать «в материале», мастера, но идеи, но художественные программы дают люди образованные и социально возвышенные. Искусство творится сверху, и появление фигуры свободного художника, изображающего то, что он сам желает изобразить, знаменует завершение Средневековья.
Для профессора Дюби культура созидается на верхнем этаже общества и оттуда спускается в народную толщу. Именно это его мнение вызвало несогласие многих современных исследователей.
Впрочем, спорить с Ж. Дюби можно о многом. Некоторые историки подвергают сомнению его теорию «феодальной революции», вообще его взгляды на средневековый социум, на роль идеологии – в том числе, и в первую очередь, осознанных идеологических воззрений – на формирование этого социума[21]21
См., напр.: Бессмертный Ю. А Рецензия на: Duby G. Les trois ordres ou rimaginaire du Feodalisme// Вопросы истории. Μ., 1981. № 1. С. 161—168; ср.:Гуревич А. Я. Указ. Соч. С. 142, 146-152.
[Закрыть]. Можно, – касаясь уже непосредственно «Времени соборов» – усомниться в отнесении искусства Яна ван Эйка и вообще нидерландской живописи XV века к Возрождению, ссылаясь при этом на авторитет И. Хёйзинги[22]22
«Здесь делается попытка увидеть в XIV—XV вв. не возвещение Ренессанса, но завершение Средневековья; попытка увидеть средневековую культуру в ее последней жизненной фазе, как дерево, плоды которого полностью завершили свое развитие, налились соком и уже перезрели» (Хёйзинга И. Осень Средневековья. М, 1988. С. 5).
[Закрыть]. Я мог бы попытаться оспорить и заявление Ж. Дюби о массовых страхах, связанных с ожиданием конца света в 1000 и 1033 годах – целый ряд специалистов считает сведения об этом позднейшим вымыслом, возникшим на рубеже XV и XVI веков и окончательно утвердившимся лишь в XVIII веке[23]23
См., напр.: Поньон Э. Указ. соч. С. 19—29. Впрочем, известный отечественный историк, автор предисловия к книге Э. Поньона, продолжает поддерживать идею «великого страха» перед 1000 годом (см.: Левандовский А. П. Эдмон Поньон и феномен тысячного года.// Поньон Э. Указ. соч. С. 6—12).
[Закрыть].
И все же главный узел конфликта между профессором Дюби и рядом его коллег по цеху историков был обозначен выше. Я приводил уже немалое число цитат с утверждением о том, что искусство, и в первую очередь идеи, которые легли в его основу, творит интеллектуальное и социальное меньшинство. Сведу их воедино и добавлю новые. «Процессом творчества всегда управляют господствующие в обществе силы». «Если бы непререкаемая власть малочисленной группы аристократии и духовенства не оказывала такого сильного влияния на толпы подчиненных работников, никогда на бескрайних пустошах, в среде грубого, дикого и бедного народа не возникли бы художественные формы, эволюция которых рассмотрена в этой книге». «Признаем же, что архитектура и изобразительное искусство XI века, как музыка и литургия, были неким способом инициации. Поэтому в их формах не было ничего народного. Они обращались не к толпам, а к избранным, узкому кругу тех, кто начал взбираться по лестнице, ведущей к совершенству». «Эстетика, к которой обратилось монастырское искусство, была замкнутой, обращенной внутрь себя, открытой лишь посвященным, чистым людям, которые, отказавшись от погрязшего в пороке мира и его соблазнов, возглавляли христианский народ в его движении к истине». «Основные формы этого искусства возникли в тесном кругу духовенства, приближенного к трону, в немногочисленном обществе, отличавшемся высоким уровнем достатка, в среде тех, кто находился в авангарде интеллектуальных изысканий». «Новое искусство, создателем которого был Сугерий <...>». «Их [каменщиков, витражистов и скульпторов. – Д. X.] работой руководили ученые». «Искусство Франции, выросшее в соборных школах, охотно украшало стены церквей изображениями семи свободных искусств. С конца XII века искусство принадлежало логикам. Вскоре оно должно было стать искусством инженеров». «Что касается искусства, до сих пор оно было в первую очередь молитвой, поклонением, воспеванием славы Божией. Теперь же благодаря возникшей потребности найти новые средства убеждения искусство целенаправленно, а отнюдь не случайно, стало орудием наставления, поучения». «Таким образом, постепенно творческие обязанности перешли к специалистам – пришло время подрядчиков. <...> Эти люди прекрасно знали свое дело. Они были близко знакомы с докторами богословия, которые считали их равными себе и приобщали к науке чисел и диалектических построений. Но они не были священниками, не посвящали себя Христу, не проводили часы в размышлениях над Словом Божиим, не искали в Писании темных мест. Они выполняли работу, но не черпали вдохновение <...> непосредственно в созерцании небесных иерархий. Их больше занимали проблемы динамики и статики. Занимаясь изобретательством, они оставались виртуозами, а не мистиками. Их достижения заключались в том, что им удавалось преодолеть сопротивление материала, а не проникнуть в какую-либо тайну. Те, чей разум склонялся к логике, ставили свой успех в зависимость от точности геометрических построений». «Это были те самые ценности университетской и рыцарской культуры, которыми вооружились некоторые крупные негоцианты, повсюду, и особенно в Италии, составлявшие элиту. В то время лишь эта элита, за исключением Церкви и княжеских дворов, была способна порождать меценатов, действительно поддерживающих творчество». «Новый художественный язык был слишком высокопарным и новым. Он не был понятен тем, кому успехи тосканской экономики лишь недавно открыли дорогу к высокой культуре. Людям, жившим к северу от Альп, этот язык казался абсолютно чуждым». «Рыцарское общество, которое переняло эстафету от лучших представителей Церкви, намереваясь управлять творческим процессом, неожиданно проявило любопытство и стало находить удовольствие в созерцании вещей». «У итальянских меценатов также пробудилось любопытство к природе вещей. Теперь они захотели, чтобы искусство давало им правдивую картину реальной действительности».
Социальная и культурная история искусства есть история представителей социальной и культурной элиты. Изменения в их экономическом положении, в объеме власти и – главное – в достаточно осознанных представлениях о Боге и мире порождают изменения в художественных стилях. Нет, социальные перемены, даже социально-культурные, разумеется, имеют место и помимо круга элиты, но на искусство практически не влияют. «Между 1130 и 1280 годами глубинные течения, незаметно менявшие его [общества. – Д. Х строение, получали едва заметный отклик в узком кругу духовенства, руководившего художниками и следившего за строительством соборов. Эти течения также не нашли отражения в художественном творчестве, развитие которого зависело в значительной степени от движения религиозной мысли».
Разумеется, церковное искусство, ставящее целью приведение народных масс к спасению, должно учитывать смутные чаяния этих масс, приноравливаться к их интеллектуальному и образовательному уровню, дабы проповедь средствами искусства была успешной. «Бедняки хотят слушать рассказ о славе, а не о нищете. Они питаются чудесами. Религиозное искусство XI века пытается сконцентрировать евангельское учение в нескольких знаках». «Бесспорно, многие произведения искусства XIV века были задуманы как видимое, доступное пониманию воплощение религиозной доктрины». «Монахи, наставники пришедшего к вере народа, стремившиеся распространить свет Нового Завета среди самых низов христианского общества, рассматривали печатное изображение как самое надежное средство передачи информации, обладающее, быть может, большей убедительностью, чем чтение Библии. Для того чтобы быть доступной большинству мирян, Библия в XIV веке стала "исторической", то есть ее повествование развертывалось теперь в виде череды историй, столь же удивительных и захватывающих, как рыцарские романы или легенды. Для тех, кто не умел читать, появилась своя "историческая" Библия – "Библия бедняков", в которой рассказ о событиях Священной истории был представлен в виде ряда выразительных иллюстраций с простым сюжетом, пересказывавших суть событий». Но все равно искусство творится только и исключительно «наверху» и если иногда все-таки спускается «вниз», – что, строго говоря, не всегда и не так уж обязательно, – то, как правило, по воле «верхов».
Ж. Дюби вообще полагает, что культурные модели всегда вырабатываются в кругу интеллектуалов эпохи, а затем распространяются в более широкой социальной среде – и это касается не только искусства[24]24
См., напр.: Duby G. Hommes et structures du Moyen Age. P. 1973. P. 299-308.
[Закрыть]. Дюби вообще с большой осторожностью, чтобы не сказать отрицательно, относится к проблеме народной культуры, серьезно сомневаясь в том, что социальные слои, «именуемые народом» (понятие, по мнению Ж. Дюби, весьма расплывчатое), располагали средствами для создания культуры[25]25
См.: Duby G, Lardreau G. Dialogues. P., 1980. P. 79-80.
[Закрыть]. Он вообще отказывается рассматривать весьма живо обсуждаемую в исторической науке проблему народной культуры, и не только потому, что полагает (совершенно основательно), что у нас нет источников, в которых неграмотное большинство, «безмолвствующий народ», высказывались бы непосредственно (существует немалое число историков – например Ж. Ле Гофф во Франции или А. Я. Гуревич у нас, – которые ищут, и весьма успешно, обходные пути исследования). Нет, профессор Дюби отверг проблему «ученая культура/народная культура» как надуманную. Среди прочего, для него проблема противостояния «ученой» и «народной» культуры продиктована упрощенными марксистскими схемами, в ней сказывается актуальное доныне во французской исторической науке наследие романтической школы, наконец, он видит здесь характерные для современного общества ностальгические поиски «корней» в фольклоре, в народных традициях и искусстве[26]26
Ibid.; ср. также: Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 158-159.
[Закрыть].
Наиболее аргументированно, пожалуй, возражает Ж. Дюби А. Я. Гуревич, и интересующихся я адресую к его книге, неоднократно здесь упоминавшейся. Сам же хочу сказать нечто иное. При чтении «Времени соборов» возникает ощущение, что иногда Ж. Дюби под словами «люди», «человек» понимает не только представителей «высшего общества», но всех членов средневекового социума: «Искусство XI века выражало чаяния людей <...> оно стремится дать человеку верное средство воскреснуть озаренным» (курсив мой. – Д. X.).
Более того, время от времени Ж. Дюби признает и некое влияние на религию и, тем самым, на искусство этого крайне неопределенного «народа», этих «низов». «Внимание, которое христианский мир XI века уделял смерти, означало победу глубинных народных верований, укрепившихся с победами феодализма, навязанных духовенству и поднявшихся на верхние этажи культуры, где они вновь нашли мощное выражение». «Становясь все более народной, европейская культура в XIV веке вместе с тем переставала быть церковной». «Священнослужители были, однако, вынуждены считаться с мощными народными верованиями».
«Нисхождение» культуры на низшие этажи общества Дюби не обязательно и не всегда оценивает сугубо отрицательно. «Некоторые привычки и вкусы, свойственные прежде лишь благородным и знатным особам, постепенно распространялись во все более широких слоях общества, независимо от того, шла ли речь об обычае пить вино, носить белье и читать книги, украшать жилище или гробницу, понимать смысл рисунка или проповеди, заказывать произведения в художественных мастерских». Широкое распространение христианства в массах в XIV веке отрицательно сказывается не только на искусстве, на культуре. «Эти люди [странствующие проповедники, продавцы индульгенций. – Д. X.], волновавшие народные толпы, часто прибегали к банальностям. Они желали, чтобы слушатели плакали, внимая им, стремились затронуть потаенные глубины души, вызвать эмоции, способные привести к массовому обращению». Среди них были и обычные шарлатаны, «но благодаря их несмолкаемому красноречию в сердцах народа запечатлевался трогательный и близкий образ Христа. Этот образ был тем более убедителен, что фоном служило представление, народное гуляние. Проповедь проходила в окружении наглядных символов, живописных или скульптурных, религиозных процессий, смешивалась с театральным действом».








