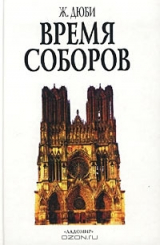
Текст книги "Время соборов. Искусство и общество 980-1420 годов"
Автор книги: Жорж Дюби
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
*
Сложной проблемой, решить которую не представляется возможным, безусловно, были истинные отношения между развитием мысли, религиозных верований, трансформацией коллективного самосознания и изменениями, происходившими в области художественного творчества. Если считать, что проблема определилась в XIV веке, то мы окажемся лицом к лицу со множеством неясностей. В то время связи были гораздо менее очевидными, чем в XI, XII, XIII веках, когда лишь создатели высокого искусства были людьми образованными. Очевидно, что Сен-Дени – непосредственное воплощение представлений Сугерия о мироустройстве. Подрядчики, работавшие на строительстве монастырской церкви, получили от него точные указания, и можно с точностью утверждать, что он имел при этом в виду. Сугерий сам говорил об этом, и легко проверить, что он построил и украсил церковь так же, как он построил бы и украсил проповедь или «Историю Людовика VI Толстого», пользуясь тем же рядом символов, сочетая те же математические и риторические гармонии, сходным образом используя методы размышления, основывающегося на аналогиях. Напротив, хотя невозможно отрицать, что «Райский сад»[156]156
«Райский сад» – здесь: одна из миниатюр «Роскошного Часослова» герцога Беррийского, изображающая Адама и Еву до грехопадения в Земном Раю, само грехопадение и изгнание из Рая; как это нередко бывает в средневековом искусстве, разновременные события изображены одновременно в одной композиции.
[Закрыть] или любая другая страница из «Роскошного Часослова» также передает мировосприятие Иоанна Беррийского, здесь механизмы воплощения идеи в значительной степени утратили очевидность. Это произошло, во-первых, потому, что понять образ мышления владетельной особы 1400 года гораздо сложнее, чем движение мысли бенедиктинского аббата XII века. В частности, и это немаловажно, причиной, во-вторых, стало то, что мысль теперь воплощалась в материальную форму с помощью множества изощренных замен.
Бесспорно, многие произведения искусства XIV века были задуманы как видимое, доступное пониманию воплощение религиозной доктрины. Это относится ко множеству изображений, служивших проповеди церковного учения, и, в частности, к огромному числу живописных произведений, появившихся под влиянием доминиканского ордена. Средневековому зрителю «Торжество святого Фомы Аквинского», написанное Андреа да Фиренце в испанской часовне в Санта-Мария-Новелла, и то же «Торжество», созданное Траини для церкви Святой Екатерины в Пизе, предлагали не образ томистской философии, которую требовалось реабилитировать, но простую, наглядную и потому эффективную схему, в которой этой философии легко находилось место в общей системе знаний рядом с «классиками», Аристотелем и Платоном, святым Августином и Аверроэсом и, следовательно, с мудростью Божией. Однако произведения со столь строго соблюденной структурой в то время встречались редко. Новые формы меценатства уже не так, как прежде, способствовали участию в художественном процессе мыслителей-профессионалов. Как правило, в произведении в лучшем случае можно установить связь между работой художника и мировосприятием, соответствующим интеллектуальному уровню заказчика, занимающего определенную ступень в обществе. В том же, что нашло выражение, речь в меньшей степени идет о мысли, верованиях или знаниях, чем о ценностях, связанных с социальными привычками, обычаями и запретами. В результате изменений, связанных с процессами вульгаризации и обмирщения, искусство XIV века меньше заботится о просвещении, изложении догм или концепций. Оно становится скорее отражением существующих культурных моделей, неким знаком, подтверждением общественного превосходства людей, считавших себя членами избранного общества и в качестве таковых дававших указания архитекторам, скульпторам и художникам, людей, число которых непрерывно росло, а происхождение становилось все более разнообразным.
Для всех, повторим это еще раз, для священников так же, как для правителей и крупных банкиров, существовали одни и те же культурные модели. Они были организованы вокруг двух принципов, двух образцов поведения и мудрости: рыцарства и священства. С начала расцвета рыцарской культуры, иными словами, с конца XI века, шло непрерывное соперничество рыцаря и священника, двух моделей самореализации человека. Многие литературные произведения XIV века, подобно «Сновидению садовника», еще выстроены в форме диалога, горячего спора между представителями духовенства и рыцарства, каждый из которых защищает противоположные принципы и идеалы. Однако одна из новых черт того времени заключается именно в сближении этих двух культур. Этот процесс был обусловлен многими причинами, и в первую очередь изменениями, произошедшими в структуре общества. В XIV веке увеличивается число тех, кто входит одновременно в обе группы. Представители духовенства, погруженные в мирские заботы, постепенно приобретают светские привычки, некогда подобавшие лишь тем, кто занимался военным ремеслом, с другой же стороны, появились milites litterati, рыцари образованные, то есть способные постигать книжные знания и проявляющие интерес к научной культуре. Княжеские дворы, где на духовенство и рыцарей возлагались одни и те же задачи, от которых, следовательно, ожидали равных умений, стали центром сближения двух культур. В частности, именно там, возникнув для развлечения государей, а в более широком смысле для того, чтобы «служить пользе подданных» (ибо просвещение представало теперь одной из главных функций княжеской власти), расцвела необыкновенно выразительная литература, возникшая на стыке двух культур. Книги, созданные, чтобы быть прочитанными, адресовались любому образованному человеку, а не только духовному лицу. Они были написаны не на латыни, а на народном языке, и в то же время они распространяли школьные знания.
Книгами, в которых ярче всего проявилась постепенно приходившая открытость куртуазной культуры схоластическим знаниям, были появившиеся в огромном количестве переводы. В Париже порыв, направленный на то, чтобы люди, воспитанные в рыцарских традициях и имеющие призвание к этому занятию, могли познакомиться с текстами латинских «классиков» школьной культуры, начался в самом конце XIII века при дворе французского короля. Когда для Иоанна Бриеннского перевели военный трактат Вегеция с говорящим названием «Искусство рыцарства», когда Филипп Красивый заказал перевод «Утешения философией» Боэция, его супруга – сборника стихотворений о любви, написанного на латыни двумя поколениями ранее, а невестка – «Метаморфоз» Овидия, можно было говорить о том, что начался процесс, шедший по трем направлениям. Для короля, по-прежнему чувствовавшего себя членом Церкви, переводились тексты духовной направленности; для знатного сеньора, лучшего представителя и образца рыцарской культуры – трактаты, посвященные военному делу; для дам – кодексы куртуазной любви и их лучшие образцы из классической литературы. Когда, следуя прежним направлениям, это увлечение в XIV веке при дворе Иоанна Доброго, Карла V и его братьев приняло более широкий размах, некоторые произведения Тита Ливия, Петрарки, святого Августина, Боккаччо, Аристотеля, университетских магистров, описывавших «свойства вещей», изучавших загадки материального мира, постепенно проникли в систему культурных представлений, общую для рыцарей и дам, находившихся при королевском дворе Франции. Безусловно, эти авторы были представлены крайне скудно, отрывками, грубо вырванными из контекста, фрагментами, которые наиболее соответствовали мыслям и интересам людей того времени. Тем не менее это было достижением, причем значительным. Навстречу прогрессу развивалось еще одно движение.
При дворах Валуа и некоторых принцев крови среди представителей образованной элиты, вышедших из университетов и, следовательно, принадлежавших к духовенству, в конце XIV века формировалось ядро гуманистов. Оно складывалось вокруг нескольких главных фигур, выполнявших при владетельных особах функции секретаря. Эта должность в Париже была внове. Введенная полвека назад при папском дворе в Авиньоне, она нашла широкое распространение во всех политических столицах Европы, а также в городских республиках Италии. Изначально задачей секретаря было редактировать письменные указы знатной особы, поэтому он должен был в совершенстве владеть чистым латинским языком, для чего требовалось усердно читать классиков. Через некоторое время секретарская деятельность стала касаться исключительно мирской стороны жизни, и представители этой профессии невольно начали рассматривать светские латинские тексты с критических и эстетических позиций и более не считали чтение подготовкой к литургической практике или толкованию Слова Божия, напротив, теперь они находили в них примеры политической жизни, свидетельства человеческой истории, осознавали историческую перспективу во времени; чтение стало главным источником радости и примеров светских добродетелей. На этом достаточно высоком уровне перемена взгляда на мир, повлекшая за собой изменения в методах воспитания и образования, открывала дорогу радикальной десакрализации церковной культуры. Это происходило в тот самый момент, когда адаптированные варианты некоторых текстов, до тех пор лежавших в основе всей системы образования духовных лиц, нашли распространение в высших слоях светского общества. В привилегированных кругах княжеских дворов, которые были краеугольным камнем общественного здания того времени и завораживающим образцом для всех выдвиженцев из Церкви и городской буржуазии, течения обмирщения и опрощения сливались, сближая в повседневных человеческих отношениях стереотипы поведения рыцаря и священнослужителя. В то же время происходило еще более тесное сближение, причиной которого стали изменения внутри каждой из культурных моделей.
В том что касается рыцарской культуры, речь в меньшей степени идет об изменениях и в большей – об утверждении. Эта культура определяется, находит свой стиль и вместе с тем обретает мощь, позволяющую заявить о себе, расцвести и широко распространять свою главную ценность – добродетель радости и оптимизма. На XIV век приходится торжество рыцарского духа. Уже давно были собраны воедино различные составляющие образа совершенного рыцаря, который предлагали куртуазные романы и песни. Самые первые и наиболее глубоко укоренившиеся черты определились в сознании аристократии на заре XI века во Франции в тот самый момент, когда складывалась форма существования общества, названная феодализмом. В фундамент были заложены исключительно мужские и военные добродетели – сила, отвага, верность свободно избранному господину. Помимо этого основного ядра, на первый план выходила способность совершить подвиг, доказательство храбрости и владения военным мастерством, венчающая рыцарские добродетели. Средоточием светской культуры стала засиявшая уже в XIV веке радость битвы, победы, торжества над противником, утверждения своей завоевательной мощи.
Следующая группа добродетелей сложилась к тому времени, когда в высшем обществе изменилось отношение к женщине, занимавшей до тех пор крайне низкое положение. Перемены начались около 1100 года на юго-западе Французского королевства. В кругу военных место прежде всего нашлось для жены господина, для его дамы. В связи с этим начали внедряться новые привычки, куртуазный кодекс поведения, которому отныне должен был подчиняться любой рыцарь, заботившийся о собственной славе и чести. Была изобретена новая форма отношений между мужчиной и женщиной, получившая название западной любви. Война и любовь. Чтобы дать определение рыцарской культуре, я бы выбрал три слова: Canti guerrieri e amorosi (Песни войны и любви [ит.) — так назывались мадригалы Монтеверди, что свидетельствует о том, что их слава не угасла и в барочные времена). Действительно, эта культура прежде всего нашла свое выражение в песнях – о деяниях или о любви. С другой стороны, рыцарская культура предстает как некая стратегия. Так же, как поражают противника, добиваются и любви чужой супруги. На самом деле в обоих случаях стратегия изначально была игрой и со временем все больше становилась ею. Игрой, приносящей развлечения, но требующей соблюдения правил чести, то есть кодекса поведения.
Этот кодекс окончательно сформировался во второй половине XII века. Множество литературных произведений передали его положения тем представителям последующих поколений, которые желали выделиться из толпы. Шедевры рыцарской литературы были созданы ранее XII века. В то время возникли персонажи, ставшие образцами рыцарских мифов, – король Артур и Персеваль. Однако наивысший успех этих произведений и наиболее глубокое влияние, оказанное ими на общественные отношения, приходятся на XIV век. В этот период культурной истории Европы яд, заключенный в рыцарских романах, поистине отравил высшие слои общества. Показные поступки представителей этого класса оказались ограничены строгой системой правил, которые имели все меньше общего со спонтанными проявлениями человеческой натуры. Реальная жизнь треченто – это дикая война, пожары, насилие, вооруженные грабежи, мир, живущий по разные стороны крепостных стен, ощетинившихся копьями, среди разграбленных и разрушенных деревень. Этот мир в точности таков, каким Симоне Мартини изобразил его на втором плане за спиной кондотьера. Тем не менее этот воин желает быть рыцарем – он шествует посреди сражения в праздничном наряде. При Креси, Пуатье, Азенкуре французские сеньоры, цвет аристократии, лучшие люди того времени были обязаны, к их глубокому сожалению, сражаться, соблюдая правила куртуазного кодекса. Государи, потерявшие зрение, во время битвы приказывали привязать себя к седлу и направить лошадь в гущу сражавшихся, чтобы найти там славную смерть[157]157
Имеется в виду король Чехии Иоанн Слепой. Рано ослеп, что не мешало ему считаться образцом рыцарства и принимать участие в турнирах и военных авантюрах по всей Европе, не обращая внимания на чешские дела. Погиб в битве при Креси, сражаясь с англичанами на стороне французов именно так, как здесь описано.
[Закрыть], подобно героям цикла романов о Ланселоте. Самые кровавые командиры наемных солдат соблюдали при дворе правила куртуазной любовной игры. В тот самый момент, когда экономическое развитие начало приводить к разорению семей старой аристократии, когда прежняя знать опустилась ниже уровня, который занимали некоторые выскочки, разбогатевшие во время войны – в результате финансовых махинаций или на службе у высокопоставленных особ, в тот самый момент, когда рушились прежние иерархии, начали складываться символические и бессмысленные образы прежнего порядка, которые, однако, весьма успешно способствовали соблюдению правил игры. Примером этого могут быть рыцарские ордена, которые кастильские короли, император, вьеннский дофин, короли Франции и Англии, а вскоре и множество правителей меньшего масштаба основывали в XIV веке, чтобы, подобно королю Артуру, окружить себя новыми рыцарями Круглого стола. Для новых людей единственным способом проникнуть в светское общество было проявить в любовных и военных делах совершенное знание правил и безукоризненное их соблюдение. Вокруг отваги и куртуазности в то время сформировался настоящий религиозный культ, единственный, который еще имел власть над сердцами, нашедший развитие в праздниках и зрелищах, в которые превратились сражения, на турнирах и ночных балах. Именно поэтому в XIV веке высокое искусство перестало ориентироваться на церковную литургию, начало отвечать потребностям светского кодекса поведения и, тем самым, закрепило его, немало способствуя его успеху. Быть может, главным новшеством в искусстве того времени стало появление пышной рыцарской культуры.
Эта культура опиралась на некоторые ценности, в самом начале сблизившие ее с культурой духовенства. В эпоху феодализма Церковь предпринимала усилия, чтобы привлечь к христианству рыцарство, как любую другую высшую форму общественных отношений. Среди качеств, необходимых человеку, посвятившему себя военному делу, некоторые, например сила и осмотрительность, были в равной степени востребованы в богословии. Однако духовенство продвинулось по этому пути дальше. Христианство XI века пришло к освящению насилия и агрессии – крестовый поход стал выражением христианской доблести. Церковь приняла войну, поединки на мечах и благословила смертоубийства, но продолжала порицать стремление к земной радости, главными выразителями которого были рыцарство и куртуазная культура. Подобно лучшим представителям монашества, рыцарь должен был презирать золото и преходящие ценности. Но если он желал разрушить эти ценности, он должен был делать это, доставляя себе удовольствие – швыряя деньги на ветер, проводя жизнь в роскоши и празднествах. Что касается куртуазной любви, плотской по определению, в основе которой, в принципе, лежал адюльтер, она в еще меньшей степени, чем военное насилие, сочеталась с евангельским духом. Во всяком случае, Церковь отказалась освятить ее, после некоторых усилий превратив это чувство в поклонение Деве Марии. Духовенство порицало куртуазную любовь. Поэтому рыцарская литература XIII века, то набросив покров иронии, как в романе «Окассен и Николетт», то грубо, как в песнях Рютбёфа, то с наивной свободой, как в произведении Жуанвиля, заявляла о принципиальном конфликте между теми, кого называла ханжами и лицемерами, последователями косного христианства, воздержания и покаяния, и настоящими рыцарями, надеявшимися примирить менее строгие принципы спасительной религии со своей любовью к жизни и миру.
В это время радостное отношение к жизни, свойственное рыцарской культуре, проникло в стан духовенства. В некоторых христианских провинциях это отношение положило начало фундаментальному перевороту в мировоззрении. Франциск Ассизский, сын богатого горожанина, был проникнут куртуазным духом. Как все молодые люди, принадлежавшие к тому же социальному слою, до своего обращения он мечтал о рыцарских приключениях и сочинял веселые песни. Став слугой любви и избрав своей дамой Бедность, он стремился тем самым достичь совершенной радости в соответствии с куртуазной моделью поведения. Францисканское учение, в большей степени, чем другие, соответствовавшее духу Евангелия, было по своей сути полно оптимизма. Торжествующее, лиричное, оно призывало к примирению всего тварного мира, проповедовало милосердие и красоту Господа через любовь к Его творению. Не отрицая ни одного из положений самой строгой христианской доктрины, но в то же время не отвергая мир и, напротив, погружаясь в него, чтобы победить его, францисканство стало высшим выражением радостного порыва рыцарской культуры. Послание святого Франциска оказалось слишком новым и революционным, чтобы быть принятым романским обществом. Часть его утрачена в XIII веке. Но то, что сохранилось, завоевало весь религиозный мир, широко распространилось в Церкви и, выйдя за пределы ордена миноритов, достигло его соперников – братьев ордена проповедников. Когда в XIV веке религиозные мыслители утверждали, что любое творение содержит в себе частицу божества и поэтому достойно внимания и любви, когда доминиканец Генрих Сузо, охваченный лирическим порывом, вызванным Песней Творений, восклицает, обращаясь к Богу:
Дивный Господи, недостоин я воспевать Тебе хвалу, однако душа моя желает, чтобы небо хвалило Тебя, когда в самой своей великолепной красе освещается солнечными лучами и бесчисленным множеством сверкающих звезд. Пусть дивные поля славят Тебя, когда посреди великолепия лета сияют, как подобает им, в пышном цветочном уборе и своей восхитительной красоте,
все они оказываются в одном ряду с Poverello из Ассизи, который в свою очередь связывает их с этикой рыцарской и куртуазной культуры. Ценности рыцарства и куртуазности теперь усвоены не только всеми образованными мирянами Европы, они коснулись и глубинных основ новых форм церковной культуры.
*
В среду богословов-профессионалов, в мир университетских преподавателей светский дух проникал иными путями. За исключением маленьких светских школ, созданных деловыми людьми в крупных торговых центрах для того, чтобы привить своим сыновьям начала письма и счета, знание которых теперь было необходимо в их ремесле, учеба по-прежнему считалась занятием глубоко религиозным, а университеты – церковными учреждениями. Студентов, как и преподавателей, Церковь считала своими сыновьями. Не все, однако, собирались посвятить жизнь служению Господу. Некоторые факультеты готовили выпускников к светской карьере и были наименее церковным этажом во всем университетском здании. На факультетах, где читали и комментировали тексты из римского права (этим особенно увлекались в школах Болоньи), в течение по меньшей мере двух веков методы схоластического размышления применялись к задачам светского характера, например, таким, которые возникают в процессе управления людьми. Здесь создавались инструменты политической науки, освободившейся от участия духовенства, провозглашавшей верховенство светской власти, власти императора, и отвергавшей притязания Римской Церкви на управление земной жизнью. С 1200 года постепенно происходило знакомство с духом Древнего Рима, его законами, символикой, некоторыми из почитавшихся в ту эпоху добродетелями. Укрепление государств, возникшая у государей потребность в хорошо подготовленных и более многочисленных помощниках способствовали тому, что время, отведенное в университетах на изучение права, постоянно увеличивалось, а следовательно, расширялась и та часть университета, которая была открыта светской жизни.
Однако самые значительные изменения происходили в лоне богословских факультетов в Парижском и Оксфордском университетах, выпускавших лучших служителей Церкви и проповедников. Трещина, через которую должны были проникнуть все веяния свободной научной мысли, образовалась в 1277 году. Решение церковных властей, запретивших преподавание учения Аверроэса, тем самым коснулось и некоторых положений святого Фомы Аквинского. Сомнительными признавались все попытки, предпринимавшиеся в течение полувека парижскими доминиканцами для того, чтобы соединить Аристотелеву философию с христианством и достичь наконец примирения веры и разума, о котором с конца XI века мечтали все мыслители латинского христианского мира. Доминиканский орден выступил против этого запрета. Его генеральные капитулы в 1309 и 1313 годах запретили членам ордена отрицание томизма. В 1323 году орден добился канонизации святого Фомы. Доминиканцы всеми доступными им средствами, и в частности при помощи художественных изображений, стремились добиться признания истинности его учения. Они сумели достичь этого в Италии, где в течение всего треченто университеты хранили верность учению Аристотеля и традиционным схоластическим методам. В Париже и Оксфорде, напротив, позиция ордена проповедников была достаточно шаткой и к 1300 году авангард богословских исследований переместился в соперничающий с ними орден – к францисканцам.
Два минорита – двое английских ученых, получивших образование в оксфордских школах, преподавание в которых издавна велось с упором на изучение математики и наблюдение за окружающим миром, – совершили настоящий переворот в христианской мысли. До сих пор пределом исследований было использование рациональных методов Аристотелевой логики для того, чтобы проникнуть в тайны Сотворения мира. Иоанн Дунс Скотт заявил, что лишь ограниченное число догматических истин может быть основано на разуме и что не следует стремиться постичь остальные – в них следует лишь верить. Вслед за ним Уильям Оккам открыл поистине «новый путь». Его учение радикально противостояло учению Аристотеля. Оккам полагал, что идеи представляют собой символы и не имеют реального выражения, знание может быть лишь интуитивным и индивидуальным, а следовательно, любые попытки абстрактного размышления не имеют смысла, идет ли речь о том, чтобы постичь Бога или сотворенный Им мир. Человек не может достичь этого лишь двумя четко разделенными путями – либо верой, глубочайшим проникновением души в недоказуемые истины, каковы, например, существование Бога или бессмертие души, либо при помощи логической дедукции, применимой лишь к тому, что в этом мире доступно непосредственному исследованию.
Учение Уильяма Оккама, в силу того что оно следовало естественному движению цивилизации своего времени к обмирщению, с наступлением второй половины XIV века вдохнуло новую жизнь во всю европейскую мысль. Оно предлагало двойное бегство от противоречий, навязанных Церковью. С одной стороны, утверждая иррациональность догмы, оно открывало путь постижения Бога не разумом, но любовью. Оно прокладывало широкую дорогу мистицизму, со времен святого Августина питавшему латинское христианство и который, однако, встретил препятствие с развитием схоластики, оттеснившей его в монастыри, францисканские обители и маленькие общины, проповедовавшие аскетизм и покаяние. Христианство XIV века все сильнее склонялось в мистицизм – именно поэтому оно смогло стать истинно народным, доступным для самых слабых, необразованных, простых людей, женщин. Эта религия, став гораздо более личной, в значительной степени утратив общественный характер, начала отдаляться от духовенства. Основным религиозным актом стал теперь поиск Бога в любви, на первый план вышла надежда на соединение, на «брачный союз» самой сокровенной части души каждого человека, тех «глубин», о которых говорит Майстер Экхарт, и божественной субстанции, ибо союз этот заключается в таинственной беседе. И следовательно, какой же здесь может быть роль священнослужителя? Теперь его задача – не богослужение, так как верующий уже не может переложить на другого совершение молитвы, а должен постепенно достичь внутреннего озарения путем приобретения собственного опыта, личного постижения Слова Божия, ежедневного подражания Христу. Миссия Церкви – больше не проповедь, не объяснение. Она ограничивается медитацией и тем, что подает верующим собственный пример. Через священника на верующих нисходит благодать Божия, он свидетель Христов. Требования к священнику выросли, его отношение к власти и богатству не должно было противоречить его новым функциям. Учение Оккама стало залогом успеха любой критики того, что склоняло Церковь соединиться прочными узами с земной жизнью, любых попыток, направленных на то, чтобы ограничить ее притязания, осудить недостойных священнослужителей, доверить светской власти контроль дисциплины в лоне Церкви и заботу о том, чтобы, несмотря на сопротивление, поддерживать в клириках строгую духовность.
С другой стороны, Уильям Оккам, предлагая человеку проникнуть в тайны видимого мира, пользуясь возможностями собственного разума, тем самым провозглашал полную свободу научных исследований. Оккам прежде всего выступал за строгое разделение духовного и светского. Область первого, сердце, остается под духовным контролем очистившейся Церкви. Что же касается области разума, здесь, напротив, следует избегать любого церковного вмешательства. Это учение предполагало освобождение науки из-под гнета Церкви и в то же время освобождало ее от влияния различных метафизик, в частности Аристотелевой системы. Парижский магистр Николай из Отрекура вскоре заявил, что «существует некоторый уровень знания, который люди могут достичь, если будут использовать свой разум не для изучения трудов Философа или Комментатора, но для постижения природы вещей». Новый путь, побуждавший к непосредственному, критическому, свободному от влияния любой заранее принятой системы взглядов, исследованию каждого отдельного явления, оказался необыкновенно плодотворным. Этот путь подразумевал, что факты следует представлять такими, какие они есть, во всем их многообразии, символ абстрактной идеи уступал место истинному образу того или иного явления тварного мира. Учение Оккама напрямую способствовало возникновению того, что в искусстве принято называть реализмом. Поэтому, быть может, следует считать реализм, который в XIV веке начал оказывать некоторое влияние на живопись и скульптуру, следствием некоего иллюзорного «буржуазного духа». Но и искусство того времени, повторим еще раз, не было детищем буржуазии. Его аванпосты находились при княжеских дворах, где в тесном соседстве жили величайшие художники и ученые. Проявившийся в искусстве реализм шел нога в ногу с авангардом университетской мысли.
Мысль эта в своем развитии слилась с глубинным течением рыцарской культуры, заключавшимся в том, что не следовало более обходить вниманием видимый мир, презирать его проявления. Напротив, этот мир становился предметом, достойным исследования. Обе культуры объединяло то, что они призывали реабилитировать творение, цивилизацию, которую некоторые считали достигшей упадка и заката, общество с изменившейся и менее устойчивой структурой, в котором все чаще встречались люди, умевшие читать, способные понимать рассуждение и следить за его нитью, анализировать свои чувства и накапливать собственный религиозный опыт. Новизна XIV века в значительной степени заключалась в оптимизме, во внимании к окружавшим человека вещам. Предстояло найти формы, способные передать это новое отношение.
*
Чтобы говорить о невидимом, о Божественном разуме и устройстве вселенной, латинский христианский мир изобрел особый язык, который сыграл роль некоего тормоза. В Париже в середине XIII века приказы Людовика Святого способствовали тому, что искусство изображать в камне или на витражных стеклах таинство Воплощения Бога достигло совершенства. Вознесясь на вершину, парижская готика замерла, превратившись в набор простых форм, настолько самодостаточных, что они подавляли любой творческий порыв, подавляли всё, парализуя развитие. В течение двух поколений после завершения строительства часовни Сент-Шапель парижские мастера, казалось, оставались пленниками одного стиля, неспособными отступить от него, чтобы следовать изменениям, коснувшимся мировосприятия образованных членов общества, и новым направлениям мысли. Со времен, когда для Филиппа Красивого переводили Боэция, когда Дунс Скотт преподавал в Париже, а Уильям Оккам развивал свою философскую систему, архитекторы, резчики по камню, витражисты и миниатюристы продолжали следовать образу вселенной, устроенной по законам Божиим, сложившемуся при Альберте Великом, Перотене, Робере де Сорбонне. Блеск Парижского университета, откуда выходили все мыслители того времени, подъем торговли иллюстрированными книгами и статуэтками из слоновой кости способствовали распространению во всей Европе форм, предлагавших устаревшее толкование мира.
В начале XIV века обновление все-таки коснулось общества. Новые силы поступали из двух источников. Во французской готике обозначилась медленно, но неуклонно развивавшаяся тенденция к маньеризму[158]158
Маньеризм (от и т. maniera – «манера», «стиль») в собственном смысле – направление в западноевропейском (или уже – в итальянском) искусстве (или уже – только изобразительном искусстве) XVI в. Маньеризм отразил крушение идеалов Высокого Возрождения, ощущение неустойчивости и трагизма бытия. Творения маньеристов, формально следовавших мастерам Высокого Возрождения, отличаются напряженностью формы, зачастую остротой и необычностью художественных решений. Иногда под маньеризмом в расширительном смысле (как здесь) понимается любое искусство, отличающееся названными признаками или частью их.
[Закрыть]. Становясь все более ревностными приверженцами роскоши и радостного восприятия жизни, меценаты проявляли склонность к утонченности. Желая соответствовать новым требованиям, мастера вносили элементы вычурности в строгие рамки готики, выбирали более дорогие материалы, льстящие тщеславию заказчика, покрывали орнаментом строгие, выверенные архитектурные формы, а главное, начали изменять линии. Именно в изгибах арабесок, родившихся из разобщенности искусства витража и чистого рисунка монументальных изваяний, проявился дух игры, присущий куртуазной культуре, проникнувший в строгий литургический порядок, чтобы вскоре нарушить стройность его форм. Изящная, хрупкая арабеска передавала в позах статуй или – с еще большей выразительностью – в растительных орнаментах, буйно расцветших на полях рукописей, обычаи светской жизни, которые постепенно отодвигали на второй план церковные обряды. Повторяя скачки и кульбиты лошадей, уловки любовного преследования, тысячи эпизодов из приключений странствующих рыцарей, эти линии символизировали стремление к изяществу, радостные поиски удовольствия и развлечений, первые эротические вольности куртуазного общества. В арабеске воплощались его мечты. Однако для того, чтобы вымысел мог соединиться с реальностью, чтобы он вышел за пределы поэтической фантазии, требовалось, чтобы среди разрывов и скачков линий, так же как среди разрывов и скачков гармонии в ars nova, можно было легко узнать строго соблюденные формы реальности. Французская графика обратилась к опыту скульпторов, украшавших капители колонн подлинными изображениями растительности садов и лесов области Иль-де-Франс, а также к недавнему опыту изготавливавших надгробия мастеров, клиенты которых требовали придания могильным скульптурам сходства с покойным. Чтобы передать изобразительный ряд куртуазной культуры, французские художники должны были одновременно использовать символ, поэтическую аллегорию и иллюзию реализма. Нервный, вычурный стиль, который к 1320 году выделился из готического классицизма, неожиданными ходами, словно язык сновидений, соединяет между собой фрагменты реального мира на фоне вымысла и фантазии.








