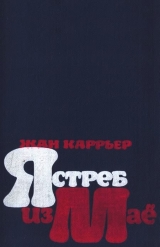
Текст книги "Ястреб из Маё"
Автор книги: Жан Каррьер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Потом он чувствовал, как ледяная струя охлаждала его перенапряженный мозг, приглушала его восторги: пастор сказал: «если все пойдет, как надо» – эти-то слова и гасили безжалостно все надежды и весь его пыл. Сейчас апрель. Он считал по пальцам. До восшествия в рай целых шесть месяцев. Шесть месяцев на то, чтобы стать мужчиной и окончательно завоевать расположение мосье Бартелеми; надо удвоить усилия; не отвлекаться по пустякам; отделаться от некоторых тягостных обязательств, которые теперь уже вовсе не совместимы ни с новыми его знакомствами, ни с тем крутым поворотом, который наметился в его жизни. Брат. Мать. В особенности – брат. Только представить себе, как он входит в это земное святилище, в эту бонбоньерку, наполненную такими конфетками! – на ногах башмачищи, вид нелепо солдафонский: «Как ноги таскаешь, Жозеф?» Он весь покрылся холодным потом. Что он скажет своим, вернувшись? Сразу – ничего; лучше помалкивать, хранить все в секрете; зато потом его победа будет полнее, произойдет словно взрыв. Конечно, его будет распирать от желания рассказать, рассказать о чем угодно, лишь бы это имело хоть отдаленное отношение к ней: о Вильгельме Телле, Жан-Жаке Руссо, о молоке «Нестле»; столько ширм, за которые можно спрятаться и надышаться кислородом в этом презренном домашнем кругу, не переносимом для влюбленного, которому необходимы цветники и розы. Первое проявление воли – научиться превозмогать ребячество. В себе самом все эти полгода будет он черпать силу, мужество, волю, в себе самом улавливать Ее запах, Их запах, запах этого города, запах Швейцарии, потому что все ведь взаимосвязано, да еще прибавьте высочайшее наслаждение человека, который, найдя сокровище, хранит его для себя одного, а это и доказывает, что есть характер – залог успеха.
От нетерпения, как бы уторапливая события, он брыкался в постели, вертелся, переворачивался. Временами он прислушивался – ему казалось, что по коридору отеля кто-то бродит: разве нельзя предположить, что одна из продавщиц книжной лавки, блондинка (та самая), брюнетка или рыжая, не все ли равно, узнав его адрес и то, что он завтра покидает Швейцарию, пришла сюда среди ночи под каким-то благовидным предлогом… О, бог вседержитель! Надо, чтоб вышло! И выйдет… Жозеф успокаивался. А все же эти девушки… Они другой расы, такие здоровые, юные. Видно, люди здесь не стареют: они бессмертны, как и в Америке. Невозможно было представить себе, что эти дива дивные, одетые девушками, делают пипи… Ах, отмыться, прижаться к этому божественному телу, поглотить его или быть им поглощенным… И все вращалось по тому же кругу.
16Вновь наступила жара, и первые ее волны разлились по селениям и городкам; кто проходил по селу благоуханным, теплым утром, тому думалось, что он все еще нежится в постели, а при взгляде на необъятность небес, широко разверстых навстречу миру и суливших исполнение всех желаний, обновленная кровь начинала по-юношески быстро струиться по жилам; но уже с полудня наступал смущающий и даже пугающий своей чувственностью обманчивый летний зной, а проникающий в окно острый запах разогретого асфальта как бы предвещал какое-то похождение, которое заранее обрекает на тщетное ожидание и одиночество. Исполнения каких обещаний можно ждать от этих вымерших городков, от этих безмолвных гор? На какое похождение, какое приключение можно надеяться в жужжащей удушливости полудня, когда все ставни закрыты, а ты распростерт в полутьме, словно старая узница, которая лишь представляет себе объятия, лепет, задыхающиеся вздохи любви, тогда как сама горько и неколебимо уверена, что ничто в мире не сравнится с ее неудачами и тщетными надеждами, тем более спесивая сухость мыслей или опыта. Чуткое ухо следит за звуком приближающихся и удаляющихся шагов: хоть кто-либо остановится здесь когда-нибудь? Как умудряются, при непристойном, гугенотском своем пуританстве, встретиться и соединиться в постели все эти мрачные супружеские пары Горного края? Рожденные для смерти, рожденные для разложения. И пока ты агонизируешь, лишенный ласки, существуют ведь люди, предающиеся любви, – до чего же несправедливо все устроено в мире!
Вокруг маленького городка, крыши которого приобрели под прямыми лучами свинцовый цвет, не отыскать и пятнышка зелени – ни одного вновь посаженного дерева, ни одной свежевскопанной, радующей глаз клумбы: из-за суровости и резкости климата этот обездоленный край, где и весна запаздывает, и ее блага, как перезрелый плод, снимают не вовремя, тащится в хвосте у всех времен года, и характерны для него лишь желтые, лысые склоны, облезлые леса да необитаемые, похожие на ржавое железо кусты.
При нынешней преждевременной жаре горы с пятнами снега на вершинах и шелудивыми, обезлесевшими (или это только так кажется) склонами напоминают бесплодную скудость терриконов гигантских шахт, а придавленная желтая трава – злосчастную индустриальную зону с ее пустырями, угольными кучами, густо заселенными долинами и загрязненными водами; все усиливает впечатление нищеты и низменной утилитарности: обилие электрических столбов, беспорядочное переплетение проводов, уродующих пейзаж, обезображивающих поселки и фермы, грязнящих фасады домов; огромные цистерны с гудроном марают кое-где уцелевшие по обочинам полосы дерна; кучи гравия громоздятся на пустырях и стоянках для машин; застывшие, словно трехногие чудища Уэллса, пораженные смертоносной эпидемией, стоят грейдеры, неподвижность которых объясняется всего лишь нехваткой смазочного масла; все это – неизгладимые меты, наносимые работами ведомства шоссейных дорог, которое превращает живую природу в строительную площадку; не будем уж говорить о валяющихся повсюду выкрашенных суриком канализационных трубах; а есть ведь нечто и похуже: крыши из толя такие жалкие и столь же непристойные на вид, как человек, разгуливающий в подштанниках по улице. А чего стоят эти игроки в мяч в майках и ночных туфлях, а их развязный жаргон, их неряшливость, их фальшивое добродушие, которое не сможет скрыть ни подлости их, ни мелочности, ни эгоизма… От них самих и от их дыхания несет никотином и анисовой водкой… А их усатые старухи плетутся на рынок, шлепая стоптанными туфлями без задников, зажав в руке кошелек и вечную клеенчатую сумку, – почему бы уж заодно не ночной горшок: ведь и то и другое неотъемлемая сущность их бытия. Что касается девчонок с их нелепыми именами, провонявшими нафталином, то они, затянув туго-натуго волосы, обряжаются в длиннющие черные юбки и наглухо прячут свои плоские груди… Все эти Терезы, Марты, Элизы с пяти лет уже маленькие старушки, у них хилые икры, близко посаженные глаза и безгубые рты; налицо все признаки вырождения, свойственные детям от браков между близкими родственниками, а маленькие жемчужинки в проколотых ушах и вовсе делают их похожими на юных покойниц; до двадцати лет они еще могут на что-то надеяться, при условии, что их не тронут, а к двадцати пяти годам оказываются с двумя детьми на руках… Весна их быстротечна; надо видеть, как перебегают они улицу, заливаясь скотским смехом, который обычно свидетельствует о рабском подчинении сексу: голова вся в бигуди, жирные ляжки видны из-под распахнувшегося халата… До чего же ненавидел теперь последыш из Маё эту вымирающую, вырождающуюся расу, меченную базедовой болезнью и ранним выпадением зубов…
Швейцария, с ее первоклассными панорамами, разрекламированными озерами и горами, прославляемыми разными бойкими синдикатами, с ее аккуратненькими проституточками представлялась ему торжеством жизни, попирающим эту расшатанную, обесцвеченную, прокуренную провинцию, которую он едва узнал после двухнедельного отсутствия; понадобилось время, чтобы он к ней вновь притерпелся. Сейчас же все казалось ему здесь мелким, изношенным, жалким; то, что тут принимают за горы, всего лишь скромное нагромождение холмов, издревле преувеличенных детски наивным воображением. Отели Нового мира с их кондиционерами изгнали из его памяти леса Старого мира, где в мистической бедности протекло его детство.
По ту сторону сада какая-то повозка проезжает улицей, скрипя, словно колесница смерти: в этот час послеполуденного сна ни одной живой души во всем городке, зажатом между крутыми склонами. Лишь через определенные интервалы раздается скрежет пилы да майские птицы (не издавая ни звука), прыгая по краю желоба, стучат по нему коготками как раз над его окном. Внезапно издали раздаются резкие крики: дети выбежали из школы – перемена. Колокол – что это – мэрия, школа, церковь? – три удара, три протяжных, раздельных, зловещих удара, покорных судьбе, как то мертвое время, которое они отмеряют и дают о нем знать из долины в долину, из городка в городок, три одинаковых, неизменных удара, неотвратимых, как похоронный звон, бессильных перед глухой, медленно надвигающейся катастрофой, которая засасывает их и влечет за собой к гибели; три удара из безмятежной вечности, душераздирающей, как кладбищенская безмятежность, и вот, словно вызов, их подхватывает где-то в доме, скорей всего в кабинете, хрустальный звон часов, деловитых, бдительных, неутомимых, как сам мосье Бартелеми. Три быстрых, коротких позвякивания сразу берут все в свои руки и уж ни за что ничего не упустят, чего бы это ни стоило, раз так решено, – с барабанным боем, коли на то пошло. Три маленьких ударчика, направляющие мирские дела, успокоительные и недолговечные, как все, идущее от легковерия, которое быстро приходит к концу. А затем, напоминая о вечном покое, обнажая всю ничтожность этой глупой хрустальной живучести, снова звучат три медленных неземных удара, будто связанных и с бессмертными скалами, и с высоким одиночеством волнисто очерченных гор четвертичного периода, где эра часов может быть исчислена всего лишь несколькими миллиметрами эрозии.
У садовой калитки послышался звонок, наваждение исчезло, как будто этот чистый тонкий звук поднял занавес над непреодолимой повседневностью. «Благотворительницы…», – подумал Жозеф Рейлан.
Мадам Бартелеми несколько раз в неделю принимала дам своего прихода, устраивая вместе с ними филантропические пикники и распродажи. Немного погодя постучали к Жозефу в комнату – это была сама мадам Бартелеми, вид у нее был таинственный.
– Вас спрашивают, Жозеф. – (Первое время она называла его не иначе, как Жозеф-Самюэль, – комбинация эта раздражала его еще больше, чем его обычное имя, с которым он в конце концов примирился.) И добавила, доверительно подняв брови и как бы возвещая нечто ошеломляюще-постыдное: – Это ваш брат… – А заметив, что Жозеф недовольно нахмурился: – Нет, нет, успокойтесь, по-видимому, ничего серьезного… – Потом ее лицо приняло выражение вполне естественного соболезнования – Я и не знала, что у вас брат такой… в общем, много старше вас.
– Ему всего тридцать лет, – сказал Жозеф, – но, видите ли, тридцать лет в лесу…
«Что же это за тридцать лет, бог ты мой! – подумала мадам Бартелеми. – Эти пастухи – настоящие волки!» Жозеф в ярости пошел следом за ней. «Этого еще откуда нелегкая принесла – только его и не хватало…»
Вход в коридор целиком загораживал Абель, вырядившийся, навьюченный, волосатый, но, чудо из чудес, фуражка снята с головы и кажется крошечной в огромных, как кирпичи, ручищах. Жозеф стиснул зубы. Он ждал неизбежного: «Здорово, Жозеф! Как ноги таскаешь?» и приготовился поставить этого мужлана на место, как вдруг вспомнил, что вот уже четыре месяца не видел матери, и это тотчас отбило у него охоту грубить брату, тем более в присутствии мадам Бартелеми.
– Что случилось? – спросил он, символически троекратно прикоснувшись щекой к щекам Абеля с таким ощущением, словно облобызал терку.
Гигант смотрел на него, мотая головой и твердил: «Ах… ах…» – как если бы Жозеф совершил какой-то проступок, а он собирался его наказать.
– Ну чего разахался, – выйдя из себя огрызнулся Жозеф, – говори, в чем дело…
– Я вас оставляю, – вежливо и сочувственно сказала мадам Бартелеми. – Располагайтесь с братом в малой гостиной.
– Проходи… – буркнул Жозеф, показывая головой на дверь в гостиную, но не двигаясь с места. Мадам Бартелеми наконец удалилась. Абель все еще раскачивал головой, уставившись прямо в глаза брату, и твердил свое «Ах, ах…», как глухонемой, не способный обнародовать некую ужасную тайну.
– Ну ладно, – сверхъестественно спокойно сказал, готовый ко всему Жозеф, – посидим вот в этой комнате, и ты мне все объяснишь по порядку.
Он решил разговаривать с братом, как с маленьким ребенком, и это странным образом умиротворило его.
Абель, не переставая маниакально теребить свою фуражку, пошел за ним, нагнув голову, как если бы потолок был для него чересчур низок. Жозеф посторонился, чтобы дать ему войти, закрыл дверь, прислонился к ней спиной и вежливо осведомился:
– Прежде всего скажи, как здоровье мамы? – Он держал руки за спиной, стиснув ими медную дверную ручку и чуть поворачивая ее, словно собирался удалиться и как бы утешал себя тем, что долго они тут не задержатся, что их свидание случайно, кратковременно и вообще как бы не существует.
«Ах, ах…» – возобновилось с новой силой, так же как и комканье фуражки; Жозеф задумчиво взирал на брата, чувствуя, как его снова охватывает ожесточение, и не в силах оторвать глаз от ручищ увальня, с неслыханной быстротой вертевшего свой головной убор. Наконец, не сдержавшись, он выкрикнул:
– Прекрати, прошу тебя, голова идет от тебя кругом, и говори!
С примерной покорностью Абель запихал фуражку в карман и решился сесть, одновременно с этим обретя дар речи.
– Враз про мать… – начал он и беспомощно растопырил руки.
– Надеюсь, она не заболела, – сказал Жозеф и, в свою очередь, принялся вертеть дверной ручкой, как только что его брат вертел фуражкой. – Я приеду повидать ее в один из ближайших дней. У меня очень много работы, и потом… – Ему внезапно захотелось ударить наотмашь, уничтожить противника раз и навсегда, покончить с его непереносимой самоуверенностью и фамильярностью. – Лучше я тебе скажу сейчас же – только смотри, ни слова маме! – так вот: я уезжаю.
Он выпустил дверную ручку и начал медленно расхаживать по комнате, как если бы важность сообщенной новости сразу утвердила его право на пребывание здесь.
– Да, понимаешь, в Швейцарию, как-никак, это – совсем другое дело… Буду готовиться к экзаменам и работать в магазине религиозных книг…
Он остановился, потеряв интерес к продолжению этой полулжи перед слушателем, на которого она явно не производила впечатления и который все с тем же ошалелым выражением по-прежнему смотрел ему прямо в глаза.
– Ладно, теперь ты знаешь достаточно. Так что же ты хотел мне сказать? И перестань ты ахать…
«Могу присягнуть, что он абсолютно ничего не понял из того, что я ему говорил». Он посмотрел на брата, как на неодушевленный предмет, надо бы наконец уразуметь: никогда не удастся ему удивить этого невежду. И все же это такая удача; мстительно огорошить в первую очередь того, кто знал нас еще тогда, когда мы пребывали в ничтожестве.
– Вот оно что, – сказал Абель, далекий от всех этих проблем. – Вот оно… – Он стукнул себя кулаком по лбу, прищелкнул языком, открыл рот и, набрав воздуху, крикнул, как если бы между его жестами и мыслями был полный разрыв: – Там, внутри… у нее…
– Незачем орать, я ведь не глухой…
Абель вновь повторил то же самое, постучал себя по лбу, щелкнул языком, разинул рот, но на этот раз уже потише повторил – Там, внутри… у нее…
Загипнотизированный таинственным образом мышления этого первобытного существа, Жозеф, при всем своем нетерпении, сразу не реагировал, как бы переняв неповоротливость мыслей брата. «Если деревья размышляют, – подумал он флегматично, – то это, наверное, вот так у них и происходит».
– Почему, что она такого делает?
Что она такого делала? Подп расскажи! Началось это как-то вечером. Вернувшись, он нашел ее возле очага, словно бы оглохшей. «Эй, мать…» (Он поднялся, потряс Жозефа за плечо, чтобы лучше изобразить драматичность происшествия.) «Что с тобой?..» Ни гугу. Не шевелится, не отвечает, чисто дерево. Потряс ее этак… (трясет Жозефа). «Ну чего, чего, ну чего?..» Потом заговорила, схватилась за голову: «Не знаю…» В тот вечер она еще, как всегда, похлебала супа и вдруг – на тебе! Раньше-то она ложилась последней, а тут, ни слова не говоря, залезла в постель, все побросала – ложка в тарелке, стол не убран – все как есть. Назавтра день только занялся, она уже была в кухне и готовила ему в дорогу корзинку, как будто ничего и не случилось.
– И она ничего тебе не сказала?
– Ничегошеньки! Ничегошеньки!
Он спросил, как она себя чувствует, а она на него посмотрела – сам знаешь как! Он и не стал к ней приставать. Но все пошло не так, как раньше. В пылу рассказа он вновь начал орать и, изображая происшедшее, тряс брата, как все малоразговорчивые люди, не доверяющие силе слова.
– Целыми часами, понимаешь, сидит молчком да смотрит в огонь, как в пустоту… А заговоришь с ней, она эдак-то дурно глянет… Будто обворовали ее до нитки…
– Надо позвать доктора, – резко оборвал Жозеф брата, как набедокурившего ребенка, который выболтал лишнее. – Само собой визит оплачу я…
Кабы только это! Иногда она исчезает, и невозможно добиться куда. А то строит возле дома каменные башенки, напихивает туда солому и поджигает, подумать только…
– Ладно, ладно, решено, – сказал, все более возбуждаясь, Жозеф. – Я приеду. – Он открыл дверь. – Завтра. Приеду завтра. Скажи ей, что я приеду завтра.
Он проводил брата до ограды, молясь Вседержителю, чтобы благотворительницы не столкнулись с ними. Абель явно не спешил уходить. Он встал, широко расставив ноги, посреди тротуара и для вящего удовольствия крутил цигарку.
Жозеф, нервничая, осматривался по сторонам:
– Ладно, иди, до завтра; мне пора за дело. А главное, не забудь – понимаешь: ни слова по поводу Швейцарии.
Он закрыл калитку и пошел к дому. Войдя на крыльцо, оглянулся: Абель все еще стоял у калитки, метрах в десяти, не дальше, растерянный, неподвижный, цигарка прилипла к губе, вислые усы – огородное чучело, да и только; уставившись на крыльцо, он весь сбычился, что свидетельствовало о предельном умственном напряжении. Можно было пари держать, что он все еще пережевывает загадочное сообщение брата, загадочное и ошеломляющее: даже цигарка так и осталась незажженной.
Пятно смазочного масла или лесной грязи медленно скользило по его лбу – это, вероятно, была тень, раз она двигалась.
– Чего он ждет? – пробормотал сквозь зубы Жозеф.
На смену возмущению пришла неистребимая тревога. Он смотрел на дремучее, непроницаемое лицо брата, словно видел его впервые. За Абелем, по другую сторону улицы, как бы необитаемые дома, плоские, словно театральная декорация, мертвые в этот смутный час дня, когда небо напоминает песчаный, иссушенный пляж, на который пришел умирать изнемогающий свет. Все пустынно, безмолвно: возвышенности, деревни, фермы, человеческие существа. Тусклая действительность, лишенная смысла.
Жозеф встряхнулся и быстро вошел в дом, облегченно вздохнув в относительной свежести и полумраке передней.
«В конце концов, – сказал он себе почти машинально, – бог, возможно, и впрямь знает, что делает». Никогда еще не было ему так тяжело подниматься по этой лестнице.
В своей комнате, где на письменном столе были нагромождены книги и бумаги, он внезапно почувствовал усталость и отвращение ко всему, даже к призрачной Швейцарии. Взглянув в окно и убедившись, что его мучитель наконец удалился – удалился в свои допотопные леса, – он упал на кровать и закурил сигарету: после поездки в Швейцарию он начал курить. Курил он тайком, с таким же воровским наслаждением, с каким листал бы порнографические картинки.
Ему не столько нравился вкус табака, сколько все то, чем он приправлял курение, повторяя жесты, типические повадки закоснелых развратников и пьянчуг из полицейских романов, в пучину которых он начал, прячась ото всех, погружаться, – все это как бы мстя за то, что он не был тем, кем хотел быть.
Он постукивал ногтем большого пальца по кончику сигареты, как бы прессуя табак; закурив, зажимал сигарету в уголке рта и прищуривался, как положено беспутнику; а окурок щелчком вышвыривал за окно. Он воображал, что вся эта комедия придает ему мужественности и что незримая прелестница наблюдает за ним в его одинокой комнате – спрашивается, как и зачем? – подпадая под обаяние неотразимой развязности великого сердцееда.
Сегодня спасительная сигарета имела неприятный вкус, просто вкус табака. Закинув руки за голову, зажав сигарету зубами, он предоставил ей тлеть, пока пепел не упал ему на шею; тогда он обалдело вскочил: ему померещилось, что в тот момент, когда он ощутил ожог, кто-то постучал в дверь. Нет, никого… Да и кто, кроме брата, мог бы к нему прийти! Он вновь погрузился в сумеречную послеобеденную дрему, в мутных водах которой вздымались ядовитые испарения его нечистой, отягченной, обезоруженной совести, – так выползают из нор пресмыкающиеся в час, когда засыпают птицы.








