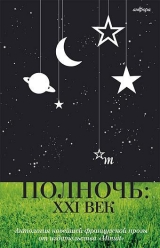
Текст книги "Полночь (сборник)"
Автор книги: Жан Эшноз
Соавторы: Эрик Лорран,Элен Ленуар,Кристиан Гайи,Ив Раве,Мари НДьяй,Эжен Савицкая
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Эжен Савицкая
СЛИШКОМ ВЕЖЛИВЫЙ ДУРАК
Дурак снова грузит, опорожняет здесь перед вами тридцать семь тачек добротного коровьего навоза, девятнадцать – нарытой кротами земли, десять – помета ослиц, четыре – картофеля разного сорту. Опорожняет здесь перед вами двадцать тачек прозрачной воды из Крулевского источника и еще двадцать отменного перегноя. Потом бочки дождевой брюссельской воды и кувшинчики да пинты воды из льежского Мааса. Опорожняется здесь перед вами, где-то промеж города и полей. Он собирается праздновать пятьдесят лет дури.
* * *
И тут как тут мухи. Такому простофиле только мух ловить, грезит на своем дурацком футоне [36]36
Футон– расстилаемый на полу матрас ( японск.).
[Закрыть]дурак.
И тут как тут туча, триста мух, сосчитанных по принципу сезамовых зернышек, в моей двухкомнатной квартире на улице Ажимон, во внезапно опустевшем и надо мной, и подо мною доме. Спасибо за опарышей. Спасибо за отложенные яйца, за яйца проклюнутые. Во всяком случае, такому журавлю [37]37
Отчасти забегая вперед: превращенная при переводе в журавля цапля(le heron, по-французски мужского рода) является героем (le heros: эти два слова – почти полные омонимы, ибо n и s на конце французских слов не читаются) классической басни Лафонтена; в ней цапля, не соблаговолив, в надежде на лучшее, раскрыть клюв ради карпа, а затем, последовательно, щуки, линя и пескаря, вынуждена в конце концов радоваться подвернувшемуся слизняку.
[Закрыть], как я, грезит у себя на футоне дурак, доводилось видеть, как в опарышнях у удильщиков они вылупляются тысячами. Парьтесь же! Впарьте же мне! Я-то чту только свой камелек. О святой Николай! О Санктос Никудымос!
Муха неряха, но опарыш – тот чистоплюй, пусть даже жить ему в гнойных ранах. Если, будь то днем или ночью, вам доведется выхаживать кого-то с мокнущими ранами, приложите пригоршню-другую опарышей, эта мелюзга приложит все силы, чтобы начисто смыть с них всякий ущерб и укус тех, кто ушл по части всемирного вооружения, охоч до мушиных поцелуев.
Почему я не мухоловка? Разжился бы сегодня на пять дней – на завтрак, на обед и поужинать, вернувшись из театра.
Что же точат червячки, дабы навылуплялось столько чернявых двукрылых? И какие ростки идут на потраву личинкам?
Их народилось тридцать миллионов, на погибель.
* * *
Долго проспав головой на пне, еловом пне, что порос опятами цвета меда (в соленой с уксусом воде поищем их двумя пальцами, они же, в слизи текучи своей, нас бе гут, водка ждет в запотевшем графине, подзакусонствуем!) – грозные сии паразиты из года в год губят немало деревьев, вызывая белую гниль и гибель, – и, встряхнувшись, в учтивом дураке просыпается вежливый, слишком вежливый дурак и сумасброд.
* * *
У себя в кругу семьи, кругу, само собой, дурацком, мы презираем смерть, нам нет до нее никакого дела, и, когда рушится гора, мы думаем о крохотной ящерке, о скале, о превращении грязей, грязей плодородных и грязей битуминозных, мы приглядываемся к язвам, мы в упор следим за созреванием вишни, сливы и винограда, равно как и за вызреванием земного сыра, мы клянемся псами, которых знали, бахвалимся, заливаем глотку, кося гречиху, но ни в коем случае не шею красавицы, что являет себя на семи горизонтах, поедая заячью капусту, которую по ночам вытаптывает еж.
Собирайтесь все попировать слизняками, сегодня вечером, после девяти, на плато Авейль, зовите друзей, отбивайте ритм, попадайте впросак и не в такт среди трав, там, куда наведываются лисы и куницы испить крови крысы, что грызет корень, изумительный корень цветущего дерева, дерева в цвету, ростками, побегами и зернами которому мы! Что это за крыса, крыса из бассейна Кумы или же старая бурая крыса вандалов? Та самая, предки которой обжирались лягушками, покуда не сжили их со света в болотах Ирландии (разрази меня Патрик, если я лгу), или та, чьи пращуры, свихнувшись от подземных толчков, разорили целый город, дивную Астрахань? Коли она грызет изумительный корень цветущего дерева, то, значит, не лишена вкуса и знания; коли она грызет корень дерева, эта крыса, дерева, ростками, побегами и зернами которому мы, то, значит, знает, на что идет, и ей плевать на доставляемое садовнику беспокойство. Итак, с корабля на бал или старый мародер? И ландскнехт или рейтар?
От Авейля и до берегов Каспия, грезит дурак-садовник под глас ослицы. Рев ослицы для садовника к добру. Он пересчитывает в уме дублоны помета, затем, начав с посвиста, с серии самых что ни на есть напыщенных модуляций – ведь времена значительны, небо бескрайне, всё в перепадах, полно нахалюг со знаком смерти на шее или в рубашках нараспашку, – готовится засвистеть распрекраснейшим образом, как дрозд спозаранку.
* * *
Я не знаю, ни откуда пришел, ни куда оказался водворен. Не знаю и знать обо всем этом не желаю. В голове у меня вертятся совсем другие вопросы. Но я наверняка откуда-то пришел и наверняка из кого-то вышел. Уверяю, меня не снесла курица и не выносила в утробе кобыла, как толкуют люди в деревенском захолустье, русские, поляки, балканские горцы. Но, может, подобными фразами мы обязаны именно небесам над сими сирыми краями.
Те, кто говорит, будто Россия – тусклая и серая, глубоко обманываются, ибо она не серая, а голубая, предельно вылинявшей, белесой голубизны, которую оживляет простой лучик солнца.
Я не успел оглянуться, как позабыл все, что касается этих краев. Позабыл настолько, что оставляю, не боясь навлечь на себя несчастья, у парикмахерши свои волосы, у дантиста зубы, а у врачей – прочие порождения моего русско-польского тела.
Те, кто говорит, будто Польша – мрачная и серая, попадают не в глаз, а в бровь, не то над левым, не то над правым, в зависимости от того, каким они смотрят на просвет яйца, прикидывают расстояния, подмигивают, косятся на вишенки или на что другое.
Короче, я не знаю, откуда пришел, но знаю, из кого и каким образом вышел.
Если есть такой клочок земли, которому я принадлежу в первую очередь, покажите мне его на карте. Уверен, что мало кто знает, хотя бы где искать страну дураков и дур.
Я позабыл два языка. Позабыл места и, возможно, утратил какие-то привилегии. Хотя, с другой стороны, обнаружил, что никакие привилегии мне не нужны. Потому ли, что я уже ими наделен, или как раз наоборот?
От уничтожения меня спасло отнюдь не право на землю. Моего отца спасло от уничтожения отнюдь не право на собственность, право на клочок земли на плато Эсбей. Ну и что с того, что каждый имеет возможность выискивать избранную землю, которая не уточнена ни в каком кадастре, и обладать, сообразно своим силам, потребностям и усмотрению, двумя-тремя сотками пахотной земли, дабы построить на них жилище или сеять умелой хваткою, пользуя большой и указательный, часто с опорой на средний, пальцы, зерна всех сортов. Попробуй-ка посеять щавель или лук-резанец на ладони. Посади лук-порей в сапоге.
Мои отец и мать прижились в изгнании на земле, химический состав которой мало чем отличается от состава земли на их родине. Место рождения не предполагает ни обязательства никогда его не покидать, ни необходимости с него бежать.
Что же до меня, то ни в каком изгнании я никогда не был. Я родился в крохотном домике изгнанников, в районе, где изгнанников была уйма, кто с Балкан, кто еще откуда. Мои родители возделывали маленький садик изгнанников, что соседствовал с садиками депортированных, имигрировавших, перемещенных тружеников, сербов, черногорцев, итальянцев, македонцев и румын, русских и поляков; друзья и враги взирали друг на друга через заборы и ограды. И все прилежно возделывали огород – надеясь, вероятно, таким образом удостовериться, что, независимо от своего состава, земля остается землею и ее можно копать, мотыжить, рыхлить, полоть.
И, поразительная вещь, в изгнании растут даже овощи, только и надо-то, что регулярно унавоживать землю, подсыпать костяную муку и золу.
Короче говоря, я, как и раньше, не знаю, ни откуда вышел, ни что утратил, так и не знаю точную меру удаленности, ни в километрах, ни в верстах. Время отдаляет куда дальше, нежели шаги.
С точки зрения обыденной логики нет ничего более чудного, чем родиться в изгнании. Родиться как абы кто, но в изгнании, ибо от изгнанников, родителей и родительниц, переселенных по ложным, дурным и идиотическим причинам, причинам кретиническим и никчемным, ибо от родителей высланных, к которым предприимчивые предприниматели и прочие торговцы жареной картошкой, свинцом и сталью относились как к мушиному пуку.
* * *
Дурак вновь за выдумки. Думки. Вновь за роман. Начинает снова – из чистого удовольствия. Что такое проза? Капель капель. Блудят заблудшие крысы. Вот она, проза. Ну же, вперед, а вот и луговина, здесь сядем на автобус, там пролетает самолет, стремительно, предположим, проплывая в великом флюиде, слышишь курлыканье журавля, а еще сойку, если у тебя хорошее ухо и неподалеку глаз, а под рукой галька с острова Кос: бобы, картофелины, облупленная бульба, о форме нужно спорить, содержание удержать, на антресолях пьешь вино, редиску трешь на терке. Ну же, вперед, в следующую главу. Дурак вновь за ваяние, снова лепит.
* * *
Человек, посреди высоких трав, втыкает в землю тоненькие колышки. А вот он их сгибает. Это дурак, став садовником, ухаживает за предназначенными на консервы корнишонами, приглашает стелющиеся стебли карабкаться вверх. А вот он их сгибает, очищенные от коры прутья ракиты, орешника и рябины. Потом, под навесом покосившейся хибары, курит и пьет. Вот так вся работа и исполнится? Ну да кусты картофеля уже окучены и, стало быть, какое-то время продержатся. К чему нервничать? Сбор урожая отложим на завтра. Положимся на манну. На бураки. А с другой стороны, на манну для рыб, на поденки!
Тот же человек катит чуть позже тачку своего отца через Ковберг, по богатому юкльскому краю. Он везет коровий навоз, он счастлив. Симпатичное маленькое стадо на пастбище. И вспоминает, что ослиный помет найти не так-то просто, приходится ходить куда дальше, и, мысль движется в том же русле, рев ослицы для садовника к добру.
Что-то, имя чему он забыл, пробегает у него по хребту от копчика до первого шейного позвонка. Костный мозг уходит в тростинку. Мало просто садовничать на плато, копать и сеять, косить и подрезать, мотыжить и полоть. Надо еще извлекать бобы из их медно-красного футляра, а в сыпучей почве разыскивать вслепую, во мраке земли, клубни. И его жадная правая рука исчезает. Только по весу и может она отличить картофелины от булыжников, подражающих им формой и цветом.
Он сможет вволю считать, пересчитывать эти самые картофелины, собранные в рассеянном свете брюссельского подвала, переписывать их многообразие, удаляя глазки у каждой пятнадцатой, пока из всей кучи не останется столько, сколько требуется посадить в ту самую песчаную почву, из которой они были извлечены. У него будет время, у того, кто с вами говорит, взвешивать их хоть до самого марта.
А я, откуда извлечен я, спрашивает он себя.
И отвечает: может статься, из потока теофаний.
* * *
Я родился в Сен-Никола, названном по имени знаменитого православного святого, почитаемого и католиками, в рабочем предместье Льежа, ибо бывают и рабочие предместья, раз уж есть предместья буржуазные, каждому свое, я родился спустя десять лет после войны, что зовется последней. Там было все, лужайки, рощи, дымки и груши, одна из дорог вела в школу, другая куда-то еще, Льеж лежал под холмом Куэнт. Чтобы добраться до города, нужно было пройти мимо леса, такого густого, такого сумрачного, и мы спрашивали у мамы, не водятся ли там волки: она ничего нам не отвечала, склонная, как я догадываюсь, поиграть молчанием и словами, она понемногу появится здесь, как появляются вещи, когда дергаешь за веревочку. Вечером витрины представали подчас аквариумами.
Входная дверь дома вела прямо в комнату. Заявлялись монстры всех родов, молочники, точильщики, праздношатающиеся, и я не мог пошевелиться, их в одиночку выгоняла моя нежная мама, русскую по происхождению, не дрогнувшую перед вооруженным нацистским офицером, ее не так-то просто было взять на испуг, да и чего вообще она могла испугаться?
До меня в доме в проулке появился мой брат. В секции, где мы по снежной поре занимались санями, имелась итальянская бакалейная лавка, и мы со старшим братом таскали оттуда сласти, пока это не выплыло наружу из-за дурацкой конфеты с ликером, которую оказалось невозможно разделить на равные части, а без дележа, мои братья и сестры и дражайшие соотечественники, здесь никуда, нужен ряд строгих правил и хороший нож, иначе конфета без толку утечет между пальцев. Сегодня понедельник, и я начинаю заикаться. Эту фразу я выдаю по мере того, как она приходит, но и приходит она по мере того, как я ее выдаю. Знаки препинания необходимы, чтобы пометить паузы памяти. Наполним ванну, начиним поросенка.
За домом был дворик, крохотный огород и пустырь сразу за садиком, и садики со всех сторон, по южному склону холма под Сен-Жилем, местным святым. Узнаем, конечно, кем он был, все со временем обустроится, сад и пустырь и другие сады подальше, приведенные в порядок, с домашней птицей мучь – не хочу. Именно здесь мы узнали, что такое куры. Изгороди служили им укрытием, они просеивали там пыль себе на купание, только она и могла принести облегчение их эпидерме, избавить от укусов и разнообразных паразитов их куриной жизни.
Были они коричневые, с алым гребешком, и двигались как будто на пружине, заведенной шаловливой рукой. Их движения складывались в танец.
Мы ходили в школу на улице Ту-ва-бьен, нужно было подняться по левому склону древней долины, на дне которой открывался поток, оттуда несло тухлыми яйцами, сравнивать нужно с чем-то вполне определенным, но кому ведом запах тухлых яиц? То был запах горящего кокса от Кокерила [38]38
Джон Кокерил (1790–1840) – бельгийский инженер и промышленник английского происхождения, основавший в 1816 году в Бельгии один из крупнейших в Европе машиностроительных заводов.
[Закрыть], но груши в саду замка были великолепны. Замок возвышался над лугом, среди куп деревьев, а груши висели вытянутые, тяжелые. И там, рядом с коровами, рядом с плодами и цветами, зияли шахты, холодные, жарчеющие на глубине дыры, вглубь, в забой, спускался мой отец, и повстречал шахтер портниху.
Садики упирались в садики, и всю зиму там застаивался запах зелени, паров недоваренного супа. Что бы такого ей, моей матушке, положить в щи, как мог советовал отец: ведь когда ей пришлось покинуть Советский Союз, она была еще студенткой, кажется, сибирские клещи разносят, по нашим временам, менингит.
В щи она клала лук-порей, и нужно было научиться его выращивать, длинный льежский, хотя больше всего капусты, несколько тонких стеблей, никак не перпендикулярных к чернозему почвы. Чернозем был сверху, под ним залегала глина, совсем немного глины, куда меньше, чем на Эсбее, где она толстая и жирная, как дерьмо. И тем драгоценнее наша, льежская.
В щи она клала то, что находила, в точности по своему желанию. Но щи нужно долго томить, и не хватает каких-то трав или чуточки мяса, куриной ножки или коровы с лужка. Несмотря на все запреты и угрозы, мы выбирались за ограду и айда на луг, где нас заставал врасплох фермер Тешёр, в просторных штанах и черной тужурке, только дай поорать, с мухами вокруг ушей, по счастью, он боялся моего отца, который стал в Германии боксером, когда победители-американцы устраивали, чтобы развлечь свои войска, в барачных лагерях матчи.
Нашу мать звали Нина, в нас она все еще жива.
Мама гуляла с нами по городу. Карабкающаяся в гору за вокзалом мощеная улица вела нас к ее подруге, матери Алеши, русской, которая жила с мужем, киргизом, узбеком и монголом из Улан-Батора, тронувшимся из-за перенесенных в войну, что зовется последней, мучений, за ним я следил с особым вниманием, чтобы разобраться, что же такое дурачок.
* * *
Но что делать в городе, в очарованном луна-парками городе, с такой прорвой картошки? Превратиться в полевку и грызть ее одну за другой, потрошить, извлекать из нее резцами (посмотрите, как лыбится в большущей корзине крохотная крыска!) крахмал или, превратившись в просеивателя на крахмальном заводе, просеивать и просеивать сухой крахмал до полной отбраковки? Или созвать картофельный пир горой для королей тортильи и картофеля фри, соединив королевские семейства Европы на пиршестве, на котором не будут забыты ни сливочное масло, ни вино, ни пиво? Ни оплеухи. Есть ее с Марией при свете топки, вспоминая тетю Элиану, или на мраморе столовой при свете абажура? Предложить в качестве темы для сборища филологов, чтобы они говорили об Америке, картошка оттуда родом, клубень из кущей! О картофель юклейских полей! О сладость бельгийского картофеля!
Но как быть с такой прорвой картошки?
Но как быть с такой прорвой картошки?
Но как быть с такой прорвой картошки?
Число гипнотизирует, картофелин – тем паче.
* * *
Но что делать со всей этой картошкой в городе, в граде, в восторженном Брюсселе?
За хмелем от сбора урожая приходит задача хранения, приходят обязанность и забота.
Пусть она, в своей покойной пыли, покоится в подвале, как дурак, как самый настоящий слишком вежливый дурак решает садовник. Чего-чего, а этого американцам не видать как своих ушей. Как и милиции. Но крысы? Что мы умеем уберечь от крыс?
* * *
Ну, а дурак созерцает ее в состоянии покоя, подвешенным в воздушном просторе. Днем он восхищается солнцем, прогревающим песчаную почву плато, которую он обрабатывает. А ночью опять же восхищается солнцем, чье отражение видит на луне, жаркий, вялый и взбудораженный.
Мы не действуем, мы суетимся, утверждает из своего гамака дурак.
Потом переходит к листовой свекле, ее в преизбытке. Воздетыми на высоких черешках листьями сей бурак глушит морковь, свою соседку, чей корень раздваивается и растраивается, корень, который грызет крыса, крыса, которая грызет корень, корень дерева в цвету, короче, нужно действовать, пускать в ход орудия, плевать, потеть и обучаться.
* * *
Листовой свекле необходим навоз, добротный, коровий, в форме лепешки. В природе все имеет какую-то форму. Отборный коровий навоз имеет форму лепешки радиусом в шесть дюймов. Единственный адрес на этой периферии – пастбище на Ковберге, на Коровьей горе, луга, где трава растет среди нарытой кротами глины, среди песка и галечника.
Чего он только не сделает ради бураков?
Куда только не пойдет ради своих ненаглядных?
Дурак отправляется туда с тачкой. Две ноги ведут одно колесо, голова уставилась в небо. Он спускается с плато и идет по Старомельничной улице, будто спускается по дороге в овраг. Потом поднимается на луг и ну выписывать кренделя от лепешки к лепешке, под рукой сломанная ручка его лопаты.
Уходит порожняком, возвращается с грузом.
* * *
Дурак вновь за спорт. Выводит свою тачку. Из покосившейся хибарки выводит одну из тачек, тачку своего отца. В нас он все еще жив, трижды произносит он на пороге. И снует туда-сюда меж двух холмов, отправляясь налегке, возвращаясь нагруженным. Пусть листовая свекла всасывает прилежно переваренную траву! Пусть расцветут панкарлиер [39]39
Сорт салатного цикория.
[Закрыть]и толстая ленивая блондинка [40]40
Сорт кочанного салата.
[Закрыть]! Пусть набухает пастернак! Пусть разрастается смородина! Пусть наливается мускатная тыква!
Но над плато нависла тяжкая угроза. Они хотят запретить ослов, садовниц и садовников. Госпожа бургомистерша себе на уме. Столько сапеков [41]41
Сапек – мелкая монета в Китае и Индокитае.
[Закрыть]загодя, столько зерна сохранится на счету, а гордости-то, гордости для мадам. Ах, мадам, мадам, я чувствую, как у вас по этому плачет сердце! Ивы наперебой заглядывают во впадины ваших глаз!
Бегом в одну сторону, корячась в другую, скользя со своим грузом по склону.
* * *
После сбора урожая дурак устраивает праздник.
Себя он держит скорее за бонобо [42]42
Бонобо – карликовый шимпанзе.
[Закрыть], нежели за шимпанзе, всегда предпочитает приударить, а не задираться, нежные состязания плоти – рыщущей смерти. Итак, он блудит с землей, землею, которую копает и которую не имел чести попирать. Блудит или притворяется. И разжижается в своей тростинке костный мозг. Блудит с первой встречной тварью, всяким оформившимся предметом, но также и с жидкостями и формами переменчивыми. Блудит или притворяется, даже с разреженным воздухом.
Мир служит ему альковом, альвеолой радости. Домом под звездами.
Могила родителей – его огород.
В нас все еще живы, произносит он, прослеживая в брюссельском небе полет юных вдов [43]43
Les perriches jeune-veuve, буквально – попугаи юные вдовы, по-русски известны как попугаи-монахи, вид южноамериканских попугаев; ускользнув из неволи, они расселились кое-где в Европе и США. С середины 1970-х годов несколько колоний этих птиц успешно обживают Брюссель.
[Закрыть].
* * *
Дома у Алеши. Там мы пили чай с бергамотом, какого с тех пор мне пить не доводилось. Но, может, у матери Алеши не было трех мужей, трех танцевавших по вечерам мужей, поди знай? Каждое поколение должно хранить, бережно хранить какие-то секреты, а каждая живая душа – свои собственные, утверждает одна близкая родственница дураковой жены.
Мимо подножия холма все так же идут поезда. Дом, словно шале, был водружен на самый верх крутой лестницы в обрамлении пенящихся роз, дом Алеши.
Три мужа Алешиной мамы курили на веранде один и тот же табак. Не было ли там трех мужчин в одном, троих в одном дураке? Вполне может статься, трое для одного дурака – не так уж и много.
Мы с братом говорили, что идем к китайцу, молчаливому и по большей части невидимому китайцу. Мы ходили гулять по Льежу, потом возвращались по длинному откосу улицы Сен-Жиля, местного святого, одному из головокружительных, горизонт был таким далеким и таким широким, долина такой глубокой и сладостной, что приходилось держаться за длинную стену фасадов и подпорок, за дверные ручки, за решетки и скобы для вытирания ног, чтобы не упасть и не скатиться до самого низа, до Авруа, где располагался старинный мост, ибо в самом низу тек красиво кипящий поток, рукава которого, погребя их под бульварами, обкорнали подлые личности.
* * *
На подступах к автострадам людей кладут спать за высокими, с электричеством, оградами, пусть они и не воры и не убийцы, пусть их не вправе осудить никакое обычное судебное ведомство. Тогда как обычные судейские чиновники спят себе на дачах или в лучших городских кварталах, им приходится и спать, и жить за высокими колючими оградами. Может быть, это дело рук какой-то высшей, какой-то архисудебной инстанции? Сверхведомство, сжатое в стальной кулак, и ведомство обычное, декорум из кожи мертворожденного телка.
В Льеже тех, кто явился просить защиты и прибежища из стран, опустошенных злодейством и цинизмом оружейных магнатов и их тамошних подручных, запирают в казарме при жандармерии, бдительно окруженной со всех сторон высокой оградой.
Там реет бельгийский флаг.
Кичатся страусиными перьями шапочки магистратов.
* * *
Как-то летним днем дурак ловит себе в озере рыбу и вдруг оказывается заворожен. Заворожен водой, простором сверкающей глади, его захватывают приносимые волнами числа. Две камеры плавательного пузыря, четырнадцать плавательных пузырей, что извлечены нетронутыми из внутренностей выловленной рыбы, пять ворон в небе, гуськом двадцать семь байдарок, три миллиона волночек, один голубой зимородок. К чему бы все это?
Пусть в воздухе плавают, вырвавшись из темноты, неправильные зеленые пузыри сланцевых утесов, предлагает он. Прямо перед ним – зеркальная плоскость воды, натянутая как волос леска, чуткий поплавок и все закулисные обитатели водного царства. И мечтания смешиваются с заботами. Весь в мечтах, он перечисляет.
Двадцать пять тысяч монет. Три облака. Тридцать семь пузырей. Один лещ. Три жизни (одна жизнь, не слишком ли этого мало?). Три сороки и одна сойка. Одна рыженькая белочка. Одна гадюка. Девять могучих ветвей на дубе у него над головой. Одиннадцать утят. Двадцать пять тысяч монет уплывают от меня по приговору трех докторов, каждый в своей филологии. Проплывают три облака. Раскачиваются девять веток. Лещ вновь уходит на глубину. Что за оживление в числах? Что за превращения с волнами? К чему бы все это?
* * *
Он пирует весь божий день, дурак на дурацком футоне. Пирует с полом. Пирует с чайником, купленным в марсельском кораническом книжном магазине, о высшее мление! Пирует с заключенным между стенами пространством, пирует с картофельными очистками (с целой картошкой он уже напировался, в юности наглости не занимать), пирует со стулом, садясь бочком, как амазонка в цирке.
Уж не атрофия ли это гипофиза? Не гипертрофия ли щитовидки? Он посылает все домыслы о своем теле коту под хвост.
* * *
Вот и январь, оповещает любовными воплями на улице кот, вот и январь, мои принцессы, вот и растяжение Млечного пути, отвечает со своего каменного балкона слишком вежливый дурак, говорит, будто бормочет, в Босфоре море выгибается на своем выпуклом дне и вот-вот треснет, ибо Черное море кипит: Ткачиха воссоединилась с волопасом, перебравшись вплавь через молочную реку.
Ажимонский кот по прозванию Январь блаженно проходит под балконом дурака, куда как слишком вежливого дурака, следуя рисунку на асфальте. Внятны ли вам сии немые письмена?
* * *
От частого общения со словесностью дурак заделался эвмолпом [44]44
Эвмолп (eumolpus) – жук семейства листоедов, по-русски называемый также падучкой, а по-французски – писателем, поскольку выгрызает на листьях (чаще всего виноградных) подобные письменам узоры.
[Закрыть]. Он нашкрябывает и выскребывает в винограднике литеры с завитками, булавками, сколексами, подобающими очевидно трагическим, согласно глаголемому устами прессы, обстоятельствам, внося свою лепту во всеобщее листомарание, путая графические знаки с нитями паутины.
Тебе, прекрасная Деметра, тебе свинья и баран, боров, журавль и горлица, и вместительная корзина спелых колосьев, оплодотворенных летним солнцем, серп в твоей руке – серебряная молния.
* * *
Но когда садовник отдыхает, свободны его руки и босые под столешницей секретера ноги. Левая рука открывает словарь. Правая играет в виноградного листоеда, пишет его друзьям, упреждая письмо двумя словами, двумя знаками: экбаллиум! экбаллиум [45]45
Экбаллиум (ecballium) – бешеный огурец, внешне схожее с обычным огурцом растение, при прикосновении к зрелому плоду которого на расстояние в несколько метров выбрасывается струя клейкой слизи с семенами (по-французски также называется ослиным огурцом).
[Закрыть]!
Я пишу вам за махоньким секретером. Я пишу вам по маленькому словарю, от и до, от секретера до секреции, пишу как секретарь из недр старенького словаря брюссельским летом. Он фанерован розовым деревом. Фанерован вязовым капом. И говорю вам о картофеле. И говорю о зеленых деревьях. Это сооружение из дерева и стали, блестящей стали лямок. На его чреве из кожи молочного теленка накоплена кипа листов, стопка бумаги. Скостите мне месяц, накостыляйте по темечку. На бюваре из мягкой кожи. Это деревянное сооружение, не кабинетный дворянин, дерево ищи не здесь, в другом руководстве, вручную, обеими руками, одной, как говорится в старых книгах, за дело, другой за работу.
И натыкаюсь на бутылки, молоток, с шариком, банку вишни, мартиникской. Но вкладки про деревья не нахожу, оставим до следующего письма. Невнятным останется шпон и кап неведомым в строках его. И дерево верхушкою своею подает мне радостные знаки. Ясень? Белая акация? (Радость, достаточно ли этого?)
И, от секретера до секреции, не так-то много было сделано шагов. Понадобятся долгие часы, длинные письма. От и до, от банка до бардака напишу вам завтра. При чарующей плавке солнца.
И знак, секреция дурака.
Не в том ли дело, что садовник упивается, упивается словами?
* * *
Щитовидную железу и слабый пищевод он лечит в Смоленской губернии. Путешествует в сопровождении лисы и отказывает себе в алкоголе.
Публичный нужник Монастырщины возведен над глубоченной ямой, широкой, как уткина заводь, и до краев заполненной жидкими фекалиями. Никто не рискует ступить пьяным на разошедшиеся доски.
В единственной в деревне гостинице, доме, где перед вами манерничают, в нумере номер 1, за распахнутой настежь дверью раскорячилась туша огромного зверя.
Удаленность от моря умиротворяет его дух. В преддверии грозы он плавает в пруду. В мыслях о Льеже, Брюсселе, Париже. Записывается в клуб.
* * *
Но Льеж лежал за холмом, а Сен-Никола к югу. Уборная была во дворе, продырявленная доска и бадья в будке напротив кухни.
Примерно так же обстояло дело и у соседей, но на огороде и от года к году сдвигаясь от ямы к яме. Переносной сортир ребят Юпенов обходился без двери. Эти дикари влезали на стульчак и приседали, чтобы сделать свои делишки, над дырой на корточки, и нам тоже хотелось так попробовать.
Мой брат, более отважный, более прыткий приобщиться к сей практике, оступившись, попал ногой в нашу бадью для дерьма, и нам представилась прекрасная возможность обменяться парой-другой польских ругательств и воспользоваться этим опытом для сравнения различных страт на штанине.
Итак, как и все мягкие вещи, что скапливаются или сваливаются в кучу последовательно перемежаемыми слоями, сие напоминало торт с кремом, выставленный кондитерской, в красках то резких, то более тусклых, сообразно питанию и состоянию кишечника. Я сам себе тюбик с краской, заявил г-н Жак Лизен, захвативший двадцатый и двадцать первый век малый мастер из Льежа [46]46
«Малый мастер из Льежа второй половины двадцатого века» – самоопределение известного льежского художника-(пост)концептуалиста (мастера «посредственного искусства») Жака Лизена (Jacques Lizene).
[Закрыть], крася по кирпичику большую стену своего дома.
Из этого случая мы извлекли все, что могли, и искали в земле слой глины, достойный пальпации и лепки.
Нам же приходилось дерьмо закапывать, бадья за бадьею.
Мы рыли не покладая рук. Глина залегает снизу, объяснил наш старший сводный брат, студент технического училища за рекою, и в ней иногда можно отыскать сокровища, шлем с золотом и тигриные клыки.
Перейти через реку было счастьем, как и оказаться внезапно на свежем воздухе.
Старший сводный брат часто говорил нам, что можно изготовить парашют из простыни (с какой постели, из какой стильной простыни?). Мы по сей день отрицаем его принцип, нашел дураков, пся сыть!
* * *
И вот опять в поисках глины. Позже. Дальше. На плато, в старинном песчаном карьере. Дурак тут как тут, то ли дрозд, то ли павлин. Вещает он сам, если только не его секретарь.
Я завсегдатай плато, на которое зарятся застройщики, незримые крутые ребята со своими политическими помоганцами. Здесь, в процветающем городе, европейской столице.
Проживая между двумя городами одновременно несколько жизней (две жизни, достаточно ли этого?), он вместе со своей подругой возделывает крохотный клочок плато. Но кто живет здесь, на плато, где тропинки цепляются за садики с клубникой и капустой, где ревет ослица, а вверху пролетают юные вдовы, явившиеся из Южной Америки в Брабант за манной Европейского Союза? Явился также и японский горец. Явился онагр. И девственные виноградники озаряют сентябрь красным. Красный сентябрь, укорочена струна дня. Но кто же живет на этом плато? Начнем с самых смиренных, с самых прямых. Прежде всего это ослы. За ними те, кто ослов любит и восхищается их ревом. А еще те, кто заглядывается на помет, как другие на слитки золота или биржевые бумаги. Разжилась крыса-кротолов, проходит мимо прохожий или прохожая. Биологиня высокого полета, разочаровавшись в своем ремесле, только и печется, что о своем малиннике, и носит для него воду из Крулевского источника, как женщины со старинных изображений или статуи. Дама из Абруцци при помощи палки припорашивает семена фасоли тоненьким слоем земли, чтобы до них доносились церковные колокола, голоса с минаретов, шелест пирамидальных тополей. Она выращивает тыквы, кабачки и огурцы, просто и смиренно дуя на землю. Все огородные чудотворцы здесь из Калабрии, Абруцци, Апулии или с Сицилии. Тут лопаются бобы, раскрывается, надувшись, стручок, топорщится салат, откладывает яйца слимак, бегом проносится земледелица, детишки играют в поджигателей, в террористов, в снайперов (уточников, по-французски, на хорошем французском, или элитных стрелков, как говорится в армейском жанре, по-жандармски, в жандармериях, а вообще-то, речь идет всего-навсего об охоте на бекаса) с точными копиями «смит-вессона», выпущенными самой фирмой для юных любителей, будущих профессионалов.








