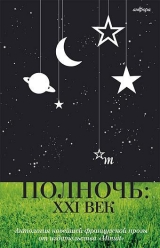
Текст книги "Полночь (сборник)"
Автор книги: Жан Эшноз
Соавторы: Эрик Лорран,Элен Ленуар,Кристиан Гайи,Ив Раве,Мари НДьяй,Эжен Савицкая
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Она спросила по-английски, говорит ли он на этом языке. Плохо, очень плохо. А, произнесла она с сожалением, словно догадавшись, что он не испытывает ни малейшего желания поддерживать беседу. Последовал обмен знаками и несколькими «окей» (с ее стороны дружески, с его довольно холодно), имевший свое продолжение в купе, в котором она, очевидно, уже решила обосноваться, даже и не пытаясь сходить посмотреть, не найдется ли в каком другом лучшая компания. Быть может, она чувствовала себя вынужденной остаться здесь, задвинутой в этот угол, быть может, считала неудобным отвергнуть то, что превратно истолковала как проявление гостеприимства с его стороны, грубейшее недоразумение, поскольку если он и оставил ее чемодан перед этим купе, то просто потому, что оно было первым, а вовсе не потому, что это было его купе, тем более что он рассчитывал сойти, и даже если присутствие его пластикового пакета могло навести на мысль… В надежде, что ей будет не по себе в вагоне для курящих, он закурил сигарету, чтобы дать ей шанс, позволить в случае надобности воспользоваться нейтральным и более чем уважительным мотивом, чтобы уйти отсюда, прежде чем обосноваться на правом сиденье, но она уже складывала на противоположное свою куртку, огромный зонтик, две сумки, одну большую и одну маленькую, которые носила через плечо, их лямки или ремни, вероятно, скрещивались у нее на груди, откуда и впечатление сбруи, возникшее у него, когда он увидел ее на платформе.
Он отвернулся, уперся спиной в стекло купе лицом к окну в коридоре, раздосадованный не только из-за того, что она некоторым образом захватила его территорию, но и потому, что, вместо того чтобы усесться в углу у окна, что было бы, по его мнению, вполне для них приемлемо, она плюхнулась прямо посреди сиденья, тут же оправилась, выпрямилась, с закрытыми глазами, руки ладонями вниз на тесно сжатых бедрах, она носила длинную просторную юбку, темную, изукрашенную несколькими пятнами ярких цветов. Он повернулся к ней спиной, но ему было видно ее отражение в оконном стекле, застывшей теперь в почти медитативной позе, дыхательное упражнение, подумал он, может, она так и уснет, и тогда я…
Чтобы обмануть жажду, он сунул в рот ментоловый леденец, раздраженный и озадаченный тем, что никак не может вспомнить, как положил свой пластиковый пакет на угол сиденья, и еще более, что должен делить это купе, ночью, один на один с незнакомкой, фламандкой, немкой или скандинавкой, чуть за сорок, крупная, крепкого сложения женщина с тяжелой грудью, он сразу это заметил, он думал об этом, стараясь не разглядывать ее, пользуясь оконным стеклом, то есть он нагнулся, прижавшись к нему лбом, в попытке различить что-либо снаружи, блеклые огни, выдававшие среди темных масс все еще холмистой, лесистой провинции поселения покрупнее, подчас фары машины, лунный отблеск на жестяной кровле, на поверхности воды, три оранжевых огня, мигающих на перекрестке, и поверх его лицо, вялые черты, застывшие глаза, расширившиеся от усталости и напряжения, вызванного внезапным появлением этой женщины, загородившей выход в Льеже, все произошло так быстро, и он был обязан в данной ситуации ей помочь, у нее, изнуренной своей поклажей, был такой беспомощный вид, и то, что она заняла среднее место на сиденье, направленном по ходу поезда, вынуждая его, если ему захочется сесть, расположиться напротив, тогда как он ненавидел путешествовать в таком положении, пусть даже ночью это было не так неприятно, как днем, у него было такое впечатление, что он сказал ей об этом, когда она спросила, что в данном случае предпочел бы вот это место, так что было бы логично, чтобы она обосновалась у окна, что ни говори, лучше не сидеть лицом к лицу, но там, посреди, если только она не подвинется, когда я зайду обратно, осознав, что, с учетом тесноты, совершенно не обязательно тесниться, жаться друг к другу… Тяжелые груди… но даже в этом не было уверенности. Ему казалось, что он заметил это сразу же, но ведь он, конечно же, не присматривался, по меньшей мере не к… он потерялся, пытаясь вспомнить краткую сцену приветствий, тарабарщины, жестов, обмена взглядами, как они чуть касались друг друга в узком пространстве между головой вагона, обернувшейся вскоре его хвостом, и дверью купе, ее запах, духи с чуть восточным ароматом, не предположил ли он это, заметив оттенки хны в ее темных, густых и слегка вьющихся волосах, собранных в своего рода шиньон, который она как раз поправляла у него за спиной, держа во рту массивную заколку, подняв руки…
Он закрыл глаза, приписал внезапному смешению мимолетных ощущений довольно примитивную идею о какой-то особо пышной груди, которая на самом деле наверняка вполне заурядна, он на это надеялся, но не мог тем не менее набраться смелости, чтобы проверить, бросив скромный взгляд на отражение в оконном стекле, слегка стыдясь, что поверил, исходя из ее телосложения и минимальных признаков, что во всяком случае вообразил, да так, что до сих пор выбит этим из колеи, тогда как то был момент, когда она плюхнулась прямо посреди сиденья, выпрямилась, пытаясь перевести дух и взять себя в руки. У нее был встревоженный и, пожалуй, преувеличенно благодарный вид, хотя он только и сделал, что взял здоровенный чемодан, донес его до порога купе, не осмеливаясь спросить, не хочет ли она, чтобы он поднял его в багажную сетку, потому что было затруднительно донести свою мысль и он боялся, что ломаная речь примет форму попытки разговора, приведет к поиску общего языка, английского конечно же, но эта мысль приводила его в глубочайшее смущение, поскольку, если он читал по-английски без каких-либо сложностей, писал почти без ошибок и воспринимал на слух, когда иностранцы говорили на нем с сильным акцентом, почва уходила у него из-под ног, как только речь становилась беглой, он настолько же слабо понимал большую часть произносимых слов, как если бы ему показали партитуру всем известной считалки, медведь на ухо наступил, раздражалась Вера, которая не могла понять, упрекала его… да и к чему, впрочем, в этом поезде, который, вероятно, только что пересек немецкую границу и будет мчать не останавливаясь до самого Оснабрюка, незадолго до пяти часов, заря или далее солнце в этих широтах в самое-то летнее солнцестояние?..
Он сделал несколько шагов, тщательно раздавил сигарету в пепельнице, в которую кто-то запихнул яблочный огрызок, выгнулся, руки на пояснице, потом вытер лицо и шею носовым платком. Ну и жара. Она казалась более насыщенной, более тяжелой после Льежа, тяжелой, чемодан, женщина, тяжелая, ее запах, ее… Он снял пиджак, опустил окно. В коридор яростно ворвались шум и свежий воздух. Он оперся плечом о косяк, вытянув шею, свесил голову, чтобы подставить лицо под поток воздуха, впустить его под рубашку через короткие рукава и воротник, который он оттянул от шеи. Высыхая, пот приносил ощущение свежести. Кто-то отодвинул занавеску в соседнем купе и послал в его адрес раздраженную гримасу, сопроводив ее недвусмысленным жестом: рука, постукивающая по уху, палец, направленный в сторону открытого окна. Он закрыл его, медленно прошел по коридору, надеясь отыскать либо пустое купе, либо купе со всего одним, не погасившим свет пассажиром, желательно мужчиной, говоря себе, что следовало бы ввести в ночных поездах то же разделение, что и в раздевалках и душевых бассейнов, в общественных туалетах и больничных палатах, несмотря ни на что, в этой вынужденной близости с незнамо кем было что-то тягостное, что-то щекотливое, что-то… и риск для путешествующих в одиночку женщин, прежде всего большой для них риск…
Странным образом он почувствовал себя виноватым, что покинул свое место в коридоре. Он развернулся, движимый теми же дурными предчувствиями, которые побуждали его подбирать на дороге голосующих женского пола, чаще всего опоздавших на автобус лицеисток, по отношению к которым у него возникало ощущение, будто он спасает их, сажая к себе в машину, от опасности. Он вернулся назад, вновь занял свой пост часового, своего рода охранника перед купе, в котором, как он убедился, скользнув взглядом, она так и оставалась, была, цела и невредима, она передвинулась к окну, втащила свой чемодан и запихнула его у себя в ногах под столик, откинутый ею, чтобы разместить на нем какое-то подобие пикника и термос.
Он увидел, что огромный, с острым концом, зонтик положен поперек прохода, наклонен между двумя сиденьями, длинная ручка из светлого дерева опиралась на большую дорожную сумку, раскрытую на соседнем с ней месте. Увидел красный перочинный нож с открытым лезвием рядом с четвертинками нектарина, аккуратно разложенными на белой бумажной салфетке. Она вздрогнула, увидев, что он возвращается, он успел это заметить, прежде чем вновь повернуться к ней спиной, располагаясь на сей раз так, что от нее в оконном стекле ему были видны только скрытые длинной юбкой скрещенные ноги, лодыжка и правая босая нога в темной мягкой туфле, медлящие между столиком и коленом руки. Она ела. Чтобы чем-то себя занять, возможно для вида, чтобы иметь повод вынуть свой красный перочинный нож, иметь его под рукой, с выставленным лезвием, манипулировать им, дотошно разрезая на бумажной салфетке надвое или даже натрое каждую четвертинку нектарина, чтобы продлить поглощение плода, вместе с тем приучаясь пользоваться ножом. Он вспомнил об источаемой ею на перроне у подножки слабости, первый образ, когда он еще не мог оценить ее стать, вспомнил ее поднятые к нему растерянные глаза и нелепый в своей громадности зонтик, прижатый к груди, вдавливая, наверняка, ее или выталкивая таким образом, что приподнятые или чуть растопыренные груди могли показаться очень пышными, выпрастываясь из своего рода тисков между ручкой зонтика и лямками сумок, которые она носила через плечо… ну да, так оно и было, теперь он четко все вспомнил и испытал огромное облегчение, отметив, что это не плод его развратного воображения, а всего-навсего оптический эффект… Развратный, да нет же, это не про меня, я ничего у нее не просил, я хотел сойти, пройтись, чтобы подумать, немного воздуха и движения, а она…
Он сунул руки в карманы, колеблясь, не закурить ли новую сигарету, тогда как его, с тех пор как он увидел, что она ест, мучили голод и жажда, обдумывая, что ему достаточно наклониться и протянуть руку, чтобы подцепить свой пластиковый пакет, отодвинуться потом налево или даже пойти и закрыться в туалете, чтобы спокойно вынуть сандвич или лучше шоколад, одну из этих глазированных штуковин, которые он купил в Париже и которые наверняка начинали размякать, чем дольше он будет ждать, тем труднее их будет опрятно съесть…
Он посмотрел на часы и решил подождать двадцать минут, сущую чепуху, подвергнуть себя своего рода аскезе, ничего не брать в рот, ни леденца, ни питья, ни шоколада, ни сигареты, остаться стоять здесь, в неподвижности, ноги поперек коридора, руки в карманах брюк, абстрагировавшись от места, шума, времени, сомкнутых век Веры в прозрачной хельсинкской ночи, забыв о женщине, которая нарез а ла позади него свои ломтики нектарина перочинным ножом с красной рукояткой, пытаясь при этом сосредоточиться на движении поезда, размеренное постукивание мало-помалу притупляло его сознание, погружая в нечто вроде сна наяву, прибежище от всех искушений от лукавого, сорок дней в пустыне, сладострастие и чревоугодие, двадцать минут вдали от своего тела… Быть может, за это время она сложит свой нож, погасит свет и зароется головой в занавеску, чтобы подремать у окна, и он тогда сможет войти, сесть, бесшумно покопаться у себя в пластиковом пакете… Это желание шоколада, эти нелепые препятствия, впечатление, что ты попал в ловушку, наказан просто за то, что оказал помощь путешественнице, которая, по расчету или бескорыстно, подцепила и привязала его к колышку, так что длина привязи позволяет ему в точности добраться до конца следующего вагона, он мог бы испытать ее немедленно, посмотреть, как далеко отважится зайти по поезду, не почувствовав вдруг снова, как давеча, замешанного на чувстве вины беспокойства, того привычного стеснения в сердце, каковое, несомненно, являлось одной из движущих сил всей его истории, механизмом, бесперебойно действующим с самого начала, с детства, силой, которая всякий раз возвращала его в лоно семьи, едва он предпринимал попытку оттуда ускользнуть, вяло, конечно же, принимая во внимание, что он никогда не был сорвиголовой и, перед тем как уклониться в сторону, не забывал сам испытать крепость пут, добавляя с течением лет разве что кое-какие удлинения, претендуя, когда предвидел, что продолжение того или иного мелкого, а если разобраться, зауряднейшего приключения чревато риском, будто это все она, Вера, обязывала его вернуться, дергая за ниточку… моя жена… самый убедительный и легче всего принимаемый аргумент, чтобы чуть ли не элегантно отстраниться от одной из тех редких и коротких связей, которым он клал конец, как только чувство делало плоть липкой…
Он медленно продвигался по пустынному коридору вагона, все купе которого были закрыты, превращены в спальные места, смутно размышляя, какою была на сей раз природа той воображаемой бечевы, которую безмятежно перебирали пальцы путешественницы с перочинным ножом, словно он мог идти до самого локомотива. Скорее всего именно шоколад в пластиковом пакете заставит его вернуться назад, когда он устанет толкать двери, пересекать гармошки между головой одного и хвостом другого вагона, своего рода шумные предбанники к отхожим местам, где запахи, казалось, сгущались и окислялись в печальном освещении…
Он остановился, застыл на пару-другую секунд, не зная, должен ли продолжать как ни в чем не бывало или же немедленно повернуть назад, иначе говоря, вновь пройти здесь же спустя несколько минут или недвусмысленно обнаружить, пойдя на попятную, что он только что застал врасплох в закутке слева, у самого туалета, у самой двери, взгляд женщины над плечом мужчины, который, благодаря плащу, надетому наверняка с единственной целью замаскировать сумятицу точных ласк, целиком ее прикрывал, намного более высокий и широкий, нежели она, мужчина, возможно, даже приподнял ее над землей, поскольку ему было видно над движущимся плечом ее шальное, запрокинутое назад лицо, открытый рот, глаза, почти белые под трепещущими веками и внезапно черные, когда они встретились глазами, грубо выпятившиеся под влиянием яростной судороги, и он, конечно, не мог знать, чем эта судорога вызвана, наслаждением или столбняком, спровоцированным его появлением в раздвижных дверях переходной гармошки, – думая, остановившись в коридоре спального вагона, куда он вернулся, что она его, чего доброго, даже не заметила, настолько удовольствие, похоже, запугало все ее чувства, глубоко смутив и его, словно болезненный спазм пронзивший снизу до самого горла, тогда как руки и ноги казались такими же вялыми, как и его мозг.
Он скорчился, положил руку на узкую оконную закраину, оперся на нее лбом, под его слишком теплым и тяжелым пиджаком на тело налипала рубашка, в голове пульсировала кровь. Они, возможно, даже не обменялись ни словом, не дотронулись друг до друга, прежде чем вновь очутиться все в том же душном купе, где у них, в затемнении и с задернутыми занавесками, были бы все возможности, там, значит, должен быть кто-то еще, докучливый чужак, от которого пришлось сбежать, если только они просто-напросто не столкнулись в коридоре, она, попросив у него огня, он, тут же натянув свой плащ и показав кивком головы на нишу за дверью слева, ясный, совершенно вразумительный язык, они не стали утруждать себя английскими сложностями да вежливостями, чемодан, полная грудь, зонт, перочинный нож, сочный плод, выставленный, чтобы вызвать у него жажду, выводя при этом его пластиковый пакет вне досягаемости, у него болели колени, ломило все тело, он поднялся, потер бедра, потом помассировал затылок и плечи, гримасничая и пыхтя, надувая щеки, он увидел себя в оконном стекле и опустил его.
Вошла ночь, теплая, оранжевая от городов, сквозь которые они проезжали, вероятно, Рур, бесплодный, умирающий, воздух пропитан ржавчиной, копотью, серой и опустошением. Чтобы сориентироваться, он попытался расшифровать название на вывесках пустынных вокзалов, прочел raus! [16]16
Вон! (нем.)
[Закрыть]граффити, выведенное огромными красными полосами на зеленоватой поверхности, узнал некоторые из марок на светящихся вывесках и рекламных объявлениях. Цифровые часы, чередующиеся с термометром, показывали два часа двадцать шесть минут и пятнадцать градусов. Значит, прошло уже полтора часа, как они покинули Льеж, и чуть больше двадцати минут, как он отошел от своего купе, он проверил это по своим часам, до Оснабрюка протянуть два тридцать и пять до Гамбурга, как медленно течет время, сколько пар в этом поезде как раз в этот момент, за задернутыми шторами или занавесками затемненных купе, за, может быть, запертыми дверьми туалетов, в других закоулках в хвосте вагона, под светлым плащом, измятым, колеблемым и вздутым на высоте чресел, возможно, она сжала талию этого типа своими бедрами, скрестив ноги у него на ягодицах – худосочные ягодицы его матери, одевающейся у себя в комнате спиной к распахнутой настежь двери, она не слышала, как он подходит, хотя он несколько раз громко позвал ее, склонившаяся над креслом, на которое, должно быть, сложила одежду, она уже надела блузку и свитер и, похоже, спокойно рассматривала свои трусики или чулки, он, поспешно возвращающийся в прихожую и долго дожидающийся потом в гостиной, пока она не присоединится к нему, готовая к выходу, и он повел ее завтракать, вдвойне внимательный, предупредительный, терпеливый, опасаясь, что она может увидеть на его лице ту жесткую смесь стыда и горечи… и Вера, поворачивающая каждый вечер ключ в скважине, скрип двери и скрежет ключа, он слышал их даже тогда, когда подремывал, лежа на диване, перед телевизором, или ложился раньше нее в большую кровать по другую сторону лестничной площадки, – совсем близкий скрежет ключа с размаху ударял по нему во сне, открывал разоренную зону, усеянную строительным мусором, старыми балками, шинами, какими-то остовами под исполинским чертополохом и крапивой, и сколько же раз он вновь оказывался в своих снах, почти голый и вооруженный единственно палкой, роющимся в этих джунглях в поисках непогребенного трупа, в то время как она наблюдала за этим из открытого окна спальни Людо, куда поставила герани и повесила цветистые занавески, подобранные к покрывалу на кровати, он видел, как она шила их в общей комнате, где почти целую неделю оставалась швейная машинка, как и гладильная доска, полотнища из набивной ткани, большущие где сильнее, где слабее раскрывшиеся карминные венчики, желтая сердцевина, нежная зелень стеблей и листьев, обошлось недешево, сказала она в ответ на какой-то упрек, но я ведь не на себя трачу…
– Ты делаешь то, что хочешь.
– Мне хотелось чего-то красивого.
Он даже не осмелился спросить, для чего предназначается ее рукоделие, лишенный смелости начать игру: это для гостевой комнаты?.. для нашей?.. За тот месяц, как она обосновалась в комнате Людо, настойчиво орудуя каждый вечер своим маленьким ключом (и, возможно, потому, что еще слишком свежей была история с обручальным кольцом в кастрюле), они избегали любой возможности обменяться чем-либо, кроме обтекаемых высказываний, касающихся не изменившейся внешней стороны их жизни, оба наверняка изумленные, что можно не оскорблять друг друга на протяжении нескольких недель кряду, поочередно успокоенные и беспокойные, откладывая на потом момент прощупывания другого касательно того, что он или она думает об этой разновидности двусмысленного понимания… не слишком баламутить еще не остывший на углях пепел, спокойно выжидать, переводить дух, извлекать из этого перемирия кое-какую выгоду… Он размышлял, не соответствовало ли для нее затянувшееся в общей комнате рукоделие, которым она могла с таким же успехом заняться и у себя на этаже, протянутой руке помощи, своего рода тайному приглашению: скажи что-нибудь, скажи мне что-нибудь!..
И, быть может, здесь он упустил решающую возможность ясно сказать ей, что он все обдумал, что он не имеет ничего против ее желания спать в разных комнатах, чтобы то, что уже давно происходило ночью в их большой кровати, где они все больше и больше мешали друг другу, – но ключ… но барахло, сваленное в кучу в их бывшей спальне, которую он уже называл своею, этот хаос, в котором он был обречен спать, тогда как она, не жалея усилий, обустраивала как конфетку свою красивенькую комнатку: она очень быстро ее перекрасила и сменила обои, за три дня с одной из своих дражайших подруг по хоровому кружку, которой она, должно быть, рассказала что все это ради того, чтобы иметь свой уголок, тщательно избегая всяких упоминаний о постели, о ее использовании, она, должно быть, сказала, что, таким образом, у нее будет красивая комната, которую можно будет дополнительно выделить, когда нахлынут друзья, родители, внуки… и та нашла все это вполне естественным и даже предложила свои услуги, если у Веры возникнет желание по инерции переделать другие комнаты, например супружескую спальню, а поначалу ее расчистить…
Возможно, Вера ожидала, что он возмутится, набросится как вандал на ее новые занавески, вопя, что ему невыносимо ложиться каждый вечер среди гор хлама, загромождавшего комнату Людо с тех пор, как тот обосновался в Финляндии, а она ушла, чтобы спать там, в первую ночь, потом и большей части его вещей времен детства и отрочества, которые она выбросила ему в дальнейшем, дабы они не мешали наслаждаться всем пространством ее нового жилища. Она, всегда такая организованная, такая отвратительно педантичная, не сделала ни малейшего усилия, чтобы, например, разложить по опустевшим ящикам комода или на освободившемся пространстве стоявшего в их спальне платяного шкафа старые игрушки, игры, безделушки, книги или одежду Людо, которые до тех пор были разложены в его шкафу и на этажерках. Она побросала все кое-как в картонные коробки, которые свалила в кучи вокруг большой кровати, перед окном, не заботясь о том, сможет ли он после этого его открыть, то же самое и с платяным шкафом… все, повсюду, он шагу не мог больше ступить в этой комнате, не перешагнув, оттолкнув, отодвинув препятствия, поначалу частенько прокручивая в голове мысль о том, чтобы взять напрокат большой прицеп и попросить Жермена в ближайшую субботу помочь вывезти на свалку всю эту груду не принадлежащего ему хлама. Но для этого нужно было предупредить Веру, выдвинуть ей ультиматум, приступить, следовательно, к рассмотрению животрепещущего вопроса об их новом сожительстве… у него не было на это сил, как и на то, чтобы отважиться на грандиозный скандал, поставив ее перед свершившимся фактом… Он предпочитал посмотреть, дать ей время, не подгонять, воображая, что она разработала программу, рассчитывала действовать поэтапно: сначала тщательное обустройство в комнате Людо, затем разбор и сортировка в комнате напротив…
Она прицепила занавески и заново покрыла свою кровать, установила швейную машинку и гладильную доску, она закрывала дверь, поворачивала ключ, проходилась щеткой по его пиджаку, чистила ему туфли и готовила еду, подавая ее на стол перед телевизором, если сама не обедала раньше, чтобы пойти на собрание, репетицию хорового кружка или на сеанс в кино. Он часто ощущал на себе ее тяжелый взгляд, ее отвращение, презрение, а также досаду, сомнения касательно нехватки смелости и у нее самой, ее слёз на чемодане, возможно, она уже жалела, что ей не хватило сил унести его подальше, чем на другую сторону лестничной площадки, малодушие, за которое они теперь расплачивались оба, вынужденные застыть в безмолвии на расстоянии и тем не менее совсем рядом.
Он стал время от времени спускать в подвал то коробку с пустыми бутылками, то кипу журналов, то фрагменты сломанной или разобранной мебели. Иногда он оставлял эти предметы у подножия лестницы или на кухне, и рано или поздно она без единого слова от них избавлялась, и если он был разочарован, что она не хватается за этот шанс, чтобы вернуться к одной из старых добрых перебранок, то испытывал и определенное удовлетворение оттого, что заставил ее видеть, прикоснуться и, следовательно, вспомнить о том хламе, который она нарочно собрала и оставила в этой напоказ покинутой ею за несколько месяцев до того комнате. Потом он поразмыслил и решил его сохранить, чтобы подчеркнуть временный характер ситуации, а также потому, что ему нравилось поначалу, исполненными глубокого оцепенения вечерами, рыться в том, что все конкретнее и конкретнее представлялось ему драгоценным источником знаков. Он подумал, что не стоит избавляться от всего скопом, коробками, а будет куда как умнее и действеннее извлекать отсюда что-либо, значение чего могут оценить только они двое, какую-нибудь игрушку Людо, например, однажды утром он положит ее в мусорный бак, она ее увидит, будет взволнована, заберет, не говоря ему, оттуда, спрячет у себя в комнате, где игрушка обретет тем самым свое изначальное место, или же в конце концов набросится на него: Заводную обезьянку Людо, его модель авианосца в мусорный бак!.. как ты мог?!.
Но ничего, конечно, одни идеи, наметки мелочных, жалких, глупых планов, которым больше не было места он понял это через несколько месяцев, в новой главе их истории, где все принялось медленно соскальзывать к чему-то сухому, полому и вычищенному, словно череп. Эта загроможденная, пришедшая в упадок, тошнотворная комната, логовище, в которое он забивался по вечерам, в трех шагах от цветистого и обновленного пристанища Веры, в конечном счете стала казаться ему точной иллюстрацией всей его жизни рядом с ней, и его не удивляло, что он дошел до этого, он думал, что без нее вряд ли жил бы по-другому, ночью, днем, вверженным в расстройство, которое намного быстрее поразило бы его тело, сто шесть килограммов… этот вес, в узком коридоре, где он мешкал, раздираемый между двумя равносильными приманками: будоражаще бесстыдной мимолетной парочкой и иностранкой, бдящей над его пластиковым пакетом, вооружившись швейцарским перочинным ножичком и огромным зонтом, которым она, наверное, надеялась припугнуть как алебардой, если какой-нибудь тип, потерявший голову от ее духов, рыжеватых зарослей шиньона, тяжелых и теплых грудей… только бы ощутить их у себя в ладонях, их коснуться, больше ничего, и еще ее живот, трогать, мять ее большой живот, мягкий и мясистый… только и всего, в темноте, чтобы забыть маленькое, крепкое тело Веры, содрогание которого он так любил вызывать ночью, во сне, когда, пробужденный своим пылом, мог в точности проследить эффект своих ласк, исходя из ее дыхания и движений, догадываясь, в какой момент она осознала, что он делает, но предпочла изображать слегка потревоженную своими снами спящую… те редкостные услады, что тайком подавляли своей роскошью их ночи, пока не было ключа… еще раз, всего один раз вот так, в постели, в поезде, не важно где, с ней, и даже если ценой за эту вымоленную близость окажется мучительный и унизительный пролог, требующий, чтобы он безо всяких уступок признал свою вину и проявил искреннее раскаяние, он будет пресмыкаться как раньше, умолять на коленях, обещать все что угодно, следить за собой, он похудеет, бросит курить, станет утром и вечером бегать по лесу, оставит ей ее иллюзии по поводу Людо, станет сопровождать, куда она захочет, будет любезен со всеми ее друзьями, с ее семьей, загладит свои оскорбления, пылко сжав в объятиях на перроне, лишь бы она еще раз откинула перед ним свои простыни и позволила ночь напролет наблюдать ее сон…
~~~
Она сидит у окна, скрестив руки, в затемненном купе. Поворачивает к нему голову, когда он открывает дверь, входит, вновь закрывает ее у себя за спиной и остается стоять лицом к ней, с застревающими между сиденьями ногами. Она вновь смотрит наружу, где все темно за стеклом, в котором он замечает китайской тенью свой силуэт скребущей себе затылок огромной обезьяны. Excuse me [17]17
Прошу прощения (англ.).
[Закрыть], выдыхает он. Она смотрит на него, произносит что-то, чего он не понимает. Он снимает пиджак, кладет его на свой пластиковый пакет и садится напротив нее у самого коридора, против движения поезда, опирается локтями о расставленные колени и прячет лицо в ладони, пытаясь восстановить нормальное дыхание, каковое мало-помалу утихомирило бы его сердцебиение.
Она, должно быть, спросила его, все ли с ним в порядке, настаивает: okay? are you okay? [18]18
Все в порядке? С вами все в порядке? (англ.)
[Закрыть]Да, да, не зная, как ей теперь сказать, что ему бы хотелось, если у нее есть мобильник, она бы оказала ему огромную услугу, он заплатит, он знает, что международные разговоры, но это совсем недолго, от силы минута… И, все усложняя, в очередной раз, он слышит, как говорит ей на своем жалком английском, что прошел весь поезд в надежде отыскать возможность позвонить, тщетно, что не знает, что теперь, потому что он беспокоится и ему нужно знать до прибытия в Гамбург, что ему там делать, так как он только сейчас сообразил, что у него будет всего семь минут, а никак не полчаса, чтобы пересесть на Стокгольм, он ошибся, а если бы она могла приоткрыть окно…
Она опускает стекло на треть, натягивает наброшенный до этого на плечи свитер, спрашивает, не в Стокгольм ли он направляется. Нет, в Хельсинки. Она удивляется, упоминает поезд, паром, очень долгое путешествие, самолет… Расстроенный, что она не понимает или не хочет понять его намека на неотложную потребность позвонить, он говорит, что знает, но самолет, он, его сердце, врачи… потом машет рукой, нет-нет… может быть, и самолет, да, в Гамбурге, мне сказали, что за каких-то два часа и что в том направлении всегда есть свободные места, вы знаете Гамбург?.. аэропорт далеко?.. Она не знает, она вроде бы говорит, что всюду примерно одно и то же, есть поезда, подкидыши, наверняка каждые пятнадцать минут… Он думает, что это должно быть напечатано на одном из листков из туристического агентства, что он мог бы это проверить, вынув их из кармана пиджака, но для этого нужно либо вновь зажечь свет, либо выйти, чтобы свериться с ними, в коридор. Он вылавливает свою бутылку с водой, пьет, спрашивает, можно ли ему выкурить сигарету, и предлагает сигарету ей. Она предпочитает собственные, вынимает пачку легких, приподнимает термос, не хочет ли он кофе?
– О yes! [19]19
О да! (англ.)
[Закрыть]с тяжелым вздохом, не пытаясь найти слова, чтобы выразить свою признательность и угрызения совести, что он ее тем самым обделяет…








