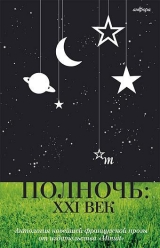
Текст книги "Полночь (сборник)"
Автор книги: Жан Эшноз
Соавторы: Эрик Лорран,Элен Ленуар,Кристиан Гайи,Ив Раве,Мари НДьяй,Эжен Савицкая
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Иногда я выходил пройтись вокруг дома по этому пригороду, где, до того как его один за другим начали захватывать земельные участки под жилье, урезая тем самым зону наших забав и – так как с вырубкой деревьев и раскорчевкой подлеска исчезала местная фауна, обитавшие здесь зайцы, ежи, белки и змеи, – постепенно уничтожая наполовину сельскую природу, некогда простирались бескрайние пустыри, среди которых я предавался со своими товарищами всем тем детским играм, что более или менее одинаковы под всеми небесами и во все времена, но где-нибудь в сторонке – и я был готов на любые обмены, любые подарки, любые обещания, любые компромиссы, любой шантаж, лишь бы эту просьбу увенчал успех, – я в конце концов почти неизменно улучал подходящий момент и принимался упрашивать кого-нибудь из сотоварищей противоположного пола задрать юбочку и спустить трусики, одержимый из-за непреодолимого очарования, каковое, впрочем, меня никогда не покидало и находит выражение в насущной – и даже более того, необходимой, поскольку, занимаясь любовью в темноте, я непременно рано или поздно терплю фиаско – потребности, которую я испытываю: видеть во время соития половые органы моих возлюбленных, при том все же условии, что выглядят эти органы в моем вкусе, – я на самом деле еще более, чем к густоте волос на лобке (каковые я предпочитаю не слишком густые, но обязательно пушистые и даже частично эпилированные, тем более у брюнеток), предельно чувствителен к абрису и окрасу вульв (каковые, в свою очередь, более всего люблю тонко рассеченные, вылепленные скорее вогнуто, нежели выпукло, и бледно-розового цвета (причем важность, придаваемая мною этой пластической детали, такова, что мне не раз и не два случалось отказываться от второй ночи с той или иной девушкой, сколь бы отзывчивой и красивой она ни была, только по той причине, что ее губы – слишком морщинистые, слишком темные, слишком дряблые – были мне противны (они всякий раз вызывали у меня в памяти те мясистые и зубчатые красно-фиолетовые наросты, гребешки и бородки, что топорщатся на голове или свисают у некоторых представителей отряда куриных с основания клюва)), – одержимый более чем следует зрелищем их интимностей – я приседал тогда на корточки, чтобы находиться с ними на одном уровне, и более не двигался, целиком поглощенный созерцанием этого крохотного треугольника безволосой, чуть набухшей плоти с раздвоенной нижней вершиной, пока потерявшая терпение рука не отпускала в конце концов полу ткани, а то и не отвешивала мне оплеуху, если я позволял себе какой-то похотливый жест, после чего я опрокидывался навзничь и на протяжении долгих минут валялся на траве, раскинув руки крестом, словно в полуобморочном ослеплении.
В один из дней, выйдя прогуляться вдоль берега Алье в поисках хоть какой-то прохлады, я проходил мимо зеленеющей лужайки недавно построенной внушительной виллы в неовозрожденческом стиле и заметил за низенькой стеной из сухого камня, отгораживающей ее обширное внутреннее пространство, женщину примерно моих лет; одетая в купальник, розовую ликру которого пучили, чуть ли не прорывая, ее пышные округлости, обутая в украшенные белыми кувшинками босоножки из красного пластика, она перелистывала, утоляя одновременно жажду ледяным чаем, женский журнал, откинувшись в шезлонге на берегу бассейна, в котором на надувной лодке резвились трое ребятишек.
Сам не знаю почему, я остановился. Прошло несколько секунд, и молодая женщина, вероятно почувствовав, что за ней наблюдают, оторвалась от журнала и подняла солнечные очки на лоб, к самому основанию своих светлых волос, собранных сверху в какое-то подобие шиньона в духе пальмовой египетской капители.
Вид ее глаз, самых, однако же, заурядных, густо подведенных в довольно вульгарном вкусе косметикой кричащих оттенков, вызвал во мне неожиданный отклик: меня словно что-то с размаху ударило в грудь. И я тут же понял почему: несмотря на годы и вызванные ими эритематозные припухлости, переделавшие черты ее лица и подпортившие его цвет, я все же именно из-за глаз, оставшихся, как мне показалось, несмотря на плещущие вокруг них потоки плоти, совершенно такими же, какими представлялись двадцать пять лет тому назад, отливающими голубизной лагуны, блестящими все тем же жемчугом, словно материя, из которой они изваяны, была нерушимой, а вода, что их омывала, нетленной, я все же узнал в лице этой молодой женщины лицо Люси Ривьер.
Мне было где-то от восьми до десяти лет. Обуреваемый в ту пору величайшей набожностью – до такой степени, что долгое время я считал своим естественным призванием святость, а отнюдь не борьбу с огнем, ветеринарную медицину, пилотаж летательных аппаратов, исследования на батискафе или археологические экспедиции, каковые пренебрежительно оставлял своим заурядным товарищам, – я мечтал стать хористом. Настал день, когда мне наконец предоставилась подобная возможность: по окончании воскресной мессы настоятель нашей приходской церкви объявил, что в следующую субботу сразу после полудня примет всех прошедших конфирмацию мальчиков, желающих помогать ему во время служб.
В указанный день, принеся в жертву еженедельный футбольный матч, в котором на разделяющей наши кварталы травянистой целине мы, белые дети из коттеджей, противостояли сыновьям магрибских иммигрантов из дешевых муниципальных домов, я отправился в дом священника, умытый, причесанный, приглаженный, высморканный и празднично одетый, вышагивая в своих скрипучих штиблетах походкой, вобравшей в себя всю апостольскую торжественность, на какую только был способен мой юный возраст, когда мне на пути попалась компания знакомых девочек, среди которых оказалась и Люси Ривьер.
Люси Ривьер была изящным и стройным ребенком, напоминающий опал цвет ее лица служил оправой голубым геммам огромных глаз; по обычаю традиционной буржуазной среды, из которой она происходила, ее манера одеваться была напрочь лишена всякой фантазии: бакелитовый обруч оцеплял неизменно ровный горизонт ее светлых волос, никогда не опускавшихся ниже затылка; чаще всего она надевала неярких цветов платья с оборками, застегнутые до самого верха перламутровые пуговицы которых исчезали под закругленным отложным воротником, но носила также и плиссированные юбки с шелковыми или сатиновыми блузками строгого покроя; на ногах у нее обычно были черные лакированные баретки без каблуков, а над ними – пара коротеньких носочков, всегда казавшихся новыми из-за своей безукоризненной белизны и неоспоримой уместности.
Мы учились вместе с подготовительного курса и с тех пор из четверти в четверть оспаривали друг у друга пальму первенства; конкуренция связала нас наподобие привыкших делить друг с другом пьедестал спортсменов, но это отношение никогда не выходило за рамки уважения, по крайней мере с ее стороны, – я-то, по правде говоря, влюбился в нее с первого взгляда, той свойственной детству влюбленностью, которая хоть и заставляет с собой считаться, еще не ведает, как себя выразить, чаще всего выливаясь в постоянное поддразнивание (так и я довольствовался тем, что утаскивал у нее пенал, прятал ранец, дергал ее за волосы, а то и, раскрыв пополам, чтобы высвободить раздражающие кожу зернышки, засовывал ей за шиворот прозываемые ягодами плоды шиповника, чьи волоски так раздражают кожу, – их можно было в изобилии найти на пустырях вокруг школы).
Маленькая компания направлялась в бассейн, мне было предложено к ним присоединиться. Полный религиозных поползновений, я отклонил приглашение и, не тратя больше времени, вновь устремился через предместье, правда, порыв мой теперь несколько приугас и шел на убыль буквально с каждым шагом, так что в нескольких метрах от церкви и примыкающего к ней дома священника я остановился как вкопанный и, не в силах сделать ни шагу дальше, замер перед главным фасадом как истукан.
Не берусь сказать, что творилось в тот момент у меня в голове, – не осознавал ли я смутно, что поступок, который я готовлюсь совершить, вероятно, определит истинное рождение свободы моей воли и что грядущее укажет на него как на первый, предвосхищающий знак как моего отступничества, так и преклонения перед Женщиной? – но я застрял там на долгие минуты, без движения, будто захваченный возвышавшейся передо мною частью стены, в то время как слева и справа меня огибали кандидаты в хористы, кое-кто из них похлопывал меня по плечу и спрашивал, с чего это я тут считаю ворон, прежде чем взойти друг за другом на паперть, откуда, показывая на меня пальцем, они злословили про «китаезу», эта кличка из-за миндалевидного разреза глаз преследовала меня на протяжении почти всего детства, из-за нее я долгое время сомневался, родным ли сыном прихожусь своим родителям, и на какое-то время даже вбил себе в голову, что являюсь усыновленным отпрыском тех boat people [29]29
Буквально – лодочный народ, лодочные люди (англ.),беженцы, покинувшие страну морем, в частности вьетнамцы, бежавшие на небольших суденышках в Гонконг, Австралию и другие страны из Южного Вьетнама после захвата его Северным в 1975 году.
[Закрыть], которых разрывавшие в те годы Юго-Восточную Азию войны тысячами сбрасывали в море.
Вскоре я остался один, пробило три часа. Послышались шаги, скрипнула решетка, потом на деревянной двери в здании выросла тень сутаны, и прямо передо мной возник священник. «Ну-с, что с тобой, мой мальчик? Мне сказали, ты не осмеливаешься зайти, это так?» Я не отвечал, втянул голову в плечи, неожиданно развернулся на сто восемьдесят градусов и со всех ног бросился домой, где на глазах у изумленной матери засунул в свою спортивную сумку плавки и махровое полотенце. «Вот что, – сказал я ей, – я, пожалуй, лучше поплаваю».
Плавать я, однако, не стал. В тот самый миг, когда я пересекал ледяную воду ножной ванны муниципального бассейна Курбурга, я заметил, как в стороне от водоема Люси Ривьер, растянувшись на купальном полотенце, целуется с каким-то парнишкой. Я свернул прямиком в смежную с мужской раздевалкой душевую, где, чтобы скрыть свои слезы, долго простоял в самом дальнем углу, упираясь спиной в нажимную пусковую кнопку. Печаль моя не унималась, к тому же на нее наслоился стыд, что я отрекся от своего Бога, каковой, как я не сомневался, меня за это и наказал, и я должен был набраться решимости, чтобы покинуть плавательное заведение; в отчаянии и покинутости, сделавших меня нечувствительным к усталости, я бегом покрыл те три километра, что отделяли меня от дома.
«Какие у тебя красные глаза! – встревожилась мама, увидев меня по возвращении. – Ерунда, – откликнулся я, направляясь прямиком к себе в комнату, – это от хлора».
Бабушка отошла в один из последних дней июля, между часом и двумя пополудни, как раз перед нашим ежедневным посещением. Для всех, включая и ее саму, коли за день до этого в последнем мимолетном проблеске сознания она пробормотала одному из моих дядей: «Вот и все, скоро встречусь с папенькой», – притом что, исполненная слепой веры простых людей в «доктора», до тех пор она ни на минуту не сомневалась, что скоро поправится; до такой степени, что мы в изумлении должны были не так давно принять к сведению кое-какие дополнения, которые она хотела внести в список личных вещей, начатый ею с момента помещения сюда, в этот медицинский институт, и рассчитанный на близящийся восстановительный период в доме отдыха (причем в заранее ею выбранном), а затем с не меньшим изумлением слушали, как она во весь голос, голос как никогда неразборчивый, обдумывает, насколько чаще и насколько дольше ей придется по возвращении домой прибегать к помощи домработницы, и просит у моего отца при первой возможности обрезать у нее в саду кусты роз и не забыть полить и подстричь газон, – неизбежность ее смерти приобрела за последние два дня характер достоверности: в точности с того момента, когда под предлогом, что у нее «больше не найти вен» для вливаний, – таким образом, в том неспешном процессе распада, каким является жизнь, может наступить стадия, когда ты теряешь вены, как то бывает с зубами или волосами, – врач, моя мать, ее сестра и два брата договорились, что ее «отключат» (жуткий термин, низводящий ее до уровня банального электроаппарата), ограничившись впредь внутримышечными обезболивающими инъекциями морфия.
Глаз с тех пор она так и не открыла, погрузившись в сон, из которого больше не выходила, но его смиренное и бесстрашное выражение не вытеснило с ее лица все заупокойное и, напротив, создавало бы такое впечатление, будто она позволила себе полуденную сиесту, не будь тесситура ее дыхания, каковое, ничуть не походя на размеренное, спокойное, грубое и тяжеловесное, даже немного непристойное дыхание здорового спящего, слабело с каждым выдохом, замирая подчас на долгие секунды, прежде чем восстановиться, но настолько неощутимо и с такой нерешительностью, такой истонченностью, что постоянно чувствовалось: оно вот-вот прервется снова, и с каждым разом все менее напоминая дыхание и все более – прерывистую и перебивчатую утечку воздуха: сип жизни в процессе исчезновения.
Похороны должны были состояться через день. Утром моя мать, воскрешая разыгрывавшийся некогда тысячи раз ритуал, каковой в тот смутный момент пробуждения, когда, покидая все те «я», которые нас миновали или нам виртуальны, мы мало-помалу обретаем различные фрагменты, составляющие наше действительное «я», привел мое сознание в замешательство и даже заставил на какую-то долю секунды уловить среди гардероба скопившихся с самого рождения остатков былой роскоши мишуру старинного школярского «я», бесшумно вошла в мою комнату и разбудила меня, нежно потеребив за ногу и сопроводив этот жест фразой, служившей в детстве магическим заклятием при каждом моем подъеме: «Вставай, мой маленький, пора», – перед тем как открыть ставни, не настежь, а наполовину, чтобы дневной свет не резал мне глаза.
Чуть позже я добрался до кухни, где она с отсутствующим видом заканчивала завтрак, машинально обмакивая в чашку с чаем ломтики багета, которые мой отец, как повелось с первого же проведенного ими вместе утра, сам намазал маслом и вареньем, так же он годами делал это и для нас с братом, движимый сразу и заботой, и (так как в первую очередь опасался неловкости наших детских рук) домашней экономией, каковая, впрочем, как я мог убедиться за прошедшую неделю, все еще подталкивала его, хотя с достигнутым с годами ими с матушкой относительным финансовым благополучием он мог бы от этого отказаться, не выбрасывать ничего, что еще годилось в пищу, пусть даже и зачерствевшее, прогорклое, с душком, перезрелое или даже чуть подпортившееся, и, к примеру, за всякой трапезой он потреблял остатки сыра, предварительно счистив с них бархатисто-серую цвель плесени, или же битые и подгнившие фрукты, вырезав из них с миллиметровой точностью побуревшие или размякшие места.
Через полчаса мы втроем выехали из дома на машине, чтобы присоединиться ко всем остальным в траурном зале Клермон-Феррана, где были выставлены для прощания бренные останки нашей родственницы.
Словно – и, кстати, именно поэтому не так уж нелепо утверждать, что, как принято говорить о новорожденных, все трупы более или менее схожи – первейшая задача смерти состоит в том, чтобы лишить нас индивидуальных черт, я не узнал престарелую женщину в той, что покоилась облаченной в глубине своего гроба в выцветшую розовую блузку и юбку цвета морской волны, сжимая в сложенных на груди руках четки из многоцветных бусинок с серебряным крестом и надетым на него золотым обручальным кольцом, тем паче что, не знаю уж почему, то ли из-за горизонтального положения, то ли потому, что ее поместили в этот чуть ли не сжимающий ее ящик – подгоняя тем самым предоставленное ей пространство к впредь отпущенному времени, то есть к ничто, – она произвела на меня такое впечатление, будто оказалась низведена на другую, уже не ту лестницу, где эволюционируем мы, живые; особенно это касалось ее лица, казалось, что оно просто-напросто прошло через руки охотников за головами.
Точно так же как и неделей раньше, когда я впервые посетил ее в «Голубых елях», меня захлестнули слезы, и мне пришлось, покинув помещение, обрести убежище в туалете этого заведения, каковой богатое и необычное обеспечение раздатчиками бумажных носовых платков наделяло чертами скорее лакримариума, нежели собственно отхожего места.
Когда, обуздав наконец свои излияния, я вновь вошел в двери поминальной залы, там как раз готовились закрыть крышку гроба. Все семейство отступило на несколько метров, кроме моей матери, которая без движения, спиной к собравшимся, не отводя взгляда от лица усопшей, обеими руками вцепилась в закраину гроба.
Прошло какое-то, показавшееся мне чрезвычайно долгим, мгновение, и я увидел, как она медленно нагнулась и запечатлела на лбу бабушки поцелуй. После чего, так же медленно выпрямившись, один за другим разжала пальцы и нетвердой походкой, с протянутыми в пустоту руками, отступила на пять-шесть шагов, пока не оказалась рядом с моим отцом, который поддержал ее, обняв за талию.
Тут же выдвинулись двое служащих похоронного бюро с крышкой гроба. Накрыв ею гроб и подчеркнуто добросовестно ее приладив, они с помощью коловорота просверлили крышку по углам, выплеснув из каждого отверстия струйку опилок, те ложились вокруг пёрки своего рода венчиком, прежде чем ссыпаться тонкой струйкой по деревянному ящику и опасть тончайшей пыльцой на их лакированные штиблеты под треск дуба и свистящее, влажное дыхание, срывавшееся у них с губ, между которыми было зажато несколько шурупов.
Левитируя между безучастными, поблескивающими, в красных прожилках, черепами квартета облаченных в черные пары атлантов, мерное, сообразное скандированию только что вступившего похоронного звона, продвижение которого его слегка раскачивало, закрытый гроб погрузился через час в светотень небольшой церковки в Монферране, медленно избавляясь от посеребренного переливчатого покрова, коим его в знак последнего почтения окутало по извлечении из похоронного автобуса солнце, чтобы покрыться крапинками радужной дрожи, каковую добрасывали до него, просачиваясь сквозь витражи нефа, лучи света.
Церковный обряд вершил – правильнее было бы, впрочем, сказать отправлял, поскольку до евхаристии, что лишний раз свидетельствовало о нынешнем упадке священнического призвания, дело за отсутствием времени (действительно, далее следовали бракосочетание и групповое крещение) не дошло, – худосочный и скудоумный священник, в присутствии примерно сотни людей пошло, с почти отсутствующим видом отбывавший вменяемые его сану обязанности, он даже умудрялся всякий раз коверкать фамилию усопшей всевозможными метатезами, что, накладываясь на неслыханную посредственность навязанного им нам надгробного слова, являвшего собой чистой воды попугайничанье, особо нас ранило, всех нас, ее близких, словно оттискивая на нашей скорби клеймо бесчестья, как потому, что мы находили эти искажения обидными для памяти нашей дорогой старушки, которую мы провожали в последний путь, так и из-за того, что они навевали смутное и, если бы не обстоятельства, чуть ли не комическое ощущение, будто нас обманули с похоронами и мы оплакиваем не свою покойницу, а может быть, также, но тогда уже не на столь осознанном уровне, мы оказались так задеты ими потому, что, добавляя к порче ее плоти искажение имени, они делали для нас, одно к другому, более ощутимым, так сказать осязаемым, сомкнувшееся над ней небытие: ну да, бедная женщина отныне была ничем, действительно ни чем не была, даже именем.
Гроб, после того как нас одного за другим пригласили собраться перед ним, был поднят с заменявшей примитивный катафалк пары металлических козел, на которые его в начале службы водрузили перед лестницей на хоры, как раз под алтарем, и снова помещен в похоронном автобусе на приподнятую до середины платформу, затянутую серым плюшем и занавешенную выкроенными из пурпурного бархата сборчатыми занавесками, подложив под нее венки и охапки цветов, все разошлись по своим машинам, и так, автомобилизированными, мы и проследовали за нашей усопшей родственницей до ее последнего прибежища, странным конвоем, растянутым и скорым, в целом неразличимым для всякого в него не входящего, своего рода тайной процессией, вершащейся инкогнито в сравнении с тем, как все это делалось некогда, в эпоху (то есть почти век назад), когда эта ныне отошедшая родилась, а именно пешком, толпой, за влекомыми лошадьми траурными дрогами, при неспешном прохождении которых крестились женщины и обнажали голову мужчины.
Траурный кортеж уже несколько долгих минут как рассеялся по кладбищу, а я, в одиночку, в окружении вынутых из похоронного автобуса и затем временно выложенных на дорожку цветочных композиций, прозрачная обертка которых шебуршала под легким ветерком, все еще оставался перед фамильным склепом, только что под скрип древесины, шуршание поддерживающих его веревок и бряцание зацепленных за латунные ручки металлических крюков поглотившим гроб, не в состоянии – словно мне надо было до самого конца, то есть до последнего свидетельства ее существования, наполниться воспоминаниями об этом, так мною прежде любимом существе – отвести затуманенные слезами глаза от тяжелого надгробного камня из розового гранита, каковой четверица атлантов, обратившихся между делом в могильщиков, медленно перемещала поверх похрустывающего при вращении длинного стального цилиндра, помогая себе для этого испускавшими жалобные отрывистые похрустывания деревянными клиньями, а один из них, теперь уже скорее потешный кузнец, нежели могильщик, – ломом с расщепом на конце, чье регулярное позвякивание о бетонную облицовку гробницы, казалось, подхватило отзвучавший недавно в церкви похоронный звон, но с более высокими, более хрупкими, более отрывистыми и не такой глубины звуками, словно мало-помалу замирающее в своем бронзовом колокольце било.
Потом до моего рукава дотронулся брат. «Ну, пойдем же, – призвал он, – нечего здесь стоять, все кончено, семья собирается помянуть бабушку, ждем только тебя». И тогда-то, словно мы почувствовали, что оставить теперь ее здесь, на дне этой ямы, под этой гранитном плитой, которую, встав на колени и опершись на локти, из протянутого перед собой подобия пистолета со здоровенной трубкой из белого пластика в качестве дула грунтовал один из четверых могильщиков, означало навсегда покинуть нашу бабушку, разъединяя на веки вечные наши судьбы, которые пересеклись в это самое мгновение в последний раз, мы, заливаясь слезами, пали друг другу в объятия.
И вот сразу пополудни все наше семейство очутилось на холмах Шантюрга, в тени растущих в саду одного из моих дядей миндальных деревьев, вокруг длинного деревянного стола, накрытого белой бумажной скатертью, которую удерживали металлические зажимы. Скорбь и жара – поскольку стояло время отпусков и, хотя нас отчасти и предохраняла от того, чтобы расплавиться, листва, солнце пронизывало каждую нить наших темных одежд, делая их обжигающими, – подавили нас всех, так что мы разговаривали мало, вполголоса.
Потом было подано прохладное розовое вино, от него быстро разогрелись умы, раскраснелись щеки, покрылись капельками пота лбы и виски. Мы не замедлили скинуть куртки, расстегнуть пуговицы рубашек и блузок, распахнуть воротники, засучить рукава. Мало-помалу исчезло всякое подобие торжественности, послышались громкие голоса, потом смех, и, когда ее подали, все дружно налегли на еду. После кофе и рюмки дижестива из футляров были извлечены шары для игры в петанк [30]30
Распространенная на юге разновидность национальной французской игры в шары; в игре участвуют «команды», состоящие либо из двух, либо из трех игроков.
[Закрыть], все разбились на пары. Я, однако же, отказался войти в одну из них и взял у родителей машину.
Я пересек Монферран и проехал по его предместьям до квартала Ла Плен, где и припарковался у бабушкиного с дедушкой коттеджа. Как будто в музее, то есть с тем же, пусть мы и знаем о его тщетности, старанием внимательно осмотреть все вплоть до мельчайших деталей, я в последний раз зашел в каждую комнату, медленно передвигаясь по свежей, но уже тронутой затхлостью полумгле, сгущавшейся за запертыми ставнями и закрытыми окнами, и почти не нарушая мертвенный покой своими шагами, лишь время от времени под ногами поскрипывала дощечка паркета или хрустел иссохший торакс дохлой мухи.
Потом – ибо только для этого я сюда и пришел – я придвинул плетеный стул к одной из стен супружеской комнаты, взобрался на него, чтобы дотянуться рукой до свадебного портрета бабушки с дедушкой, висевшего здесь под стеклом, в примитивной рамке из темного дерева шестидесяти сантиметров в длину и тридцати в ширину, испокон веку (на погрудной черно-белой фотографии они были изображены бок о бок, когда им было лет двадцать: справа бабушка, овальное лицо под разделенной боковым пробором довольно-таки пышной прической, чей объем скорее всего поддерживают на затылке несколько шпилек, уже потом давая ей распуститься сзади чуть вьющимися прядями, широко раскрытые глаза почти испуганы (не могу удержаться и, с тех пор как в один прекрасный день, изрядно выпив, он собственными устами поведал мне, что в первую брачную ночь, а потом и в три или четыре следующие, она отказала своему супругу, приписываю эту боязнь перспективе лишения девственности) слегка вздернутый нос, довольно-таки полные и – вероятно, все по той же причине – словно судорожно сжатые над горизонтальной ямочкой на подбородке губы; слева дедушка, квадратное лицо под зачесанными назад короткими густыми волосами, подбритыми на висках, низкий лоб, густые брови, маленькие глазки, широкий нос, тонкие, растянутые губы, гордо выставлен слегка выдающийся вперед подбородок; одеты: она – в накидку цвета морской волны, под широким воротником которой повязан пестрый платок, он – в куртку того же синего цвета, белую рубашку с черным галстуком в крошечный желтый горошек; на самом деле, искусственная одежда, умело подрисованная пастелью портретистом, как и каштановые отсветы на их волосах и глазах, розоватые рефлексы на губах и скулах, а также небесно-голубой фон, на котором они оба выделяются), и снял портрет со стены.
Тщательно завернув его в газетную бумагу, я закрыл за собой входную дверь и зашагал по садовой дорожке, огибая пожелтевший, с залысинами газон, где гнили опавшие сливы и вишни, предмет споров дроздов, потом неухоженный огород, на сероватой, растрескавшейся почве которого почти все растения засохли на корню, клумбы с цветами, чьи увядшие и вылинявшие венчики покачивались под слабым ветерком, и не оглядываясь назад, на этот дом, по старому облику которого я всегда испытывал ностальгию, по дому, каким он был до того, как, следуя амбициозному плану обновления квартала, начатому с асфальтирования здешних утоптанных грунтовых улиц, кому-то не взбрело в голову заменить окружавший его забор из штакетника на проволочную сетку, выбелить штукатурку на фасаде, снести пристройку и выкорчевать обвивавшие стены виноградные лозы, из чьих плодов дедушка из года в год извлекал кислейшее (сколько ни подкладывай сахара в сусло) вино, которое он, несмотря на практически полное единодушие всех остальных, продолжал числить по разряду гран крю.
Выруливая на соседнюю улицу, я все же не смог удержаться и оглянулся на коттедж, даже и зная, что бабушка не стоит на крыльце, опоясанная извечным фартуком с нагрудником, из просторного кармана которого торчит здоровенный секатор (ибо, помимо банок с вареньем, сосудов с овощами и фруктами, пачек кофе, плиток шоколада и коробок печенья, которыми по окончании каждого моего посещения у меня были заняты руки, она никогда не забывала, провожая меня, еще и срезать несколько роз или тюльпанов, чтобы я преподнес их своей нынешней «подружке»), помахивая мне рукой и крича «до свидания», как она имела обычай делать, когда я ее покидал, и от этого жеста, с тех пор как она овдовела, у меня всякий раз сжималось сердце – ибо я оставлял ее один на один с одиночеством.
Щурясь с наступлением вечера сквозь веером выбеленные дворниками дорожки, шафрановые крапинки десятков мертвых насекомых и сплошь испещрившие ветровое стекло взятой мною у родителей машины высохшие капельки дождя на то, как над вулканами Домской цепи в медленном, почти неощутимом падении заканчивает свой пробег раскаленное светило, вроде бы ускоряющее свой бег и в то же время с виду разгорающееся все ярче по мере приближения к их синеватым женственным складкам, чтобы вскорости погрузиться за один из них, гребень которого несколько мгновений алел, словно на грани плавления, как будто после тысяч лет бездействия он внезапно пробудился и вот-вот вновь изрыгнет свою раскаленную вязкую лаву, свои газы, копоть, испарения (пробуждение, служившее, между прочим, для меня на протяжении всего детства источником беспокойства, как бы меня ни успокаивали близкие по поводу возможного извержения среди восьмидесяти возвышенностей, насчитываемых в этой постоянно ограничивавшей мой горизонт цепи), я катил в сторону Клермона, рассчитывая, что случай, не беря в расчет летние каникулы, поможет мне встретить кого-нибудь из старых и не слишком близких знакомых, кого именно – было, по правде говоря, не столь уж важно, поскольку после всех только-только пережитых скорбных дней у меня в мыслях только и было, что отвлечься в алкоголе, беседе, гомоне кафе, пусть и нарушая приличия, требовавшие, чтобы я чтил период траура, – но меня вдруг захлестнуло ощущение, что я пережил его, этот период, загодя, упредив по ходу истекшей недели, и теперь, когда бабушку предали земле, оказался от него свободен.
Вот так-то, припарковав машину под раскидистыми куполами катальп на площади Жод, совсем рядом с подножием украшенного колоннами постамента конной статуи Верцингеторикса, которая, казалось, скорее парила, нежели вздымалась на дыбы с его северной оконечности, а за нею, погруженные в беспросветную тьму и голые, угадывались классические свод и фасад церкви Святого Петра и францисканцев, где меня крестили (раньше я постоянно слышал, как о ней говорят, будто она – самая богатая в городе, на том основании, что к ней примыкал квартал проституток, тех самых проституток, на чьи своеобразные аркбутаны и горельефы из плоти, каковыми представали, подпирая стены на углу улочек или в полумраке подъездов, их длинные сетчатые ноги и пышные полуприкрытые груди, лицеистом я по окончании занятий, перед тем как сесть на идущий в Курбург автобус, иногда пялился украдкой зарящимся оком), я какое-то время пофланировал рядом с собором, оба его черных базальтовых шпица, появившись передо мной, когда я вышел на середину улицы Гра, казались как бы серебряными проблесками под белыми лучами мощных прожекторов ночной подсветки, среди раскаленных, как искры, ореолов которых во все стороны кружились тучи пядениц, то поднимаясь, то опускаясь по сторонам венчаемого им бугра, у этих античных арвернских фортификаций, коим выпадет выслушать проповедников первого крестового похода, я прожил около семи лет (мои годы учения – если та малость прилежания, каковую я выказывал на их протяжении, позволяет мне так квалифицировать этот период), между моим отбытием из Курбурга и обустройством в Париже, прогуливаясь по узким, темным и тихим улочкам, зажатым между старыми сероватыми, темно-серыми, черными фасадами, напрочь лишенными каких-либо украшений, малейшего, даже самого скромного – словно даже местная архитектура оправдывает репутацию издавна славящихся своей скупостью обитателей этих краев – декоративного эффекта, из подвальных окон которых с глотком свежего воздуха временами вырывались навязчивые эманации затхлости и сырости, изгоняемые на каждом шагу слюноточивыми ароматами очередной ресторанной кухни, потом внезапным резким запахом мочи, прошел в какой-то момент мимо металлической, теперь уже траченной ржой шторы допотопной итальянской бакалеи, куда я так часто заходил вместе с бабушкой, запасавшейся там каждую неделю «местными» продуктами, а именно пармезаном, горгондзолой и панеттоне [31]31
Знаменитые итальянские сыры и миланский рождественский кулич.
[Закрыть], под тем предлогом, что лучших не отыщешь во всем департаменте (тесная лавочка, скорее длинная, нежели широкая, ее стены до самого потолка, с балок которого свисал десяток закутанных в марлю сырокопченых окороков, покрывали полки с деревянными ящиками, в царившую там полутень (ибо всю лавку освещала одна-единственная лампа дневного света из витрины-холодильника, там, за выпуклым стеклом, располагались разнообразные соления и сыры, а также, в бадейках из белого пластика, всевозможные пасты и равиоли) мы проникали, раздвинув тяжелый занавес из разноцветных бусинок, и оставались там одни, дожидаясь, пока вернется державший ее старый неаполитанец, тот неизменно восседал за столиком в бистро напротив в компании других стариков, с которыми не спешил расстаться, ограничиваясь тем, что громогласным баритоном отпускал в наш адрес над их убеленными сединами головами: «Tutto va bene! Vengo, vengo!» [32]32
Все в порядке! Заходите, заходите! (ит.)
[Закрыть]– чтобы всего лишь минутой-другой позднее в свою очередь раздвинуть ведущий в магазин тяжелый занавес из разноцветных бусинок, зажав между пальцев несколько игральных карт, каковые он первым делом клал сверху на кассу, позаботившись, чтобы мы их не увидели, а уже потом окидывал нас почтительным взглядом, сопровождаемым пленительным buongiorno [33]33
Добрый день (ит.).
[Закрыть]), не пропустил ни одной террасы попадающихся на пути кафе, все они были битком набиты женщинами в легких платьях и топиках и мужчинами в штанах по колено и рубашках с короткими рукавами, в туфлях, по большей части на босу ногу (одеяния почти что бальнеологические, для полноты картины не хватало ну разве что головного убора и махрового полотенца), я не обходил эти террасы по краю, а норовил пересечь, в надежде, что в придачу к машущей над головами руке, порывающейся, как только я ее засек, указать на свободный стул рядом с собой, за одним из столиков раздастся мое имя, – оно донеслось до меня полушепотом на площади Мазе, на террасе кафе «Ла Бодега», и вместе с ним чьи-то пальцы сжали мою руку чуть выше правого запястья.








