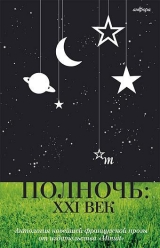
Текст книги "Полночь (сборник)"
Автор книги: Жан Эшноз
Соавторы: Эрик Лорран,Элен Ленуар,Кристиан Гайи,Ив Раве,Мари НДьяй,Эжен Савицкая
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
Двумя годами ранее, в 1990-м, один художественный фонд пригласил меня вместе с несколькими друзьями-писателями (я не люблю слово «писатель» и стараюсь избегать его, когда только возможно, но не так-то много других слов, чтобы обозначить то, что ты делаешь) во Флориду, и, по правде, все прошло очень славно, дни на пляже, ночи в барах, иногда мы даже немного пописывали. Все прошло настолько славно, что мы решили, дабы это событие отпраздновать, написать по рассказу и объединить их в сборник, которому, как мы с энтузиазмом постановили, по выходе, естественно, будет обеспечен грандиозный успех. Вернувшись во Францию, я отношу весь комплект Жерому Лендону, каковой сразу же надувает губы. Он читает сборник, потом приглашает меня и с каменным лицом протягивает договор, согласно которому, похоже, берется его издать. Ситуация небывалая, так как обычно, когда текст ему нравится, он улыбается своей широкой улыбкой и выглядит в общем-то довольным. Днем я решаюсь позвонить Ирен: Что происходит? спрашиваю я ее. Жером действительно собирается издать этот сборничек, но у него в то же время сердитый вид. Пойду, говорит Ирен, справлюсь. И никаких проволочек: часом позже звонит Жером Лендон: Ирен сказала, что у вас возникли вопросы. Ну так вот, я нахожу вашу затею совершенно никчемной, вкратце говорит он, все это никуда не годится, никуда не годится и ваша часть, я издам ваш сборник, просто чтобы его не издали другие.
Сей опус и правда выходит, но в книжных магазинах его не найти, в прессе о нем практически не слышно, и он почти не продается. Впоследствии, перечитав этот сборник, я и в самом деле прихожу к выводу, что он довольно-таки жалок, и все последующие годы буду предлагать Ирен убрать его из каталога издательства. Ну нет, с улыбкой ответит она, что это ты придумал? Раз книга налицо, надо пытаться ее продать.
Следующие книги – я про свои – уже не порождают особых проблем. За вычетом, почти каждый раз, проблемы запятых, нашего единственного фундаментального эстетического расхождения. Жером Лендон – сторонник, когда это только возможно, демонстративной ритмизации фразы посредством запятых, тогда как по мне лучше по возможности обходиться вообще без них, внутренний ритм фразы обязан поддерживать себя без посторонней помощи. Так что нам случается проводить немало времени, обсуждая уместность или неуместность какой-то запятой, разворачивая по этому поводу в адрес друг друга (ибо наконец, отныне, у нас неплохо получается вместе говорить и смеяться) нескончаемые словопрения, словно от этого зависит будущее мира и литературы, что, впрочем, по нашему мнению, как раз и может иметь в подобные моменты место. Подчас какую-то запятую уступаю я, но все же иногда какую-то другую уступает и он. Несмотря на ту подлинную и весомую ставку, каковую являет собой запятая, пусть будет ясно: в такие дни мы искренне забавляемся.
С тех пор как я печатаюсь и, следовательно, вынужден встречаться с людьми из соответствующего круга, не со слишком многими, но все-таки, я узнаю, что о Жероме Лендоне ходят слухи, будто он скуп. Хорошо, пусть так, но все же за двадцать два года, я же не глупее других, по-моему, я бы это заметил. Верно, он никогда не выплачивает аванса, когда ему передают рукопись, с улыбкой заявляя, что охотно бы это сделал, но воздерживается из чистого суеверия, как бы не навлечь на книгу неприятности и т. п. Но мне и самому не чужда его позиция: получить аванс означает некоторым образом залезть в долг, и для меня все сразу встает на места, так как я как огня боюсь одалживаться. К тому же всякий раз, когда, оказавшись на мели, я взываю о помощи, он идет мне навстречу. Итак, никаких следов скупости. Ах нет, пожалуй, одна мелочь: электричество. Во время рекламных рассылок, когда приходится часами подписывать книги в довольно-таки темном кабинете по соседству с его собственным, мне случается – и не подумав выключить лампу – минут на пять отлучиться, когда же я возвращаюсь, он уже тут побывал, ибо лампа выключена.
И, чтобы покончить с этой темой, еще одно. Когда в 1990 году Жану Руо присуждают Гонкуровскую премию, несколько таких как я, авторов издательства, получают от Жерома Лендона письмо, в котором тот сообщает, что без нашего участия этот успех был бы в его глазах неполным. К письму прилагается чек, сумму которого я не помню, но то, что она была немалой, не забылось. Девятью годами позже, когда в свою очередь получу эту премию и я, он поступит так же с другими. С тем же изяществом он иногда вмешивается в пункты договора. Несколько раз, в конце телефонного разговора: Ах да, чуть не забыл. Что касается платы за ваши авторские права, я, знаете ли, позволил себе ее повысить.
Мы так и не станем никогда с Жеромом Лендоном по-настоящему близкими друзьями – но все же достаточно близкими, чтобы устроить мне разнос, когда он находит, что я плохо одет. Однажды, когда я заявляюсь в издательство в джинсах с дырами на коленях, это ему вовсе не нравится, что он в резких выражениях и доводит до моего сведения. В другие разы, когда я одет лучше, он меня поздравляет: Сегодня вы во всем синем, очень хорошо. Или: Знаете, у вас весьма симпатичный свитер, где вы его добыли? – а я не упускаю случая отметить выбранный им галстук (не забудем, что он довольно-таки кокетлив), мы смеемся, и я в самом деле верю, что мы симпатичны друг другу. Несколько лет тому назад я понял, что у этого человека две улыбки: жутковатая улыбочка, которая появляется в определенных обстоятельствах – наподобие тех, что я уже описал; и широкая, исполненная тепла улыбка, когда ему нравится какая-то книга, когда эта книга хорошо продается, когда он рад вас видеть и вообще, когда с ним, а главное – с его близкими, происходит что-то хорошее.
Однажды, за обсуждением перспектив издательства «Минюи», он говорит мне: Не знаю, увидите, как все сложится, позднее, с Ирен, после моей смерти. Так как от этого высказывания меня коробит, так как я смотрю на него с упреком, так как он видит, что я дуюсь на него за то, что он это сказал, он говорит: А вы что, никогда не думаете о своей смерти? Я о своей думаю каждый день. Я, конечно, тоже, говорю я. Это так, но у меня к этому не лежит душа. Если я и способен спокойно поразмыслить о своей смерти, то мысль о его смерти для меня невыносима.
И еще один день, я, вероятно в процессе рекламной рассылки или чего-то еще, в кабинете отсутствующей в этот день Ирен, на последнем этаже, и он зовет меня снизу. Кричит: Эшноз! Ну а я не люблю, когда меня так зовут, это напоминает лицей, а в лицее мне не нравилось. Я спускаюсь по лестнице в довольно дурном настроении и, не знаю уж, что на меня нашло, говорю ему: Зовите меня Жан. Он со своей жутковатой улыбочкой иронически меня рассматривает, не отвечает. В последующие годы он не зовет меня ни по имени, ни по фамилии, а потом, так как мы время от времени друг другу пишем, в один прекрасный день его письмо начинается так: Дорогой Жан. С этого дня я позволяю себе звать его Жером. До тех пор я звал так только своего сына.
Потом, в один прекрасный день я получаю «Гонкура». В жизни с вами может случиться и не такое; очевидно, в этом нет ничего плохого, ни для вас, ни для вашего издателя. Поскольку в этом году премия присуждена в не совсем обычных обстоятельствах, до запланированной даты, Жером Лендон и я приглашены на обед с Гонкуровской академией, чего обычно не делают. Обед невероятно обилен, и со своего места я вижу Жерома, который, как всегда предельно сдержанный, с энтузиазмом ест и пьет буквально все, так что даже моя соседка справа наклоняется ко мне: Ваш издатель ест все подряд, шепчет она, это и в самом деле очень хороший издатель. До сих пор не понимаю, крылся ли за этим замечанием невольный юмор или нет. По окончании обеда мы собираемся вернуться в издательство, и Жером говорит: Что делаем? Садимся в метро? И я отвечаю: Давайте, если вы не против, лучше пройдемся. Весьма рискованно с моей стороны: я, конечно, знаю, что его хлебом не корми, дай прогуляться, но знаю к тому же, что ходит он чрезвычайно быстро, раза в два быстрее меня, и что, хоть путь от площади Гайон до улицы Бернар-Палисси не так и долог, мне придется изрядно попотеть. Но я справляюсь и достаточно уверенно выдерживаю его ритм до самого конца.
Когда мы вместе что-то обсуждаем, говорит, как я уже не раз повторял, в основном он. Часто на тесной лестнице высокого и узкого, как и он сам, здания издательства «Минюи», по которой он беспрестанно взбирается и сбегает, перескакивая через ступеньки, иногда у него в кабинете, иногда, когда я захожу повидать Ирен, а он на полной скорости врывается к ней в кабинет, чтобы уладить ту или иную проблему. Бывает, что он не задерживается, его ждут другие дела, но часто кажется, что он рад меня видеть, это уже не его жутковатая улыбочка определенных обстоятельств, а широкая, щедрая и сердечная улыбка, он садится куда попало, привалясь обычно своим длинным торсом к какому-нибудь шкафчику, закинув ногу на ногу, наклонившись, сложив руки на груди, и пускается в рассуждения по злободневным вопросам, таким как книжный магазин или единые цены, ксерокопии или предоплата, но часто бывает и так, что он говорит о литературе или о чем-то еще, о кино например. Однажды, когда речь заходит о Бене Газзара, киноактере, которого мы оба любим, я замечаю, что в Библии несколько раз упоминается город под названием Газер. Но он кратким жестом отметает мое замечание, ничуть, кажется, не удивившись лоску моей эрудиции: А, непринужденно отпускает он, как ни крути, в Библии есть все.
Жером Лендон заболевает в конце двухтысячного года. Он плохо себя чувствует, но поначалу никто особо не волнуется, все ждут, что он поправится, он, конечно же, вот-вот поправится, у него и раньше бывали небольшие проблемы со здоровьем, от которых он отличнейшим образом избавлялся. Все ждут, что он поправится, но он не поправляется. Проходит два, три месяца, и я начинаю терять терпение и в начале января пишу ему. В письме я сообщаю, что мне его отсутствие изрядно надоело и что, если это может его развлечь, я был бы счастлив, не дожидаясь, пока он вернется, его проведать. Он звонит на следующий день, как всегда поступает с рукописями. Немного говорим о его здоровье, он довольно оптимистичен, но мне слышно, как ослаб его голос. Рассказываю ему, что затеял у себя дома большую перестройку, на что он: Смелый человек. Ну так как, говорю я, можно вас навестить? Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем свидание с вами, отвечает он (полагаю, что здесь он слегка преувеличивает), но не хочу, чтобы вы отдувались за мой дефицит общения. Вы в этом уверены? говорю я. Да-да, говорит он, сами увидите, когда мне станет лучше. Хорошо, тогда лечитесь, говорю я ему, и до скорого, да? Да, говорит он. Я слышу его голос в последний раз.
Все заканчивается пасмурным утром на улице Трувиль в четверг 12 апреля 2001 года. Я помогаю Флоранс делать уроки, когда у меня в кармане звонит телефон. Это Ирен, она сообщает, что Жером умер в понедельник и сегодня утром погребен. Мне не хочется говорить о следующих часах. А потом, далеко за полдень, я побреду в одиночку по проселочной нормандской дороге. Я шагаю долго, куда дольше, чем обычно способен, но и куда медленнее, чем Жером, в мелочах вспоминая о том, о чем только что попытался рассказать, и о многом другом. Я шагаю до тех пор, пока, добравшись до указателя, гласящего, что эта местность называется Лев, не обнаруживаю, что слишком устал. И решаю повернуть назад.
28 июня 2001
Кристиан Гайи
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
До-мажорную гамму ждет еще немало прекрасных мелодий.
Арнольд Шенберг
«…и вскоре оказывается, что больше уже никогда ничего не сделать».
Сэмюэль Беккет
1
В зале только что погас свет. Сцена освещена. Можно начинать. Со стороны сада входят музыканты. Их четверо. Трое молодых людей и девушка. Две скрипки, альт и виолончель. Под аплодисменты все четверо слегка кланяются. Затем рассаживаются. Каждому свое место. По дуге. Слева направо: первая скрипка, вторая скрипка, альт, виолончель. Смокинг первой цвета слоновой кости. Двое других молодых людей облачены в черное. Девушка в длинном и свободном зеленом платье. Первая скрипка и виолончель – брат и сестра. Квартет носит их имя.
К программе концерта. Квартет «Александер» решил включить в нее три произведения. Опус 20, № 6 Йозефа Гайдна. Далее, премьера нового сочинения. Третий струнный квартет (оп. 12) французского композитора Поля Седр а . И в заключение, после антракта, четырнадцатый бетховенский, опус 131.
Поль сейчас в зале. Внизу. В партере. В середине восьмого ряда. Его никто не знает. Он ничем не выделяется. Никому нет до него дела. У него в груди колотится сердце. Обстановка не совсем обычна. Стоит лето. Жара. На дворе август. Точнее, 18 августа. Публика, в целом довольно молодая, возбуждена. Огромный зал переполнен. Уйма народу. Для Поля это внове. Ни одному из его сочинений не выпадало еще бросить вызов широкой публике летних фестивалей. Цюрих, 1987 год.
Тишина не спешит. Расползается по залу. Опускается на головы. Настигает самых рассеянных. И вот уже каждый чувствует себя за нее в ответе. С рвением их, музыкантов, ею окружает. Кто-то кашляет в последний раз, и все. Можно начинать.
Пальцы прижимают струны к грифу. Замерли наготове первые ноты. Только-то смычков и дождаться. А вот и они. Подняты в путь. Начинается. Началось. Займет, в общей сложности, минут пятнадцать.
И пройдет за милую душу. С Гайдном все всегда в полном ажуре. Все его любят. Он любил всех. В этом, ля-мажорном, квартете четыре части. Итак, № 6 из двадцатого опуса. Аллегро ди мольто э скерцандо. Адажио, кантабиле. Менуэтто, аллегретто. Фуга а тре соджетти, аллегро.
Полю этот квартет был хорошо знаком. У него дома имелось его превосходное исполнение. Давно, правда, не слушанное. И никогда на концерте. И вот снова та же строгость, элегантность. Пресловутое классическое совершенство. Он впитывал все это в сильнейшем напряжении. До самой финальной фуги. Одной из самых прекрасных у Гайдна.
Ну, вот и все. Аплодисменты, которые называют бурными. Волна браво. Множество сверкающих глаз. Немало улыбающихся лиц. Александеровцы кланяются, склоняются в поклоне. Юная виолончелистка с обнаженными плечами прикрывает левой рукой глубокий вырез своего зеленого платья. Вместе с черными и слоновой кости партнерами снова кланяется, склоняется, выпрямляется. Затем все четверо уходят со сцены.
Поль донельзя взволнован. Собственная музыка никогда не доставляла ему подобного волнения. Сейчас будет его очередь. И вдруг накатывает страх. Он задумывается, чего, собственно, ждать. Как публика все это воспримет. Как после музыки Гайдна она отзовется на музыку Поля Седра – живого, присутствующего, дышащего вместе с ней в этом зале?
Со времен Гайдна прошло два века. Музыкальная теория разлетелась в клочья. Мир тоже. Как меня воспримут? Какой окажут прием? Что меня ждет? Ждать ответа уже недолго.
Всего несколько минут. Короткая пауза, не антракт. Свет в зале не зажигали. Сцена по-прежнему сверкает. Музыканты вышли освежиться. Вот-вот вернутся, тут-то и увидим.
Увидели. Вернее, услышали, но и увидели тоже. Зал от музыки Поля как с цепи сорвался. Не так грубо, как удар грома. Скорее, как неспешная, медлящая разразиться гроза, перед которой разносятся порывы ветра и пронзительные крики кружащих в небе черных птиц. Так и должно было случиться. Что же произошло?
Ничего особенного. И все же что-то достаточно необычное. По природе своей завсегдатаи филармонических концертов вежливы, воспитанны, терпеливы, заинтересованны, падки на новизну. Но не эти. В массе своей молодежь. Да еще на каникулах. В жару. Пришли небрежно одетыми. С друзьями. Подумывая, что хорошо будет потом, глядя, как опускается ночь, поужинать. За столиком под открытым небом. На берегу озера.
Все это так, но это не все. Все это только помогает протестовать, когда вам что-то не нравится. А это им и в самом деле не понравилось. Почему? Слишком медленно, слишком долго, тоскливо, чтобы не сказать заунывно, и монотонно до одержимости.
Такого они не ждали. Ждали чего-то другого. Надеялись на музыку, которая помогла бы перейти от Гайдна к Бетховену. А это возможно? Как такого достигнуть? В этом вся проблема. Сделаем вывод об ошибочности программы концерта и перейдем к разъяснениям.
Квартет Поля состоял из шести частей. Все очень медленные. Наподобие адажио. Элегия. Серенада. Интермеццо. Ноктюрн. Похоронный марш. Эпилог. Они выдержали только половину. Не хватало разнообразия. Надо сказать. Главный минус в отсутствии контрастов. Пресловутых контрастов. Неторопливость – оживленность. Грусть – веселье.
После элегии, первой медленной части, которая длилась, между прочим, двенадцать минут, а это немало, они ждали чего-то живенького, что соответствовало бы классической чресполосице: медленно-быстро-медленно-быстро. Ан нет. Им предоставили право на еще одну медленную часть. Ну что ж. Потерпим.
После второй медленной части, серенады, каждый предвкушал: ну теперь-то уж точно будет что-то быстрое. Отнюдь. Началось интермеццо. Не такое длинное, но все такое же медленное и грустное. Его краткость приветствовалась, каждый предполагал, что она служит прелюдией к скорому оживлению. Следующий эпизод обязан был оказаться быстрым и веселым. Увы.
Все пошло наперекосяк, когда Александеры со товарищи приступили к ноктюрну. Четвертая кряду медленная часть. Банальны проявления толпы. Послышался голос: Хватит, произнес он, достаточно. Хватит медленного. Хватит безобразного. Хватит печали. Даешь веселье. Жизнь.
В поддержку раздался еще один голос. Другой попытался утихомирить двух первых. Все новые и новые, многочисленные, перекрывающие друг друга, и поддерживающие, и утихомиривающие. И, как зараза, как цепная реакция, галдеж охватил весь зал. И это еще не все.
Спустя какое-то время. Они, наверное, исчерпали весь запас криков, свистков. Оскорблений и прочей брани. Принялись хлопать в ладоши и топать ногами, скандируя имя Бетховена. Его требуя: Бет-хо-вен! Бет-хо-вен! Какая жалость.
Как бы там ни было. Стоял такой гвалт. Музыкантов больше не было слышно. А ведь они продолжали играть. Сопротивлялись. Не хотели сдаваться. Сопротивлялись долгие минуты. Не поддавались. Не прекращали.
Потом поддались, перестали играть и в конце концов ушли со сцены. На глазах у Поля, автора сей драмы, Поля Седра, каковой, напоминаю вам, находился там, в зале.
Пытаюсь представить, что ему довелось пережить. Он, наверное, был уничтожен, ну конечно, но прежде всего он беспокоился за детей. Я говорю о четырех молодых людях. Он звал их детьми. Которые наверняка пережили такое впервые в жизни.
Не пройдя через подобный опыт, невозможно понять, что значит выдержать все это. Быть освистанным публикой. Изгнанным со сцены. Особенно больно Полю было за них. Он хотел быть с ними. Встал с кресла. В середине восьмого ряда. Извиняясь, стал пробираться направо. Беспокоя людей. Его пропускали, не прекращая скандировать имя Бетховена.
Не без труда отыскал путь за кулисы. Из зала туда было не попасть. По крайней мере, не прибегая к акробатике. Вспрыгнуть на сцену. С риском, что за тобой последует банда скотов. Беря под контроль помост. Затевая затем дискуссию. Современная музыка, за или против. Ну уж нет. В любом случае слабость, в которой он пребывал, не позволила бы ему это сделать. Состояние Поля.
То, что я называю его состоянием. Его болезнь. Едва не помешала ему присутствовать на репетициях. Но потом все же обошлось. Он сумел выбраться в Цюрих. Приехал, чтобы поработать с малышами. Так он их тоже называл. Неделя на разбор партитуры, чтение с листа. Доработка звукоизвлечения, динамики. Разнообразные правки. Некоторые пассажи было просто не сыграть. Так что Поль еще раз извлек пользу из этой квазимузыкальной пары: напряжение – ослабление. Или иначе: приступ – ремиссия.
За кулисами обнаружил детей. В комнате с зеркалами и подсветкой, где предполагалось приводить лица в порядок. Столкнулся и со своим. Все глубже западающая кожа хотела, казалось, спрятаться за костями. Обстановка тонула в печали.
В черном, вторая скрипка и альт восседали в углу, перекидываясь редким словом. Артур Александер и его сестра Альма, стоя лицом к зеркалу, смотрели, как плачут, прижавшись друг к другу, и, полагаю, черпали утешение в собственном отражении. О, что за зрелище: прекрасное лицо в слезах. Особенно Альмы. Глаза Артура были просто увлажнены. Он держал сестру за плечи. Рукав слоновой кости, пересекая зеленую тафту бретелек платья, порождал очень красивый контраст. Или соответствие. Или сочетание цветов.
Обессиленный Поль подавил собственную печаль и заговорил. Сделал усилие заговорить, тогда как у него было всего одно желание. Их обнять. Я в отчаянии, сказал он. Если бы вы только знали. В таком отчаянии. Так больно за вас. Я должен был предвидеть. Догадаться, что это может стать для вас катастрофой.
Артур отстранился от сестры. Нам тоже, сказал он. Нам так больно за вас. Ваш квартет великолепен. Чистый шедевр. Для нас большая честь и гордость, что нам доверили его премьеру. А теперь нам пора уходить. Складывать чемоданы. Собираться на самолет.
Нет, сказал Поль. Только не это. Возвращайтесь на сцену и сыграйте, как и предусмотрено, четырнадцатый Бетховена. Он добавил такую наивную фразу. Ту, что наворачивается на перо, когда смерть уже все утрясла. Или вот-вот это сделает. Или просто-напросто когда всплывает воспоминание о любимом человеке. То, что могло бы быть его желанием: Ему, Бетховену, доставило бы удовольствие, сказал он, если бы вы сыграли его четырнадцатый. Нет, сказал Артур. Не может быть и речи.
Вмешался альтист, которого звали Эрнстом. Вот что он сказал: Но ведь можно со всей должной яростью сыграть Большую фугу. Чтобы до этой банды кретинов дошло, что и Бетховен бывал подчас невыносимо современным.
Красивая формула, подумал Поль, но нет. Нет, сказал он, четырнадцатый. Альма, вновь взяв Артура за руку: Хорошо, сказала она, мы его сыграем. Да, сказал Поль, и воспользуетесь при этом тем, что только что произошло. Никакая боль не пропадает. Вы используете силу своей эмоции, своей печали, своей ярости, своего отчаяния. Всю эту силу. И версия, которую вы им предложете, уверен, будет великолепной и ужасной. Надеюсь, вы заставите их содрогнуться.
В зале свет. Идет антракт. У вас двадцать минут, чтобы собраться. Удачи, друзья, сказал он, стараясь не называть их детьми или малышами. Меня в зале не будет. Мне нужно на воздух.
И вот он на воздухе. Воздух не против. Будто здесь как раз для него. Теплый, им приятно дышать. Для меня одного. Никому никогда не приходит в голову, что другие дышат тем же самым воздухом. И поскольку небо сегодня вечером на загляденье, нужно к тому же, чтобы кто-нибудь рядом с вами, совсем рядом, вместе с вами его разглядывал, если только это не ваше личное, сугубо для вас небо.
Никто не разглядывал вместе с Полем иссиня-голубые камеи, бирюзовые гаммы солнца, совершавшего здесь каждый вечер омовение в черных водах озера. Он остановился, чтобы лучше видеть всю эту красоту, чтобы вдохнуть ее в себя.
Обессиленному Полю не следовало замирать в неподвижности, витать, подняв глаза, в облаках. Небо зашаталось. Он опустил глаза, спланировал с облаков, глубоко вздохнул и подумал: Больше не могу. У меня не осталось сил. Возвращаюсь в отель. Надо немного поспать. А потом позвоню Люси.








