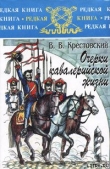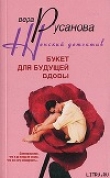Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 36 страниц)
Однако статский генерал давно закончил свои дни в Галиции, где явный перебор картавых, пейсатых и носатых; я даже укажу при случае и местность, и имение, чтоб прихвастнуть осведомленностью. Но Бурцеву она без нужды, ему важна осведомленность собеседника. И Лопухин советует искать «вокруг да около» Рачковского. Он морщит лоб, он спрашивает Бурцева, известен ли В.Л. агент, имевший кличку г-н Дантес?
* * *
Убежище-берлога Бурцева в Париже, портреты на стенах. Фотографы тогда еще не научились льстить, как живописцы встарь, и потому поличья отнюдь не ангелоподобны. Правофланговым – здесь Азеф. К нему пристроилися те, кого В.Л. именовал своими крестниками: агенты-провокаторы. Для завершения пейзажа – фотки заграничной агентуры Департамента полиции, что на Фонтанке, в недальней стороне от чижиков и пыжиков, которые беспечно пили водку.
Был в этой агентуре и Генри Бинт.
Не из провизоров, о нет. И не фонарь, аптека. Он поначалу мне казался персонажем пьесы Метерлинка, известной поколеньям мальчиков и девочек. Ловлю я на губах улыбку – я улыбаюсь одному из них. На представленьях «Синей птицы» он бывал не раз. Но он любил отнюдь не всех пернатых. И вот разительный пример. «Песнь о Буревестнике» читала ему бабушка. Он сказал, немножечко картавя, зябко поведя плечом: «Не нгавится мне эта птичка».
Какое совпаденье! Не нравилась она и Генри Бинту. Тому, кто уважает собственность, закон и власть, любые буревестники без нужды. Я чувства Бинта разделяю хотя бы потому, что в городочке Сульц ему принадлежит уютный двухэтажный дом с покатой черепичной крышей.
Тот дом гляделся окнами на крохотную площадь. Мамаша, поблекнув в домоводстве, следила умиленно за маршировкой школяров. Ее сыночек Генри, дождавшись очереди, был генералом, чье имя украшало каменную стелу. Она была обнесена чугунной цепью, веригами посмертной славы его превосходительства.
Он с нашими сражался под стенами Севастополя. И потому мои приятели в столь резко-памятном дворе Садово-Спасской на этой площади не стали бы маршировать. Да и вообще в заводе не было у нас какой-то регулярной маршировки. Игра шла в казаки-разбойники. Эльзасцы нас понять бы не могли. С годин Наполеона казак для них был и разбойник. Что взять нам с этих обывателей? Четыре тыщи с хвостиком бытуют в Сульце. Изготовляют шелковые украшения, плодят себе подобных шелкопрядов. А горожанки млеют: каков красавец г-н барон. Стрелялся, ранен был, теперь он в Сульце мэром. Ах, боже мой, он очень интересен.
По мне барон Дантес неинтересен. Военный суд приговорил кавалергарда к лишенью живота. Царь живот ему оставил. И повелел оставить русские пределы. Жандармский офицер подал кибитку к дому на проспекте Невском. В кибитке, рядом с мужем, поместилась и его жена, свояченица Пушкина. И потащились, потащились. Весна, распутица, дороги русские, капель, туман, колдобины. Ох, тряска, тряска. Брюхатая жена Дантеса едва не выкинула.
То было раннею весной Тридцать седьмого. Ну, Жоржик, г-н Дантес, ты вовремя убрался. Не потому, что ты в европах попал в избранники народа, ты в ассамблеях заседал, примкнул к Луи Наполеону и угодил в сенаторы. Судьбой ты был доволен. Улыбался: я государю служил бы ревностно, но был бы полковым в глуши; семья большая, состоянье маленькое. Но главный фарт, боюсь, барон не сознавал – он ускользнул от карлика Ежова.
Сталинский нарком сказал советским людям, что органы, чекисты изобличили бы Дантеса, спросили б, кто его родители, и только бы видели международного агента, служившего царизму. Нет, органы бы защитили Пушкина, служившего рабочим и крестьянам.
Шло юбилейное собрание в Большом театре. Товарищ Сталин находился в царской ложе. В малинно-золотистых всплесках залы, в хрустальных преломлениях лучей огромных люстр легонько зыбилось все поголовье читателей великого поэта и почитателей великого вождя.
После заседанья он вернулся в Кремль, задал товарищам пирушку. В бокале красного вина пылала электрическая искра. С укором глядя на Ежова, сказал наш вождь задумчиво и грустно: живи товарищ Пушкин в нашем веке, он все же умер бы в Тридцать седьмом.
Вы слышали, о други, завершенность сюжета философии истории. Но я осмелюсь продолжать и свой сюжет: барон Дантес и Генри Бинт, сын муниципального чиновника.
* * *
Он вырос, побывал уж на войне с пруссаками. Не выказал себя отчаянной головушкой. Но и в обозе места не искал. Теперь искал он место службы. Участие в нем принял г-н Дантес. Вы спросите: как так? Отвечу.
Пусть и недолго, но барон был мэром Сульца, там и дворовым псам наградою за послушание повязывали шелковые ленты. Бинт-старший образцово в мэрии служил. И он отнесся к г-ну мэру с просьбой порадеть родному сыну. Г-н Дантес имел отзывчивое сердце. Он в ход пустил и связи, и знакомства.
Сдается, сталинский нарком, хоть недомерок, недоумок, в какой-то мере прав. Дантес – агент международный. Сказать по-нынешнему, внешняя разведка. Государь встречался с ним в Берлине и говорил, позвольте вас заверить, не о Наталье Гончаровой и не о Пушкине. Разговор был политический, наш государь Дантесу доверял.
В посольстве – улица Гренелль, Париж – он был своим. Такими связями располагали не очень многие. В Эльзасе с Лотарингией – никто. И г-н Дантес, не напрягаясь, поставил Бинта на линию разведки. Конечно, внешней.
О-о, Бинт подвизался в тайном сыске лет сорок. И даже после Октября. Я, право, наградил бы Генри Бинта значком почетного чекиста.
Он приезжал, случалось, в пределы нашего отечества. Являл, где надо, пасс французско-подданного. И там, то есть, где надо, там читали: «На основании распоряжения Директора Департамента Полиции предъявителю сего оказать полное по его требованию содействие». Бывал он в Петербурге, бывал он и в Москве. Вдове порфироносной находил уместным ткнуть картонку-карточку: «Предъявитель сего г. Бинт состоит на службе при Обер-полицмейстере», то бишь при свитском генерал-майоре, но подпись, извините, я не разобрал. Французско-подданный живал и в «Англетере», и в «Метрополе», в третьем этаже он занимал один и тот же номер окнами на площадь, где ныне Маркс ударил кулаком по камню, как по наковальне.
Сигал мсье Бинт и в Яссы, и в Одессу. Бывал мсье Бинт и на Босфоре, я его не спрашивал о нем. Но Писсаро, изобразив ночной бульвар Монмартр, напомнил мне полуночный Босфор – и влажный блеск, и эти вот огни, огни, бегущие все выше, выше.
Вообще же Генри Бинт работал год за годом в городе Париже. Он был здесь правою рукой П.И. Рачковского, искуснейшего шефа российской заграничной агентуры. Да, правою рукой. А что до ног… Они как будто бы познали Тур де Франс: чрезвычайно крепкие лодыжки, а икры твердые, как камень, по которому ударил Маркс. Обуты были эти ноги в штиблеты, выбранные архитщательно. Короче, не просто ноги, нет, спецноги топтуна, филера, агентухи. По-русски говоря, конечности «подметки» из наружки, то есть участника наружных наблюдений.
Носили эти ноги Бинта, как говорится, по всему Парижу.
И здесь, и там известен он гарсонам. Есть и такие, кто смекает, какова профессия мсье, то важного, то шустрого, как колобок. Есть и такие, кто получает от него не бог весть что, но все же кое-что, и это не «на чай», а гонорарчик за мелкие услуги сыску.
В кафе большого дома, стиль модерн, что на бульваре Port-Royal, он завсегдатай. И это место изменить нельзя – оно для встреч агентов мсье Рачковского. Наш Генри посещает и террасу кафе «Арктур». В руках роман Леру о тайнах желтой комнаты. Бинт увлечен непостижимостью убийства в спальной, закрытой изнутри. Да, увлечен, но тот субъект, который для него объект, из поля зрения не ускользнет. А вот еще. Он, знаете ли, любит держать проследку в Cafe Vienunois – скрипка и фортепиано, музыка хорошая, в укромных уголках серьезные клиенты, а главное, не пахнет писсуаром, он этого не терпит. Раз это венское кафе – пей кофе. Пустую чашку грациозно унесут. Ты кофе пьешь, а блюдца – в стопочку, и по числу их – счет.
Он по счетам платил как честный малый. Добавки «представительских» просил тогда лишь, когда охранно и незримо обслуживал Романовых как вояжеров. Романовы для Бинта – особая статья. Барон де Геккерен-Дантес давно ему внушил, что быть слугою легитимных государей – честь великая. И этим тронул в молодом эльзасце нечто романтическое. Ну, а теперь…
На рю Дарю есть православный храм. Во храм наведывался Бинт – на панихиду по невинно убиенным. И наблюдал за монархистами. За теми, кто, по мненью Бинта, предал своего монарха. И в этот день – июля, числа семнадцатого – не каялся единолично, а коллективно подпевал священству и проклинал большевиков. А Бинт смотрел на них, смотрел за ними, подмечая, кто в дружестве, кто холоден с таким-то, а этот, видите ль, руки не подал такому-то. Он наблюдал, запоминал, а вместе думал о своем и о себе.
Памятование последнего из государей заканчивали вечной памятью всем верным слугам. Тем, кого убили в Екатеринбурге. Но Малышева, старика, убили не большевики, а голод. При Николае самодержце был он самодержавцем кухни. Да вот бежал и от крестьян, и от рабочих. За то и был наказан страшно. Был главный царский повар умерщвлен отсутствием провизии. Погиб знаток кулинарии. И что ж теперь мы видим, россияне? В поместье на Изумрудном берегу Романовым готовят марокканцы, там пахнет космополитизмом совместно со свининой в апельсинах.
Повар Малышев преставился в каком-то городишке. Наш Бинт хотел бы в Сульце, где дом под черепичной крышей и окнами на крохотную площадь. Но прежде хорошо бы получить всю пенсию сполна. Десять дней, потрясши мир, они и Бинта потрясли – Анри утратил ценные бумаги. Но все ж надежду не утратил. Прошенье подал в жалобных тонах в советское полпредство на рю Гренелль.
Конечно, в отличие от повара при бывшем государе, агент наружки кое-что имел. Ну, скажем, продовольственную карточку. (Я раньше думал, что карточки есть достижение Совдепии.) Имел и частное бюро для сыска. И все же мне понятно супруги горе. Она звалась Луизой. И смахивала на еврейку. А посему какой-то обскурант-историк намекает, что Бинт, того-с, прескверного происхождения.
* * *
Помилуйте, я протестую! Позвольте вас заверить, убийца Пушкина не стал бы протежировать жиду; не подложил бы он христопродавца ни внешней, ни внутренней разведке… А я готов представить высокому суду и фотографию шестнадцатого года. Паспортную. Круглоголовый, кругломорденький, коротконосый. И весь седой – и бобрик, и усы. Ну, ничегошеньки семитского. Вот разве нос. Тупой, недолгий, как у Карла Маркса. Форма носа – фактор. Однако иногда обманчивый. Как раз тот случай.
Но паспорт устарел. И фотография поблекла. Бинт тоже. Тогда – за шестьдесят; теперь – за семьдесят. Округлое лицо опало. Он шаркает, и у него одышка. Идет мсье Бинт, идет на рю Люнен.
Он получил письмо от Бурцева. Знакомству не меньше двух десятилетий. Не-ет, много, много больше. Ему на Бурцева указывал Рачковский. А Бурцеву на Бинта указал Сушков. Теперь секрет полишинеля. Боренька Сушков, чиновник заграничной агентуры, по совместительству осведомитель Бурцева. Нет, не идейный – платный. Ха, Сушкова и к награде представляли. А честный Бинт лишен заслуженного пенсиона. От Бурцева ты помощи не жди. Владимир Львович на рю Гренелль ни разу не бывал – ни у царистов, ни у марксистов. Какого ж черта дряхлый Бинт идет-бредет на рю Люнен? Да, он нынче получил открытку с приглашеньем. Да, Владимир Львович приобрел у Бинта связку старых бумажонок… Что из того? Ужасно жарко. На дворе июль. До панихиды две недели. Пойдет ли Генри Бинт во храм на рю Дарю? Нет, больше не пойдет. Он, словно повар Малышев, служил на совесть, а брошен-то бессовестно. Нет, не пойдет, там делать нечего. Да и на рю Люнен что делать? Вспоминать былое? А что, ведь можно же продать воспоминанья… Июль, жара, и пахнет писсуаром… А старичок имеет вдохновенные прожекты. Он тоже, знаете ль, напишет мемуары. А что? Не боги, знаете ль, горшки-то обжигают. И на известных (ему как автору известных) условиях предложит Бурцеву. А тот пускай возобновит издания журнала, который освещал еще недавно историю освободительного движения. Какое ж может быть движение, коль нет Рачковского и Бинта? И старичок, как вам я сообщал, отправился на рю Люнен.
Э, надо знать, что Бурцев не имел возможности возобновить «Былое». На то он, к сожаленью, не имел свободных денег. Имел он «несвободные» – для объективнейшей оценки «Протоколов сионских мудрецов». Нам кое-кто змеиным шипом подпускает: услуги Бурцева оплачены евреями. Понятно? Уж раз евреи заплатили, то, значит, оплатили очередную гадость. Однако Бурцев в этом вот «услуги» сарказма не улавливал. Почему бы и нет? Ну-с, хорошо. Алексей Александрович – в виду имелся Лопухин, – он, назвав Азефа, гневался: я не оказывал услугу крайним партиям, а подчинялся веленью совести. А он, Владимир Львович Бурцев, чему же подчинялся, как не веленьям совести? И потому оказывал услуги. Изобличал и русских провокаторов, и провокаторов евреев. Последних дважды – и как предателей русского освободительного движения, и как предателей – еврейского народа.
Но тонкости совсем не занимали Бинта. Он, радуясь своим прожектам, пришел к В.Л.
В тот день речь о «Былом» не заходила. Зашла речь о былом. И, подчеркнем, как раз в том направлении, которое евреи оплатили. А будущий мемуарист на все вопросы ответил с совершенной откровенностью.
* * *
Бинт: Рачковский? Петр Иванович Рачковский? Это, В.Л., целая эпоха.
Бурцев: Согласен. В определенном смысле – эпоха. Меня сейчас интересуют, как я уже вам говорил, некоторые частности, а именно «Протоколы сионских мудрецов». Что было в этих «Протоколах»?
Бинт: Описание того, как евреи правят миром и совещаются между собою, как это лучше делать.
Бурцев: Было ли это написано с погромной целью?
Бинт: Не знаю.
Бурцев: Ну, вообще, чтобы подстрекнуть русских против евреев?
Бинт: О да!
Бурцев: Это было сделано по приказу Департамента полиции?
Бинт: Нет. Там не знали об этом. Это было индивидуальное предприятие моего начальника. Как и многое другое.
Бурцев: Сам ли Рачковский писал «Протоколы»?
Бинт: Нет, писал их наш Головинский.
Бурцев: «Наш» – это секретный сотрудник?
Бинт: Да.
Бурцев: С какого года был Головинский на службе у Рачковского?
Бинт: Помнится, с девяносто второго, я ему по приказанию шефа платил из рук в руки.
Бурцев: Почему вы думаете, что Головинский писал «Протоколы»?
Бинт: Головинский работал в Национальной библиотеке и приносил черновики Рачковскому. Я знал, о чем пишет Головинский.
Бурцев: Знали ли вы, что в Департаменте полиции ротмистр Комиссаров пишет и печатает погромные листки?
Бинт: Этого я не знал. Но я знаю, что Комиссаров теперь в подчинении у большевиков.
Бурцев: Благодарю. До свидания. Должен заметить, и я имел счастье знавать Головинского.
Бинт: Если не секрет, что вы о нем думаете?
Бурцев: Секрета нет. Литератор со способностями. И совершенно беспринципный.
Агент по кличке г-н Дантес кивнул. Ему уж очень по душе пришлось такое меткое определенье: «беспринципный». Вот, вот! И он, закончив показанья, счел своевременным поговорить о мемуарах. Не в рассужденьи смысла их и назначения, а в рассужденьи гонорарном. О нем покамест думать не приходится, ответил Бурцев, но возможность не исключена. Получалось что-то оченно похожее на положение предпенсионное. Г-н Дантес вздохнул. И вдруг заметил иронию в глазах В.Л.
С улыбкой знатока В.Л. стал говорить о том, что бывшие агенты не чужды хвастовства, персону свою ставят в центре, выказывают зря свою осведомленность в том, о чем по чину знать им не дано.
Бинт приобиделся, но в меру, то есть не перечил. И хорошо. А то бы угодил впросак.
Закончил Бурцев ссылкой на Хлестакова Ивана Александрыча, писавшего воспоминания о Пушкине, они же были на дружеской ноге.
Агент по кличке г-н Дантес о г-не Хлестакове и не слыхивал. Как, впрочем, и о г-не Пушкине. Однако сделал вид, что это для него не новость. И, уходя, заверил, что честен по природе, жаль, нет Рачковского, он это бы удостоверил.
Ну, переплет, не правда ль?
Ни один читатель мой, а вкупе нечитатель, воспоминаний Хлестакова знать не знают. И пушкинисты тоже. И даже Радзишевский В. из «Литгазеты». А я глаза таращил на лист почтовый – рукою Бурцева: издал В.Л. воспоминанья Хлестакова в одном-единственном; теперь просил поправки у Онегина*: издам опять как раритет… Помилуйте, Владимир Львович, куда все делось? Ищи – свищи… Поскольку мемуары не подлог, они, наверно, буффонада, мне левые евреи на разысканья денег не дадут… А Бурцеву, позвольте повторить, конечно, не в укор, ему – давали. И посему в минуту разговора с мсье Генри Бинтом В.Л. в тени словес о Хлестакове увидел Головинского. Тот словно б на поверхности пруда двоился, зыбился.
Но, черт дери, ужели в Головинском ловил он сходство с Иваном Александрычем? О, роковое недомыслие. И неуменье мыслить крупно.
* * *
Головинский… Головинский… В газетке, случается, прочтешь: я, такой-то писатель, обнаружил, что Головинский, уроженец Уфимской губернии… И пошла писать губерния, от Уфимской далекая, дежурный исторический роман.
Не знаю, как вы, а я опасливо к ним прикасаюсь. Что так? Тургенев, бывало, объяснял: русские беллетристы плохо знают историю; за исключением графа Салиаса, который совсем ее не знает. А салиасов нынче, право, сверх комплекта.
Между прочим, Иван Сергеевич (это я о Тургеневе) никогда не заглядывал к Всеволоду Владимировичу (это я о Крестовском). Не бывал ни на Загородном, ни на Мытнинской. Впрочем, на Мытнинской, пожалуй, и быть-то не мог – там Всеволод Владимирович обосновался уже после кончины Ивана Сергеевича.
Головинский тем и отличался от Тургенева, что частенько навещал Крестовского. Отличался и отважностью. Одно сочинение свое, очень важное, украсил псевдонимом – доктор Фауст. Не посмел бы Иван Сергеевич. Да и Крестовский, думаю, тоже. Или вот евангелие написать, евангелие от Матвея? А Матвей Головинский и на такое решился.
Ах, Мотька, Мотька… Поприще свое распочинал не то чтобы совсем уж уникально, однако все оригинально. Выражаясь современно, сразу занял нишу… Эдакое словосочетание всегда пробуждает мою зрительную память. Опять и опять вижу щербатую, замызганную парадную лестницу в старом петербургском доме, вижу полутемную лестничную площадку с окном почти непроницаемым, нередко венецианским, и нишу, пустую нишу, бывшее прибежище какой-нибудь античной фигуры в натуральную величину… Так вот, Матвеюшка нишу-то свою занял, можно сказать, с первого шага по стезе словесности. Не правда ли, звучно: стезя словесности. И первый же шаг четко обозначил его индивидуальность, рифмуя: Матвеюшка-Иудушка. Цитирую секретную записку:
«24 октября я прибыл из Саратова в Москву. На другой день около семи часов вечера, когда я шел домой от часовни Иверской Божией матери, обратил я внимание на двух мужчин, шедших впереди. Один из них выше среднего роста, блондин, с небольшой круглой бородкой, был в пальто английского покроя и круглой шляпе; в разговоре его замечался английский акцент. Другой был среднего роста, темно-русый, с небольшими усами, походил на приказчика, на голове имел шапку с козырьком. Оба они средних лет. Говорили довольно громко и в разговоре часто употребляли слово „царь“.
Всего разговора их я не слышал, так как не все время был от них в одинаковом расстоянии. Слышал же хорошо их слова: „действие“, „будем действовать“, „выступим между пятнадцатым-двадцатым декабря, если же нет, то от первого до пятого“. Кроме того долетали фразы, из которых я заключил, что они ожидали какого-то известия и желают что-то предпринять.
В то время, когда они это говорили, я находился от них на расстоянии 2–3 сажен. Затем потерял их из виду и вскоре после этого уехал в С.-Петербург.
Несколько дней спустя я шел по Невскому проспекту, по направлению к Пушкинской улице, в первом часу пополуночи. У Аничкова дворца опять встретил я тех же незнакомцев, которые разговаривали между собою. Говорили они довольно громко, так что я слышал, как блондин, обращаясь к своему товарищу, сказал, что получил известие……. (одно слово неразб. – Д.Ю.), и что „теперь не снести ему головы“.
После этого я слышал из их разговора опять такие же фразы, что и при первой встрече с ними в Москве и, кроме того, слова „первого-пятого числа“, причем блондин назвал эти числа „историческими“. Затем они сели на извозчика и поехали в сторону Николаевского вокзала.
Совокупность всего сказанного упомянутыми людьми при двух встречах с ними (в Москве и С.-Петербурге) и вышеизложенного привела меня к убеждению, что эти лица замышляют покушение на жизнь Священной Особы Государя Императора».
И справка Департамента полиции:
«Сын коллежского регистратора, дворянин, Матвей Васильевич Головинский, 23 лет, по окончании курса в Казанской классической гимназии поступил в Казанский университет. При переходе на 3 курс юридического факультета уволился из Университета и затем выдержал окончательный экзамен при Московском университете со степенью кандидата прав. В настоящее время проживает в С.-Петербурге по Пушкинской улице в доме № 2».
Таков дебют. Хорош? Крохобор поморщится: есть, дескать, «нестыковка». Какая? А Головинский ваш шел позади двух незнакомцев, и дело было чуть ли не впотьмах, так нет, описывает внешность… Отвечаю: так это же предположительна-а-а… И объясняю. Был Головинский на траверзе гордумы. Там нынче жухнет, отходя в забвенье, музей тов. Ленина, но вопреки тому торгуют там газетой «Завтра». Брошюрками торгуют и «Протоколами сионских мудрецов». Толкутся и большевики, эсэсовские побратимы. Я ненароком очутился в этом месте поздним вечером. И пробирался, упрятывая голову под мышку. Однако страну я чуял. Немолодая тетка о чем-то горячо и быстро говорила дядьке ну совершенно неочевиднейшего вида. Он пригорюнился: «А все явреи!» И вдруг она, престранно дернувшись, поперла грудью: «Ка-акие там евреи?! Ка-акие, а? Сам знаешь, там евреев нет. А?!» Он пятился, чуть приседая, раскидывая руки, и повторял: «Дак я ж предположительна-а-а…».
Принюхаться, так эта вот «предположительна-а-а» весьма многозначительна. Она юлит, она юзит меж «да» и «нет». Она и указание, она и осторожность. А главное – свобода выбора.
Что выбирал универсант, имевший званье кандидата права? Юрист и стрекулист, конечно, не всегда тождественны, однако в нашем случае они близки, едва ль не слитны.
Давненько предо мной не возникал директор Департамента полиции. Тот, дней Александровых (при третьем Александре). К нему, бывало, обращалась мадам Бюлье. Искательница приключений прибыльных. Шарлотта, Лотта, она вдруг втюрилась в Козла, как злые эмигранты прозвали молодого Бурцева… Так вот, директор Департамента полиции, тяжелой стати Дурново, который, кстати, волочился несколько угрюмо за женой испанского посла, проставил четко, деловито на заявлении Матвея Головинского: прислать его ко мне в четверг. Пометочка другой рукой нас извещает, что господин хороший Головинский был принят господином Дурново и что министр самолично прочел о незнакомцах, готовых на теракт.
Ох, струсил стрекулист. Вам надо б знать, что никого он не подслушал ни на московской Воскресенской площади, ни здесь, на Невском. Его вела таинственная страсть к мистификации. Да, струсил. Теперь, однако, словно б облегчился. Его приветил Дурново: ты, малый, врешь, но ты на правильном пути.
* * *
На правильном пути лишь тот, кто искренен, кто сам с собою честен. А направление в литературе Крестовскому не столь уж важно. Важны оттенки красок; не то, о чем, а то, как сделано. Он известный беллетрист, и вам, мой современник, он не безвестен, но не по книгам, слишком многословным, а по экрану, давали на ТВ и «Петербургские трущобы».
Жил Всеволод Крестовский на Загородном проспекте. По четвергам он принимал гостей. Немногих. Незнаменитых, молодых. Бывал и Головинский.
Матвей Васильич выгод не высматривал. И не бежал в надежде ужина. Имел Матвей Васильич от матушки-помещицы основу сносного житья. Она свое имела в губернии Симбирской.
Матвей Васильич не стрекозил амурничать. В дому Крестовского не замечалось дочерей. Да и супруги, пожалуй, тоже. Вот так и в Оптиной, бывало, мельком, как галку, заметишь ты пугливую гречанку, жену философа Леонтьева, да и останешься в коротеньком недоуменье: виденье, что ли?
Вопрос: чего же Головинский ждал четвергов, чего от них он дожидался? Тут надо вам сказать, что он уж стрекулистом был в полном смысле слова. Не токмо что проныра, но и писака. Журнальный. Писака мелкий, а это значило тогда – мол, стрекулист, и баста. Кому из них не сладок, не приманчив дымок полубогемного житья? Не мне их осуждать.
Богема в переводе не что иное, как цыганщина. Ее ли не почуешь при виде семиструнной. «Улане, улане» – какая удаль в песне: отец и дед Крестовского служили в эскадронах, и он коней любил. Теперь никто вам не исполнит «Огороды горожу» – стихи Крестовского и музыка Крестовского. А эту вот, сдается, для него создал приятель Мей балладу: «В поле широком железом копыт взрыто зеленое жито». Ячмень или рожь, простор пространства.
Крестовский вполпьяна не пел. Он больше угощал, чем угощался. И, вроде, не для слушателей, вроде б, для себя. А за душой-то было много, и эта задушевность меняла выраженье красивого лица. Бледнел высокий лоб и щеки, а крылья носа, очерченного резко, крупно, заметно напрягались. Вставай, Всеволод, и всем володай.
Русская богема не французская boheme: своеобычливость в наличии. Француз прижимист, русский нараспашку. Крестовский, не считаясь со счетами бакалейщика, держал богатую закуску; особенно в сырах он вкус отменный находил. Французы доки по винной части. А русский, скажем, по не винной. Говаривал невозвращенец Герцен, что водка ближе к цели. Прибавлю специфический писательский штришок. Крестовский водку-то имел не в погребке. Она сидела у него в секрете: на книжной полке, в тылу различных тяжеловесных сочинений. Тогда входила в моду та, что называлась «стара вудка».
Крестовский усмехался: «Мы, русские, уж слишком безалаберны». И в этом «слишком» не взбалмошность сквозила, а самобытность личная. К комфорту безразличие, к священной жертве, к кабинетному порядку. Он мог писать в землянке при свете плошки иль огарка – в землянке офицерской на позициях у Плевны. Бессонницей не мучась, мог писать ночами; так было в пору гостеванья у бухарского эмира. О безалаберности, неурядливости прогонишь мысль, едва взглянув на то, как он, закинув ногу на ногу, выпячивая шелковистую бородку, лист за листом… Нет, не марает – пишет – красивым мелким почерком и без помарок, без помарок. Однако… Каллиграфия, мне кажется, подруга мыслей легкомысленных; так и стрекочут, как стрекозы. А мелкость почерка не есть ли признак мелководья повествованья?
О нем, Крестовском, молодом Крестовском, говорили: заносчив и развязен, фатоват. У Еремеева, в трактире у Аничкова моста, так не говорили ни Аполлон Григорьев, ни Лева Мей. Давно уж поняли друзья: развязностью и фатоватостью он маскирует робость. Покорный общему закону, переменился Всеволод. Не фатоват, а мешковат. Кто много пережил и мало нажил, нос не дерет. Избыв республиканства детскую болезнь, он утвердился в легитимизме, в монархизме. Когда-то говорливый, теперь едва ли не молчун. Однако – в поводке его конек. И сквозь все шорохи, движения обыденщины он слышит: «Кто идет?» – и, клацнув удилами, отвечает: «Жид!». Крестовский, наш Евгений Сю, водил нас долго по трущобам Петербурга. Теперь писал другой роман. Трилогию писал о Тьме Египетской, о казни, ниспосланной на все отечество.
Пусть у поэзии предназначением поэзия. Я не уверен, так ли, да пусть уж так. Но проза… О-о, проза, господа, предупреждает. Островский возвестил: шире дорогу, Любим Торцов идет! Читай: капиталист… Костлявым пальцем погрозил нам Достоевский: осторожно – бесы! Читай: социалисты… Крестовский в колокол ударил: «Жид идет!».
Так изначально он назвал трилогию. Она росла из впечатлений детства на Украине, в уезде Таращанском… Мне в этом слове, казалось бы, ну, ничего не отзовется. Однако, черт дери, у каждого из нас есть впечатленья детства и отрочества. И музыкальные, и визуальные: хор мальчиков и девочек без свечечек и вербочек, ведь революция свершилась, поет старательно: «Хлопцы, кто вы будете, кто вас в бой ведет?» Мы пять раз начинаем, мы пять раз продолжаем, мы в школе на уроке пения учили песни о гражданской. Щорс шел под знаменем, красный командир, а хлопцы были таращанские. Средь них – из Малой Березайки… Вы березовочку-то пригубили хотя б однажды? Ну, водочку, настоянную на почках? Ею потчевал, бывало, своих благоприятелей писатель Всеволод Крестовский… А бабушка, владевшая сей Березайкой, гостя угощала. Но Сева ей не гость, и внуку Севе – сказки Пушкина. Иль вьюжным вечерком, при тенях и свечах, неторопливый, с придыханьем сказ о том, как местные жиды зарезали студента-христьянина, а хлопцы-таращанцы давай-ка всех сподряд жидов громить. Иль вот в местечке Жашкове все ужахнулись: нашли в сугробе задушенной девчушечку Агафью. Шел шорох в кровлях, ходило в дымоходах – жиды… жиды… жиды… Душа дитятей, словно первопуток, чутка. В московских двориках шептались мы испуганно: гляди, татарин словит – мыло сварит. От этих шепотов родился стадионов ор: «Судью на мыло!» – и только. А тут жиды. Они жидов рождают, и нет им перевода. Незваный гость хуже татарина. Хужей татарина – пришельцы. Пришли и не хотят укореняться. Не робят на земле. А так и вьются, и крадутся. Панночка не расплатилась с белошвейкою Рахилью, а та, бесстыжая, у панночки все денег просит. Проклятый Соломон, процентщик, не хочет ждать, ну, месяц, два; в шинке не дремлет Мендель, и оттого народ и нитку от рубахи пропивает. И арендаторы, и коммивояжеры, и винокуры. Нет, нет, доколе длить жидотерпенье?
Внук старосветской бабушки определил: свет над Россией меркнет. Пред этим меркнут все местечковые докуки. Кагальные набрякли веки. На губах кагальных сарказм, презренье к гоям. Евреи повергались ниц пред бедуином. Теперь желают ниц повергнуть христиан. Добро б мечом, тогда бы от меча бы и погибли. Так нет, жезлом, златым жезлом, гроссбухом.
Когда Крестовский описал трущобы Петербурга, Лесков сказал, сопя: роман-то, братец, социалистское направленье имеет. Крестовский изумился: ей-ей, ни сном, ни духом… Теперь писал он «Жид идет!». Какое взято «направленье» в трущобном мире иудеев? Все «направления» обманчивы. Колумб взял направленье в Индию, да и попал в Америку. Крестовский признает один критериум – искренность и честность. Тогда лишь возникают подлинные «краски». Ожешко тоже пишет о евреях. Они Элизе симпатичны, ему они претят. Но «краски» у Ожешки искренние, честные, и потому Крестовский не выколет глаза ровеснице. И это главное в литературе. Неглавное – второстепенный ты иль ты третьестепенный.