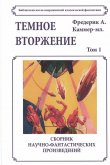Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Но кости натуральные и черепа – мертвы. Они не будят мысль о воскрешении. Тем паче о клонировании. Однако ситуация решительно переменилась. Трудолюбивые китайцы нашли их яйца.
Ох, Боже мой, совсем не тот пассаж, который нараспев орали во дворах и в подворотнях: «Во саду ли, в огороде / Поймали китайца. / Положили на кровать, / Вырезали яйца…» Не-ет, пассаж иной. Яйца динозавров, как некогда пасхальные из шоколада в витринах петербургских магазинов Жоржа Бормана, они, представьте, пятнадцать сантиметров в поперечнике.
Теперь вообразите. Всю кладку разложили в ящиках с песком. Вверх тупым концом. Да и высиживают органами китайской безопасности. Торопиться нечего, в запасе вечность. Ан вдруг доносится: тюк-тюк-тюк… Вылупились! Глазенками, в которых плавает еще утробный мрак, луп-луп. Рот разевают, а там уже зубов полно. И не молочных, не молочных. Страшно?! О, наплодят и наклонируют. И всей армадой, вопреки всем договорам, прихлынут на амурский берег.
Согласен, страшно. Но я вас успокою.
Скрывать тут нечего: яиц мы раньше не имели. Попадалась только скорлупа. Тьфу. Недавно вот нашли! И именно в Амурской области. И, значит, высидим мы тоже и тоже под надзором патриотов из спецслужб. Теперь уже и я, как прежде внук мой Саша, слышу: дрожит земля сырая, и гулом отвечает даль. Такая уж эгида, такая уж планида.
Повтором афоризма Бурцева замкну глубокомысленный, таинственный сюжет.
* * *
Тираннозавр, поросший мягкой, как фланель, академическою пылью, навис над пушкинистами и над В. Л. Но исполин уж примелькался. К тому же Бурцев непривычен мыслить символами. А что до мифов, то им владеет лишь один: Свобода. Но это только потому, что он Свободу не считает мифом.
В курганах, в навозных кучах, в скопищах он выудил случайно пухлую тетрадь «проследок». Информацию «наружки» (ср. «гаишник», «кэгэбешник» – извечность непочтительности, неуважения: они, на мой взгляд, незаслуженны). Да, пухлая тетрадь. Распухнешь, коль Бурцева годами держала под прицелом полиция и русская, и французская.
Агента-русака определить не так-то трудно. Не по роже, а по одёже. Он непременно носит черный котелок. И неизменно, даже в ясный день, не расстается с черным зонтиком внушительных размеров. А называли-то его пренебрежительно, с оттенком сожаления: «подметка». В том смысле, что сколько ж надобно обувки для тех робят, которые гранят панели денно-нощно.
А вот французы…
Полковник из политического управленья армией и флота напал, я помню, на академика Тарле. Тот написал: с присущим, мол, французам блеском и т. д. Полкаш и тявкнул, как Полкан: так, значит, русским блеск-то не присущ?!
Присущ, присущ, но здесь я о французах к месту. Агента, шпика из «наружки» – как называют? Да-да, филёр. Фил – нитка. А ниткой продолжается иголка. «Иголка» есть «объект», намеченный к «проследке». Раз так, куда «иголка», туда и «нитка», то бишь филёр. Недурно. И образно, и тишина. А звучно – сикофант. Профессионал-доносчик, но давным-давно, у эллинов-язычников.
Какие, к черту, сикофанты! Подметкам-филерам приказывал начальник: вы Бурцева сопровождайте вмертвую. (На филерском жаргоне: не спускайте глаз.) Он к ним испытывал неоднозвучность чувств. (Напомню: близорукий, а на шпика – приметлив.) Иной раз шибко шел да вдруг и стопорил; шпик, налетев с разгону, слышал шип: «Дурак, иди иным путем!». Другого хвать, бывало, за рукав: «Замерз, прохвост?». Хвост хлюпал носом и получал – в зависимости от географии – «на чай» или «на кофе». А то, случалось, Бурцев задавал вопрос о смысле жизни. И слышал: «Детей кормить-то надо». В. Л., хоть и бездетный, не оспаривал.
Теперь, под динозавром, читал заметы полицейских хроникеров. Они отметили и встречи с узниками Шлиссельбурга. Казалось бы, все амнистированы, не так ли? Но ведь в России и амнистированный зек – персона нежелательная; точнее, вовсе не персона. Записано подробно его свидание с Лопатиным, из шлиссельбуржцев – шлиссельбуржец; Бурцев улыбнулся: они, включая и «подметок», боялись старика. Тот мог зарезать языком иль тяжеленной тростью смазать по сусалам… Давно пора уж навестить Лопатина; давно пора пойти на Карповку, позор и стыд: Лопатина не видел… Ага, вот «Океаник» уходит в океан из Шербурга, а пассажиром на борту В. Л., и это девятьсот девятый. К «своим» морям – Каспийскому, Северному, Балтийскому – прибавь Атлантику. В Штатах – в Нью-Йорке, в Бостоне, Чикаго – он рассказал американцам о русском департаменте полиции, о русских провокаторах, была и пьеса под названием «Азеф». И что же? И публика, и журналисты скучали, черт их подери. Очки прекрасные – и толстые, и роговые; одежде сноса нет, походка черт не брат, а братья во Христе, те сами о себе пусть помышляют. Хотя их жаль, да что же делать, ежели народ ужасно терпелив, а спину разгибает разве что в громах погромов. Само собой, еврейских… Опять уж Бурцев на улице Сен-Жака, и заграничная охранка нанимает заграничных же филеров. Как вовремя! В. Л. «имеет план» вернуться и выполнить свой долг пред родиной: показать и доказать в судоговоренье, кто правит бал в России… Из этой точки он, В. Л., здесь, под эгидой динозавра, тянул цепочку впечатлений к «этапному порядку», к Енисею, к Монастырскому селу… Но мысль и взор прикованы к архивным связкам.
День ото дня В. Л. мрачнел. Что так? Его намеренье сугубо личное. Состоянье странное. Он намерен обнаружить хоть что-нибудь о Лотте, о мадам Бюлье. И этого страшится. Нет ни на гран сравненья с испытанным не только мною, а многими – желанием узнать, кто «твой» стукач, и нежеланьем узнавать об этом, внушая самому себе: э, пустое! есть сроки давности… Но тут-то многолетняя любовь. И прочная, и ровная, без ревности, мучительных и унизительных «проследок»… Тут подозрения совсем иного свойства… Не знаю, как вы посмотрите на разыскания В. Л. Не мозахизм ли? Иль, может быть, желанье опровергнуть наветы Фигнер – В. Л. ужасно черный человек, лишающий всех нас доверия друг к другу.
Он приходил «под динозавра» не каждый день, но через день, уж это точно. Искал. Не находил. И, кажется, не огорчался оттого, что в дни переезда, как ни старались, а многое все ж спуталось, переместилось, и предстоит нелегкая и долгая раскладка. И точно, сколько ж было здесь и переписок, и агентурных донесений, и докладных записок, и «для памяти», инструкций, циркуляров, а сверх того и документов партийных съездов, конференций, газет, листовок, перлюстраций… дыхания не хватит перечислить одни лишь папки с типографским заголовком: «К руководству». Ведь не одна губерния писала, а все губернии писали. И каждая внимала помпадуру: докладывайте каждодневно обо всем; проникайте всюду; будьте везде и нигде. И помните, что я не умею быть неблагодарным.
Когда с тобой так обращаются, поверьте, служить и жить приятно. Особенно в Европе. А позже и в Америке. В той корпорации, не очень многочисленной, что называлась Заграничной агентурой. По-нашему сказать, разведкой внешней. В сравненьи с внутреннею меньше чурбаков и дуроломов. Условья обитанья сказывались: во фрунте не вытягивались; свое суждение имели; имели и возможность наниматься в спецбюро, нисколько не зависимые от государственной полиции. Ну, скажем, парижское Биттар-Монэ. В любое из подобных учреждений – поставщиков двора или дворов, что на Фонтанке иль Пантелеймоновской.
Бурцева, само собой, интересует г-н Рачковский. О нем уж речь была в связи и с Лоттой, и сидением В. Л. в английской каторжной тюрьме. Увы, мы не расстались с ним; он, хитромудрый, причастен и к созданию, и к распространению бестселлера; ваш автор это держит на уме и тоже вроде бы хитрит. Но простодушно. «Под динозавром» ищет наш В. Л. – Рачковского и Дурново. А пишущему эти строки, покамест суть да дело, охота фигурять фигурами, но нет, не фигурантами и не всегда статистами.
Вот, скажем, статный плотный Полт, британец. Он «держал в проследке» Герцена. Не уступал, пожалуй, Филби. Иль превосходил. Ведь знаменитый совразведчик не был лауреатом в соревнованьях на биллиарде – клуб респектабельный в Лондоне. А плотный Полт им был. И это ли не фарт в шпионстве?.. Иль взять Жозефа, суров и деловит, размах шагов саженный. Он в Берне получал корреспонденцию на сутки раньше, чем адресаты-эмигранты. Он выяснил, кто именно прикончил в Петербурге шефа жандармов Мезенцева. А сверх того установил, где именно живет Засулич. Ее и нынче бурный государственник зовет мерзавкой… Сдается, хорошо б для ФСБ нам учредить медаль с изображением Жозефа. Но только нет, не в профиль. А то отменный галльский нос возьмет да примет за жидовский кубанский губернатор, такой он беложавый, смазливенький, коммунист из главных. Такой он умный, такой он проницательный, что и Зощенко с Ахматовой считает сионистами.
А «странствующий наблюдатель» г-н Легранж? Отменные манеры, богатенький турист, его ужасно привлекают «настроенья» эмигрантов. И за сие бедняге нагло пригрозили: послушайте, мсье, у русских есть обыкновение бить палкою по роже… Но эдак, разумеется, мужланы. Европеец награждается «Почетным легионом»… Прозаик Чехов бывал не только в Ялте, но и на Ривьере. Ужасно удивился, узнав, что наш агент в курортной Ницце имеет аж семьсот помесячно. Полагаю, больше. То был штаб-офицер из Корпуса жандармов, сероглазый, как король, добрый малый Меран виль де Сент-Клер… Дамы давали фору мужескому полу. Всякий раз, когда в душе сверкает женоненавистник, вспоминаю парижский политический салон. Сперва прочел N. N. – архивное: «Весь шпионаж устраивала какая-то высокопородная дама, проживавшая в Париже». Угадал не сразу. Ан все же распознал: ба! княгиня Трубецкая. И верно, держала политический салон, всегда отличнейшая хаза: болтун – находка для шпиона. Какие люди, какие ситуации! Испечь бы детективы. Конечно, надо и прилгнуть. Но лгут ведь и министры, имеющие, как цирковые петухи, разряд бойцовский – «силовики».
Они «силовики», а у меня нет сил. Дай Бог, мне уяснить, что ищет Бурцев «под знаком динозавра». Положим, попадется 709-е. То дело, которое помог мне обнаружить архивист, добрейший Лев Григорьевич. Пусть даже и расписка Лотты в получении и содержания в триста франков, и четырех тысяч франков «за оказание услуг в попытках задержанья и ареста Бурцева».
Что из того? Она сама ему об этом говорила. Но Дурново, тогдашний папа департамента полиции, сделал стойку: «Не играет ли Бурцев с Ш. Бюлье комедию с какой-либо целью?».
Цель была. Была ль комедия?
* * *
Архивны пушкинисты разошлись. Достоевский отправился к Ленину. Бурцев остался один. Тираннозавр от времени до времени скрипел. Точь-в-точь как дверь на сквозняке: я зя-я-ябну-у-у. Внизу, на набережной, искрила трамвайная дуга – и голубые мыши бежали по хребту скелета. Порывы ветра, как в баскетболе, бросали в зал блик фонарей – тираннозавр и щурился, и щерился.
Совсем иной была читальня Пушкинского дома, когда уж он имел свой дом. Та небольшая комната гляделась окнами на Малую Неву. Трамвай не бегал, было тихо. Буксир «Народоволец» доживал свой век у моста. В читальном зале княжила седая дама. И этот несказанный свет, и красота, и смысл, и благородство рукописей.
А тут, вот в этом зале? Меня давно воротит от рукописных фондов департамента полиции. Какая скудость мыслей. Какая нищета соображений. Рутинное и вялое злодейство. Хожденье по пятам. Шпион, как вошь или, по слову Пушкина, как буква ять, – пролезет там, где и не ждешь. Когда-то я спешил нырнуть в секреты политической полиции. Теперь они мне кажутся скучнее скучного… я нынче удалился бы вслед пушкинистам. Пошел бы с Копланом к его невесте, дочери Шахматова; академик живет при Главном здании. Напросился б в гости к сыну величайшего из драматургов, хотя сей сын и камергер, и, кажется, набит под воротник прожектами в отношеньи государства, которого уж нет. Всего охотнее я увязался бы за Достоевским – он к Ленину пошел. Но мне нельзя оставить Бурцева.
Он погружен в дознание, что называется, «по факту». Минуло тридцать лет, как на Гончарной был убит Судейкин, подполковник, инспектор полиции, принявший облик Иисуса. Давно. Уж сын его, Сергей, художник, знаменит и в дружестве с Ахматовой. Давно. Зачем же Бурцев углублен в былье? Ведь суть да и подробности ему известны: уже прочел В. Л. «Глухую пору листопада» Ю. Давыдова. А видите ли, контрапункты провокаций звучат в его душе в соотношеньях с Лоттой, мадам Бюлье. И все короче дистанция до самоприговора.
Как холодно, однако, в зале. И как ужасен этот динозавр. В углах как будто бы шевеленья, шепот, шорох. Скорее вон! Огни, трамвай, тяжелая и черная река. Дышать, само собой, вольготнее, чем там, в том зале, где штабелями ящики архива. И все ж владеет Бурцевым тревога, ожиданье мрачное.
Оно мне внятно. Я знать не знал, что ордер на арест уж подписали генералы, что опер, докурив свой «Беломор», с минуты на минуту – в путь; не знал и знать не мог. Однако первобытно иль космически опасность ощущал. И в двух шагах от дома, куда я возвращался, сказал без всяких сантиментов, но и не беспечно, а как-то очень, очень строго сказал «прощай» уютной лампе в чужом окне…
В. Л. же мог оказаться дома, входя в подъездик иль с Невского или с Гончарной. (Не лучше ль было б вместо «или» поставить «али» и этим указать на близость к Достоевскому?) Да, волен был с проспекта, волен был и с улицы, где – мне так запомнилось – услышишь поздним вечером тяжелое движенье паровозов… В. Л. шел по Гончарной. Безотчетно ль? И да, и нет. Он только что прочел в дознаниях, что Дегаев нанимал в Гончарной квартиру о три комнаты, и там-то заварилась каша встречных провокаций, и перепрела в гноищах, и брызнула разбитой черепной коробкой… Все так. Но лишь сейчас, на лестничной площадке, в слабом озарении и сладковатом запахе от керосинового фонаря, сейчас только и ударило ему в виски, ударило по темени – не случайность найма тринадцатой квартиры, не совпадение, а назначение. Да, именно здесь он, черный человек, признать обязан пересмотру не подлежащее. Ты, Бурцев, изобличитель разномастных азефов, враг и концепций, и практики провокаций, ты, уже будучи тридцатилетним, пытался с помощью Шарлотты Бюлье переиграть заграничную агентуру русской полиции. Да, ты рисковал и высылкой в пределы отечества, ты сидел в каторжной Пентенвильской, проклятые чулки, ты потому и сидел, что она передала твои письма из Лондона, передала их г-ну Рачковскому, и теперь уж не поймешь, ты ли запутал Лотту, она ли переиграла тебя, теперь уж ничего не поймешь, не разберешь, кроме одного: черный ты человек, права Фигнер, права, черный ты человек. И высветлить тебя нечем и некому. Но видит Бог, ты любил Лотту. Однако, видит Бог, ты ее разлюбил, ты уехал, не объяснившись с ней. И самое чудовищное, как тираннозавр в зале: ты ни-че-го не объяснил, ни в чем не по-ка-ял-ся. Что так? А то, что ты и нынче, сейчас, здесь, у дверей тринадцатой, ты как бы втайне от самого себя полагаешь, что все же следовало рискнуть, следовало жертвовать и не следует не признавать необходимость жертв и жертвенности. Во имя! Во имя! Шорох был али старческий шепоток: «Кто тут?». Бурцев онемел. Опять не понял – шелест был: «Ишь, какой!» али: «Ужо тебе…»?
В. Л. нелепо перебрал ногами и не вошел в квартиру. Тут отдаленнейшее сходство с моим испуганным отказом от номера Есенина. Ночь напролет В. Л. слонялся в Николаевском вокзале. Хотел куда-то ехать, не мог решить, куда. А рассвело – с квартиры съехал. Остановился в Балабинской гостинице; он жил там в пятом и шестом году. Из окна был виден чугунно-конный Александр Третий. Паоло Трубецкой не даст соврать: моделью послужил швейцар из «Европейской».
Ну-ну, далековато я убрел с Гончарной. Чад керосина меня тревожил, как будто набирал я 0–1. Я тускло-тускло сознавал намек в промене современно-жесткого союза «или» на ватность устаревшего союза «а л и». И как-то ненароком разжевал, в чем смысл сей промены.
А это, видите ли, был намек: послушайте-ка, жалкий сочинитель, полноте манить читателя – вы сами, будто бы нечайно, обронили, что мой племянник, сложив бумаги под тираннозавром, отправился во глубину Васильевского острова – намерен повидаться с Лениным. Не так ли?
* * *
Он угадал мое лукавство в построении сюжета. Нетрудный, право, труд. Я ж уловил ход мыслей Федора Михайловича. Вподым не каждому.
Ха, вы скажете, раз имя Ленина, так и выходит, что русский гений вернулся к размышлениям о бесах, пейсах и мурмолках. Шаблон. Школярство.
Ха, никто из вас не вдумался в эпиграф к «Бесам», в цитату из Евангелия. Да, бесы входят в свиноматки. А свиньи чьи? На Святой земле евреи не развили свиноводство, они свинину не едали; к тому ж свинья обозначала бездуховность. Свиней держали поселенцы греки… Потомки их… Конфессия… Но – стоп! Молчу! Не то обидно, что прирежут, а то обидно, что убийц-то не отыщут. Да и искать не станут. Достоевский подтвердит: убийц его отца взаправду не искали. Прибавлю: а Ленина убили – и тоже не производили следствия.
Но оба случая нисколько не случайность. Яснее ясного: убийцы – русские крестьяне, мужики; любил наш гений богоносцев. Со дней Михайловского замка он возвращался мыслью к убийству своего отца то ль на проселочной дороге, то ль во дворе. Мокруха совершилась, как говорится, в состоянии аффекта. Да ведь аффект-то был осмысленный, как и само бесовство, сатанинство… Так и убийство Ленина?
Не лишены, конечно, интереса домашние свиданья Достоевского и Ленина, свидания, не скрою, родственные. Но убийство, убийство Ленина ведь это же не «интерес», а преступленье богоносца.
Пусть Достоевский на влажном ветре ждет четверки. Пусть Троцкий-Слуцкий настырно предлагают все виды строительных работ, а Клейн и Кельх так ласково сулят асфальт, бетон, канализацию… О Господи, нет ничего глупее, как вывески читать и перечитывать, злясь на отсутствие трамвая.
Четверка, я свидетель, ходила редко. Охота ей спешить-то на конечную, к воротам кладбища? И потому сподручно на несколько абзацев покинуть линии Васильевского острова. Да и принять иную линию – во глубину России.
* * *
Событье, о котором речь, происходило в Пошехонье. Как ни бранился Салтыков-Щедрин, как ни смеялся Ленин, читая Щедрина, но Пошехонье с пошехонцами ему свои. И Вологодчина не чужда. Там в родовых живали Ленины. Служилые дворяне, созидатели России. Статские, армейские и флотские. Примером всем был Ленин, штабс-капитан. По одолении Наполеонтия, из дальнего похода воротясь, он прожил в тамошнем краю лет шестьдесят.
Деревня, где наш Ленин не скучал, звалася Красная. (Однажды слышал: не деревня, а Красное село. Могу и ошибаться.) Почтовый тракт стелился близко. А лес вставал – рукой подать. В лесу держался северянин-кедр. Дуб и орешник в рост не шли: тепла недоставало. Угрюмость ельников? Поддакнул бы, но звездочки кислицы, подобные снежинками, веселили взор. Ревел ли зверь в глухом лесу? У, недаром герб с медведем! Медведь здесь володал не великан; готов удостоверить, меньше, нежели Топтыгин с серебряным подносом в прихожей «Англетера». (См. выше.) Зимою на дорогу и к амбарам с своей волчихою голодной являлся волк.
Ленин, о котором речь, меньшую братию по голове не бил. Охотничье ружье годами висело на стене. А потому уж лучше наблюдать пернатых. Милы и вороватые красавцы щурки, и щеголь зяблик, и скворцы, интеллигентные чистюли. Однако птахам – час, а время – пашне.
Я верю ленинской оценке: земли Пошехонья – в Нечерноземье лучшие. А льну привольно по влажным долам, на пологих скатах. Жаль, мужики ослабли, уж слишком долго длилось потребленье дешевой водки. А потребление сверх меры отчего? Все оттого, что долго был невнятен мужику смысл поземельных отношений. И все же вы, Михал Евграфыч, вы перегнули палку. Конечно, звук «Пошехонье» – сумрачен; звук «пошехонец», увы, немелодичен. И все же… Был Ленин патриотом малой родины. Ярославца-мужика не чувствовал, как леденец на белой палочке. И не сочувствовал ему сентиментально. Нет, не считал обломом. Напротив, отмечал и расторопность, и живость практицизма, и то, что мы определяем ёмко: «на все руки». По вкусу был и говор; назывался суздальским. Открою тайну Ленина, известную лишь домочадцам. Служебно проживая в Петербурге, имел обыкновение раз в месяц предаваться чаепитию в трактире на 14-й линии. Кто знает Васин остров, возможно, помнит и трактир «Москва»; держал Никитин; Федор Никитич процветал – имел настольный телефон аж фирмы «Эриксон и K°». А половыми были ярославцы.
«Москва» не исключение. Рядились ярославцы и в торговые сидельцы, и в артельщики. Их нанимали без долгих слов. К Никитину ходили многие островитяне. Но Ленин-то – особь статья. Его там половые называли «наш». Он там был весь внимание – ах, говор суздальский. (Присущий, перешепнусь я с вами, не только ярославцам, но и владимирским, и костромским.)
В «Москве» случалось огорчаться: многоязычный Питер порчу наводил на родниковый суздальский. И ничего уж не попишешь. Он в городе служил, он в городе детей учил, а жить хотелось в Пошехонье. Не байбаком-сурком, он нужный был работник.
Его приездов из столицы ждали. Он знал в хозяйстве толк, давал советы мужикам. К тому ж супруга держала и аптеку, и лечебницу. Как и в «Москве», так и в Красном его заглазно звали «наш», в глаза – не барином, Сергеем Николаичем. И грустили, когда Ленин за неделю до Симеона-летопроводца, за неделю до сентября поднимался всем семейством в путь-дорогу. Питер-то Питер, да ведь все бока вытер. Сидел бы Николаич в своем Красном.
Судьба, видать, прислушалась: ведь это ж глас народа. А тут вот в аккурат исполнилась давнишняя угроза: быть Петербургу пусту. Царя прогнали – воцарился голод. Катит зима в глаза. Что делать нам в деревне? Пишут: озимь хороша. А яровище поспеши вспахать. И Ленин всем семейством отъехал в Пошехонье. Так поступали и другие, кто только мог не околеть, меняя город на дедовские гнезда. Но Ленин, повторяю, – особь статья. Во-первых, мужики не разорили его дом. А во-вторых, вы это оцените, они его и трудовым наделом наделили. Живи, товарищ Ленин. Трудись, друг Николаич, бо кто не трудится – не яст.
И было посему.
Вдруг молния упала на березу. Вы скажете, что молонья не тронет березняк? Я тоже думал так. Да вот ее, которая за палисадом ленинского дома, разбило, расщепило, а беложавую кору до комля сорвало и разбросало. Случилось это в канун арестов… А липы зацвели. Цвели, благоухали, но лошади не фыркали, что предвещало бы теплынь, ан нет, всхрапнули, и это значило, идет-плывет ненастье.
Стараясь обогнать ненастье, он спозаранку был в лугах. Косил, косил, зимовье будет долгое. Детей-то шестеро. Тринадцать старшей, поскребышу – четыре годика. Коса косила. Но дома он в порог косу не вделал, как поступают вологодские соседи, чтоб пришлый злыдень-то не подкосырил. И все сошлось – береза, молнией разбитая; всхрап лошади; и пришлый злыдень.
О, человек с ружьем! Приехали не то каратели из ЧОНа, не то чекисты из района. Но кто бы ни были, а были «из народа». Тотчас же притрусил и деревенский детектив; его талантом из зерна в счет продразверстки проистекал отменный самогон. Сбежались мужики. В защиту Ленина не шевельнули пальцем.
Он усмехнулся и сошел с веранды: высокий, как преображенец первой роты. Красивый, как многие на Ярославщине. Детей благословил он твердо, – чтоб слушались и маму берегли… И этот рост, вся стать, невозмутимость, плач детей, и эта девочка, весь день косившая в лугах, и дрожь бровей его жены, «сестрицы милосердной», и это вот безгласное мужицкое сочувствие, э, несознательность, э, темнота, – все обозлило исполнительную власть. Заторопились, брякая винтовками. Схватили кулака, схватили и попа, чтоб получилась связка вражьих сил. Ну, и вперед, заре навстречу.
Эк, сволочь-барин, притворялся Лениным! Вредил здесь тихой сапой! А был бы в Пошехонье наш Ильич, никто не пикнул бы, чтоб продразверстку заменили продналогом, а каждый двор кричал бы спозаранку вместе с петухами: да здравствует Совет народных комиссаров!.. А этот самозванец, посмевший Лениным назваться… Они плечами передернули и передернули затворами… Общинная закваска – все трое в одного, и без промашки – в грудь… В чапыжники сбежало эхо. Телегу унесло за поворот. Осела пыль. Болотце при дороге истомно пахло илом и осокой. Да, конь храпит к ненастью: садилось солнце в тучи. И слышно было: кум-кум-кум – болотные жерляночки как будто б в колокольчики звонят, но звук не звонок, ведь у лягушек колокольчик оловянный.
Кум-кум-кум.
* * *
Услышав «кум», любой из зеков вспомнит уполномоченных от МГБ в ГУЛАГе. И хорошо, что этот звук умолк, сменившись отрубистым и грубым звоном, – шел трамвай четвертый номер. Но беспризорный еще не пел: «А в транвае ктой-то помер…» Весной Семнадцатого года на острове не появлялись беспризорные. А Ленин еще жив, пришел из министерства к себе домой. И Достоевский, улыбнувшись, сел в вагон – желает наведаться он к Лениным.
Надеюсь, вы давно определили: предложен вам роман посредственный. Так классик (не Честертон ли?) определяет сочинения, сочинитель коих самим собою занят больше, чем своими персонажами. Но ведь лирические отступленья еще дозволены?
Так вот, и я живал на Острове, где жили Ленины. Жил и Андрей Андреич Достоевский. И многие достойные сограждане.
* * *
После войны причалил я к общаге флотской академии. (Она носила имя Ворошилова, поскольку первый маршал не отличал весла от паруса.)
В предлинном коридоре мне подарили прекрасное жилье. Пол плиточный, как в бане иль сортире. Окно задраено досками, как в полуподвале. Стол, два стула. Койка пела: «Умер, бедняга, в больнице военной…» Фанерный гардероп был прост, как правда. Она тебе известна, Галя. В таких шкапах у вас на Охте, за неименьем домовин, везли на кладбище блокадных мертвецов.
Соседом в коридоре мне оказался каплейт Донцов, Панкрат Иллиодорович. Чин небольшой, на слух – приятно: капитан-лейтенант. Тут щегольство особое. Но мой Донцов совсем не то. Шинелишка обтрепана, обтрепан кителек; нательного белья две пары и пара полотенец вафельных. Говорили: Донцов давно уволен, списан, выведен за штат. Но комендант не прогонял жильца. Его хранила офицерская соборность. Вот срок приспел. Не пьет, не спит. Смолит он «Краснофлотские» – давали тридцать пачек в месяц. Пишет, чертит, логарифмической линейке, готовальне пощады нет. И курсовые, и дипломные во власти гения Донцова. Просчетов нет, и нет помарок, рука не дрогнет, голова ясна. А гонорар он пересчитывать не станет. Уйдет в запой, и поминай как звали.
Знавал ли он любовь на нашем Острове? Ни боже мой. А я влюблялся дважды. И оба раза чрезвычайно пылко… Был ветер острый и солнце острое, а сушь сентября, ну, будто и не в невской дельте. Она мне чудилась летящей по волнам. Фигура мифологии на корабельных рострах, высокая и сильная. Каштановые волосы легки и коротки, а простенькое платьице энергией движения и ветра облепливало грудь, живот и ляжки, как будто девушка вдруг вышла из морской волны. Я ринулся вослед, как обезглавленный петух. Само собою, был смешон. Но дело-то в другом. Я дурно танцевал и получил отставку.
Меня избавила от всех страданий глазастая плечистая и нежная – ах, Валя, Валентина В. Она была замужней. И знаете ли, что я вам скажу: напоминала бурцевскую Лотту. Однако в полицейском смысле подозрений никогда не вызывала. Напротив, однажды шепотом и словно бы самой себя пугаясь, а мне выказывая высший знак доверия, Валя-Валентина рассказала: ей снился сон – шла похоронная процессия, но трубы не рыдали, все были веселы; она спросила: «Кого хоронят?» – ей отвечали: «Власть советскую!». Она проснулась радостно: отец был в лагере и вот теперь вернется… А он, отец, он, беспартийный, русский, землеустроитель, статья не воровская, он был уж мертв… А мы, живые, от немца уцелевшие, мы, молодые и влюбленные, гуляли близ Николаевского моста. Там отдыхали пароходы, и острый запах антрацита был приятен – при динозаврах так не пахло. Но Вале-Валентине он напоминал о вечной неисправности котельной их ветхого жилого дома в Соловьевском переулке. И мы шли дальше. День поглощал дома, дымы, ширь вод и много неба. Там обитали облака всех мыслимых конфигураций и открывалась нагота немыслимых оттенков. Работал ветер разных направлений. Потоки света перемещались на просторе. А в узкостях играли тени. Так возникали панорамы. И даже Валя-Валентина испытывала поэтическое вдохновенье. Говорю: «даже» – как я ни бился, она не отличала Ахматову от Лебедева-Кумача.
Прощались мы в том скверике, что называется Румянцевским. Недавно этот скверик неонацисты осквернили. Уверен, клейкие листочки скукожатся и обесклеятся. А нам, послевоенным, они достались вживе, как и обильно-пышная сирень. И мы, томясь, сплетая пальцы, приникнув друг ко другу плотнее магдебургских полушарий, мы слышали их свежий, честный, чистый запах.
Сгоряча я, право бы, на ней женился. Она вздыхала и отводила томный взор. Я огорчался: она предпочитала синицу журавлю. Синица была в штанах с лампасами. Но… Кто знает, глядишь, и бросила б синицу, когда бы журавля не схавал черный ворон… Она мне писем не писала. Она ко мне не приезжала, как Лотта к Бурцеву. Но я уж был не тот. Я понимал: со мной знакомство не медаль; и мужа, хоть и генерал, а по головке не погладят, коль скоро все у нас в ответе: мужья за жен, а жены за мужей. Теперь готов признать: хорошую бабенку рука отечества спасла от никудышнейшего семьянина.
* * *
Да это и понятно: в загсе ведь не аналой, а канцелярский стол. Подлинные разнарядки на супружества изготовляют в горних высях. Рай украшают кущи родословных. Они есть признак сбережения семейщины, всего порядка быта. А бытие, известно, в руке Божьей.
А на земле генеалогия, как щит, – не позволяет самозванцам примазаться к дворянству, что нынче уж и неопасно, и даже, кажется, почетно. Другая грань: генеалогия – немой укор пренебреженью родовыми связями. И вместе тихая отрада в восстановлении сих связей. Да, тихая, философическая, как избавление от одиночества, как сопричастность ручьям и рекам, напояющим (устар.) вселенную. Однако в наш иудин век генеалогию определили в арсенал борьбы за диктатуру пролетария и за союз его с ослабшим мужиком. Как тут не вспомнишь Картавцова? Все разыскания Ильи Михалыча изъяли; и разыскателя изъяли. По родословиям искали-находили врагов народа. Но вы скажите, зачем же было генеалога лет 30 мочалить в лагерях и ссылках?
Он был не питерский – московский. И дожил век, спасибо, Сталина уж в мавзолей снесли, век дожил на Арбате, тот дом уже снесли, напротив ресторана «Прага». Да, в коммуналке. Что из того? По коммуналкам днесь тоскует старичье, давным-давно заполучившее отдельные квартиры. Окно Илья Михайлович завешивал, струился сумрак – красноватый от лампадок.