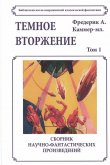Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
* * *
В Курейке человечину не ели. Но удивили нашего асмата бесчеловечностью. То было раннею весной. Громадная, разбухшая река со скрежетом и звоном ломала лед. Разливы слизывали неокоренные сплавные бревна. Тяжело и низко провисало небо. Пронизывал насквозь злой ветер, по-местному, остяцкому – сельбей. Опасность, страх и матерщина – мужики ловили бревна. А те неслись, удар – таран. К реке на промысел ходило тридцать душ, вернулось двадцать девять. Сказали: Митюха остался там.
Случилось быть тут поселюге Джугашвили. Спрашивает: где – там? Ему в ответ: чего ж не понимаешь – утонул Митюха. Да и пошли поить кобыл. А поселюга им вдогонку: «Скотину жаль, а человека – нет?!» Остановились, обернулись – чего жалеть-то? И объяснили: «Человека мы, брат, завсегда исделаем, а вот кобылу-то попробуй сделать, а?».
* * *
Асмат наш поначалу удивился, потом, однако, убедился в правоте народа. И лично сделал трех иль четырех. Он и кобылу сделал бы, когда б имел досуг. За недосугом сие он поручил Буденному.
И вышло так, что и жалеть-то никого не приходилось. В знакомом Красноярском крае тож. Енисей не оскудел ни лесом, ни царь-рыбой, а малочисленный еврей, плодивший еврейчат, залез в конторы и медпункты; остяки ж на корточках сидели в красных чумах – и поголовно зачумились и возлюбили охотника за человечиной, как сорок тысяч братьев любить не могут.
Для всех краев он учредил лимит отстрела. Ввел категории. Назначил «тройки». И к делу приступил. Но вскоре красноярские вождята пригорюнились – лимит расстрельный таял; глядишь, и «тройки» придется распрягать. Вождята слезно попросили о добавке. Асмат асматикам не отказал. Он подарил шесть тысяч душ. Подумал и приписал еще шестьсот. И подписал. А в подписи – сочтите – шесть букв. А три шестерки, кто ж не знает, звериное число.
Едва партийные секретари лимитец заимели, в зобу дыханье сперло. И в одночасье «тройка» вывела в расход: матроса Степушку Ваганова; Гаврюшу с Ваней, плотников; двух Александров, рабочего и мастера; да Федора Морозова, который не имел прописки. Их шествие среди созвездий возглавил Абоянцев Самуил, расстрелянный тогда же, хормейстер, дирижер. Что исполнял сей маленький оркестр? Какая песня рот круглила? В рубахе распояской витал над ними Васёна Мангазейский.
* * *
При Пушкине пропущенные строчки давали повод к порицаньям. Но в нашем случае все точки – прекрасные мгновенья освобождения от Вепря; он там остался, в Туруханске.
Я, вольный, набирался сил; я обновлялся существом на посиделках в баре «Бегемот». Аполлон со мной не знался. И это хорошо, как и отсутствие повестки из военкомата, зовущего к священной жертве. А в баре «Бегемот», близ Патриарших, я с Байроном курил, я пил с Эдгаром По.
Куренье с лордом – большая честь. Быть может, даже большая, чем получение от лорда книжной премии. А винопийство с Эдгаром По – зарницы озарений. И это ж он сказал, что все произойдет под знаком динозавра. Я уточнил: тираннозавра. Он понял, что и у меня губа не дура.
Так знайте, ход вещей был обозначен в баре «Бегемот» -
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По.
* * *
Но Бурцев полагал, что я нисколько не причастен ни к счастьям, ни к несчастьям всех возникающих персон. Неправда ваша, Владимир Львович. А лишь правдоподобие. Впрочем, возвращайтесь-ка скорее в город на Неве: теперь уж это не зависит от царя.
А поначалу Бурцев был ограничен в перемене мест. Царь смертные обиды помнил. Союзники, включая президента Франции, насилу уломали венценосца дозволить славянину-журналисту участие в борьбе с тевтонцами. Царь уступил. Притом, однако, опустил шлагбаум: в столицу ездить запрещаю.
Пасквилянт из самых злобных был избавлен от наказанья тьмой, тундрой, комарами; отсутствием интеллигентов, присутствием большевиков. «Ох, если бы вы знали, – признался г-н исправник, – знали б вы, какие инструкции я имел относительно вас! Эх, Владимир Львович, я ж всего-то-навсего топор: мною машут, я и рублю». И осетин-топор без проволочки выдал опытному проходимцу документ, который назывался проходным свидетельством. Чертовски хорошо, когда тебе приметы возвращают! Да, старик, за пятьдесят. Седоволосый; борода и усы темно-русые; на щеке бородавка, на глазах очки; рост два аршина, шесть вершков.[2]2
Аршин = 71 см; вершок = 4,4 см. – Д. Ю.
[Закрыть]
Зимы, зимы ждала природа. Река огромной массой угрюмо широко сплывала в Ледовитый океан. Баржа тянулась к югу, наперекор течению. На пристанях хотелось каждого обнять. Свобода есть, коль нет филеров. Потом – железная дорога. Запахло йодоформом и карболкой – то санитарный эшелон, то лазарет близ станции. Бородачи из запасных грузились в эшелоны. Калеки на вокзалах материли шпионов-немцев и русских генералов. На рассветных полустанках ударял колокол, женщина кричала: «Вася! Скорее!».
Дорога взяла двенадцать дён. Близилась Москва. Товарно-пассажирский бежал под соснами. Со сна казалось, что длится бабье лето, когда в Первопрестольную приехал Бурцев-гимназист с своею бирской богомольной теткой. Постой имели на Никольской, в подворье, у Чижовых. Цена там не кусалась в отличье от клопов. Ходили в храм Христа, в Кремле молебны отстояли. И целовали Гвоздь с креста Христа, шершавый и каржавый Гвоздь.
* * *
Москвич-художник нарисовал нам гвоздь. Гвоздь, вбитый в стену.
Публика сказала: «Ах!» Предположила: «О-о, гвоздь! Да это ж нас распяли коммунисты!». Я так не думал, я думал так:
На гвоздях торчит всегда
У ворот Ерусалима
Хомякова борода…
Из эдаких гвоздей наделали, пардон, людей. Они и придали Кресту неслыханно губительную силу. Я это понял в фирменном Москва-Варшава. Он назывался «Полонез», он мчался шибко до границы. А на границе – стоп, приходят пограничники-поляки. В купе под потолком, в каком-то тайнике находят крест. Метровый крест – источник радиации!
В городке Орвьетто, от Рима недалеком, как от Москвы – Можайск, есть деревянный крест, средневековый. Говорящий. Когда-то он сказал Фоме Аквинскому: «Фома, ты праведно вещаешь обо мне!». Господи, что и кому сказал бы этот крест? Молчит, Иудой преданный науке. И радиация не полонез, он на три четверти, а похоронный марш, он на четыре четверти.
Но Бурцев утверждал, что на Голгофе крест был иной.
* * *
Изделия еврейских гвоздарей не поржавели в гвоздяницах еврейских плотников. Блестя от пота, они спроворили для плотника-еврея орудие позорной казни из трех пород: ливанский кедр, кипарис и пегва. Запахло древесиной, как в назаретской мастерской-сарае. И смолами, как во дворе бальзамировщика. А звук «бальзам» будил звук «бальзамина». В дому у бирской тетки комнатная бальзамина своими яркими цветами убирала распятого Христа. Распятого не так, как на Голгофе.
Распяли не висящим, а сидящим на скамеечке. На узенькой скамеечке голгофского креста. Палач согнул Ему в коленах ноги и подтянул одну выше другой. Ступню же, вывернув, засунул под икру. Прохваченный большими брусочными гвоздями, Он начал умиранье. Жужжали мерно мухи. Шелудивый пес то подбегал, то отбегал. Из окрестностей, где дохлые верблюды, лениво плыли коршуны.
Он умирал не в позе вольно-гимнастической, как на бесчисленных изображениях. Не эстетично-элегично, а словно зек, истерзанный служебно-розыскной собакой и конвоем. Хрипел, роняя пену, зубами губы раздирал, текла сукровица, воняло живодерней. Скамеечка! Каждый выдох… не вздох, нет, каждый выдох пыточный. Чтоб выдохнуть, надо опереть ступню о брус креста и приподняться на скамеечке. А мышцы – грудные и межреберные – уж не могли напрячься.
Сорок часов все это продолжалось, продолжалось, продолжалось. Включая истязанья на плацу, перед Голгофой. Два римлянина, долговязый и коротышка, бичами драли с него кожу и колотили палкою по черепу.
Он умер корчагой закоряченной. Не надо голени перебивать. Он отошел. И стало душно, душно, душно. Стемнело. Вагон качал проводника, качался и его фонарь, и Бурцев понимал, что это ж Никодим несет алоэ, несет и смирну на Голгофу.
Голгофа – место Лобное. Чело у Никодима, как череп, голо. Чело и век определяют человека. Он шел к Распятому. Светил фонарь. Что значит Ни-ко-дим?.. В. Л. об этом, как и вы, не думал. Я подсказал: народ есть победитель – вот смысл имени пришедшего к Христу в ту ночь… Глаза В. Л. наполнились слезами. Он обручал Россию с местом Лобным и богоносцу Никодиму предрекал свободу.
Сквозняк гулял в вагоне. Товарно-пассажирский гукал в сосняке. Пыхтел и злился на опоздание с прибытием. Но вот уж, лязгая суставами, состав устало протянулся вдоль перрона. И лег, и замер, и обратился в динозавра. Да, в динозавра. И это потому, что автору пора дать знать Эдгару По – послушайте, и мы не лыком шиты.
Все так. Но Боже, Боже, как прозаичен, как меркантилен наш идеалист… Гул затих, он вышел из Казанского на Каланчовку. К нему взывает вся привокзальная Россия: «Барин! Барин!». А он не отзывается, он непреклонен. Шалишь! Извозчик здесь дерет втридорога. Пожалеть я тебя пожалею, но рубля я тебе не подам. Дождусь трамвая.
* * *
Падение самодержавия – событье, как известно, всемирно-историческое. Но, если честно, оно нисколько не повлияло на музыкальные способности трамваев. Московский трам, в который втиснулся В. Л., имел звонок педальный. И потому вожатый личным мускульным усильем отзывался на процесс движения людей и лошадей, а иногда авто. И добивался выразительности. Звенел сердито или весело, звенел и весело-сердито, случалось, укоризненно: «Чего ж ты под колеса прешь? Успеешь на Ваганьково!».
Трам петроградский, в котором в тот же день ехал Лемтюжников, имел звонок электро. Вожатый в изъявлении чувств стеснен. И все ж раскат рулад (угу, тут тавтология) вызванивал в проспектах парадигму. Какую именно да и вообще, что это значит, я затрудняюсь объяснить. Ну, и охоты нет, есть только повод представить вам Лемтюжникова.
Вот он сидит – прямой, сердитый, с тростью. Он в чине тайного советника. По табели о рангах – бок о бок с генерал-лейтенантом. К тому же звук «Лемтюжников» приятен – созвучен с знаменитым направлением в литературе.
Он заведовал финансами тайной полиции. Это не отнимало у Павла Николаича брюзгливого, так сказать, общеказначейского выражения длинного дряблого лица. Следует, однако, прихмурясь и поджав губы, рельефно обозначить нетипическое, кардинальное. Оное заключалось в том, что данному тайному советнику не было тайной то, что при любом общественном укладе известно лишь двум-трем государственным фигурам. Он знал, каковы денежные суммы, отпущенные тайному сыску «на известное Его императорскому величеству употребление».
Эти средства оправдывали цель. Эта цель оправдывала средства. Речь шла об оплате агентуры. И финансировании всяческого рода провокаций. Конкретные затраты определял Особый отдел. Утверждал директор департамента. И он, и вице-директор, и заведующий Особым отделом уважали державную рачительность т. с. Лемтюжникова. Иногда его скаредность становилась препоной. Директор департамента Алексей Тихоныч, бывало, сетовал: «Мы бы купили всех революционеров, если бы сошлись в цене». Теперь, когда трон рухнул, тайный советник втайне признавал, что следовало бы всегда в цене сходиться. И не пришлось бы ездить в трамвае да еще под конвоем расхристанных студентов: с фуражек сорвали кокарды, нацепили белые повязки с дурацкими: «Г.М.» – городская милиция.
Тайного советника «взяли» дома. Не то чтобы арестовали, как многих генералов, а пригласили «следовать». Следовал он к месту совсем еще недавней службы – на Фонтанку, 16.
* * *
Едва царь отрекся от империи, ведущий департамент империи ударился врассыпную. Опустел, обезлюдел. Иные жандармско-полицейские заведения тоже, но не столь дружно. Зато уж дружно запылали, отчего возникали на глубоком весеннем небе рыжие и багряные пятна, похожие на неподвижные облака. Красных петухов подпускали поджигатели; поджигала и внештатная уголовная шпанка, и штатный служитель – все торопились убрать свой след.
А здесь, на Фонтанке, в цитадели политического сыска, поджигатели, так сказать, неорганизованные не успели проюрить, а вот свои поработали. Но об этом расскажу потом. Почтеннейшего Лемтюжникова доставили в Фонтанный дом не для того, чтобы он ностальгически повздыхал в канцеляриях, в кабинетах, где природа опровергала сведения о том, что она, природа, не терпит пустоты.
Предписанием Городской думы ему назначено было выполнить операцию весьма несложную. Она, однако, отозвалась в душе его сложным клубом борьбы мотивов разноречивого свойства. Тайный советник, впрочем, не сопротивлялся, чему весьма способствовали солдаты Волынского полка, присланные караулить департамент и державшиеся возмутительно вольно. Того и гляди разложат костер в этой прихожей с двумя широкими плавными лестничными маршами.
Все с тем же выражением на длинном дряблом лице, какое у него было в трамвае, выражением застарелой брюзгливости с проступающей сквозь нее брезгливостью, Павел Николаевич Лемтюжников, циркульно переставляя плохо гнущиеся подагрические ноги, отправился в четвертый этаж.
Его сопровождали прапорщик Волынского полка и поручик, адъютант градоначальника. Описывать их не представляется необходимым, ибо и тот, и другой действовали на общественных началах и, стало быть, государственного веса не имели.
Короткая процессия молча двигалась вверх по чугунной лестнице, углублялась в гулкие коридоры, оказывалась на других лестницах, тоже старинных чугунных, но разноузорчатых и несхожей ширины. Замыкающим бестелесно скользил паучок-вахтер с огромными мшистыми, давно немодными бакенбардами. Паучок имел при себе связку увесистых дверных ключей. Сейчас не соображу насчет электрификации департамента. Полагаю, сумрачность, словно бы дополнительная, возникала из нервного напряжения. Никакой, собственно, опасности не существовало. Но существовало солидное местонахождение запасов дензнаков, свободно конвертируемых, пусть только визуальное, однако напрягающее нервы, что известно каждому, кому приходилось участвовать в подобных экспедициях.
Вероятно, именно вследствие этого поручик с прапорщиком не заметили маленькую анонимно-железную дверцу в стене. И то, что эта дверца словно бы обманула поручика и прапорщика, изменивших государю своему, доставило удовольствие Павлу Николаевичу. Паучок-вахтер, звеня ключами, отворил дверцу, этот звон был для нее погребальным, и она, сознав свою унизительную беспомощность, беззвучно пропустила экспедицию в большую квадратную комнату с одним-единственным окном, забранным толстой и частой решеткой.
Посреди комнаты высился кирпичный куб с солидной стальной банковской дверью. Она была злобно искорежена, а угол кирпичного сооружения безобразно сворочен. Все молча разглядывали следы неудачливого взлома, а вахтер-ветшанин, взъерошив бакенбарды, обронил: «Да-а-а, с этим-то наши ребята не управились…» – и смущенно притворил рот ладошкой. Кирпичный куб занимал четверть большого квадрата. Это и была главная денежная кладовая – хранилище средств, оправдывающих цели тайного сыска.
При виде банкнот, аккуратно заправленных в бандерольки, издающих нечистый затхлый запашок, поручик и прапорщик почувствовали разочарование, загодя чудились алмазы каменной пещеры, сверкание драгоценных металлов, а тут… Сумма-то была внушительная, миллионы, но почему-то не оказывающая столь же внушительного впечатления.
Адъютант градоначальника послал за извозчиками. Пролетки остановили у подъезда шефского дома. Началась погрузка. Тайный советник Лемтюжников с привычной малоприметной бдительностью наблюдал за процедурой. Паучок-вахтер стоял, как на похоронах, с непокрытой плешивой головенкой и хлюпал носом.
Поручик и прапорщик взяли с собою несколько солдат-волынцев и поехали на Гороховую, 2, в градоначальство. А следом и тайный советник. Он, конечно, имел соответствующий акт, но желал очно удостовериться в доставке тех миллионов, которые он, несмотря ни на что, считал казенными, департаментскими.
Градоначальника на месте не оказалось. Его помощник – тоже на общественных началах – однорукий саперный капитан велел сложить поклажу в какой-то шкаф. А когда это было исполнено, кивнул, да и вся недолга. Ключ не брякнул, замок не щелкнул, тотчас образовалась зияющая пустота, в каковую невозвратно и окончательно ухнула Россия. Так, именно так полагал тайный советник Лемтюжников, служивший трем государям. И уж совсем неожиданным, совсем, как под корень, получил он удар на Невском.
Домой Лемтюжников, чувствуя себя донельзя усталым, отправился на том же биржевом извозчике, который привез его с Фонтанки на Гороховую. Извозчик был говорлив, как, впрочем, все извозчики на первых порах революции. Он радовался исчезновению городовых. У, драли шкуру! А теперича, вишь, с чердаков бабахают в народ. И даже пулеметами норовят воздействовать. Ан народ нынче боевой, походный, потачки не дает. С крыш чертей сбрасывает, отчего приключаются неоплаканные смертоубийства. Лемтюжников отзывался вяло и односложно: чего ж, мол, хорошего.
На Невском они попали в затор. Демонстрация старательно месила осклизлую перемесь мокрого изжелта-грязного снега. На ветру парусило огромное, в полпроспекта, полотнище с громовым призывом к миру голодных и рабов: «Долой чаевые!».
Извозчик перекрестился. Лемтюжников похабно выругался. Демонстрация двигалась вдоль Александрийского скверика. Великая Екатерина, окруженная великими строителями империи, смотрела сверху вниз на официантов, половых, поваров, швейцаров всех тех знаменитых и незнаменитых заведений, которые невдолге образуют звучное слово «общепит». Мне кажется, Екатерина, мать Отечества, смотрела на демонстрантов одобрительно – ведь она запретила подданным подписывать прошение: раб такой-то. А эти, эти, в сущности, запрещали глядеть на них как на рабов. Но студент… Понимаете ли, студент объяснил поручику фундаментальнее.
Молодые люди, как и Лемтюжников, возвращались из градоначальства, завершив операцию по изъятию денежных средств тайного сыска. Однако тайный советник, сознавая выпадение своего «я» из координат бытия, ехал на Моховую, домой, в еще не утраченный быт, а студент и поручик, воодушевленные служением на общественных началах, шли пешком на Фонтанку, 16.
Завидев полотнище «Долой чаевые!», студент сорвал фуражку с уже, как я говорил, сорванной кокардой и, размахивая испорченным головным убором, взволнованно толковал поручику: вот оно, новое слово! Не банальное, хотя и справедливое, требование восьмичасового рабочего дня. Нет! Новое слово, долгожданное слово, лучшими умами родины нашей возвещенное, новое всемирное слово, наконец-то сказанное новой Россией… И они обнялись. Нет, нет, не там, где великая Екатерина, а дальше, у Фонтанки, у вздыбленных клодтовских коней. Засим прапорщик быстро, будто опасаясь упустить мгновения, расстегнул все крючки своей бекеши на бараньем меху и, блестя карими глазами, присягнул в том, что никогда, никогда, никогда не станет прищелкивать пальцами, подзывая официанта: «Эй, чеаэк!». Что до «чаевых», то он их и прежде не давал по причине скудости денежного довольствия.
Студент и прапорщик чувствовали себя счастливыми.
В Петербурге росли, в Петербурге вёсны привечали, а нынче словно бы впервой прониклись током живого, влажного, густого и вместе прозрачного света, который так властно высветлял неспящие громады, висячие мосты, даже и дворы-колодцы, и все оторачивал по краям голубеющей тесьмою. А на Фонтанке, пока еще не рваной от толкотни дровяных барок, свет этот шелковисто шелестел.
Ощущая свое вольное пребывание в приливах света и воздуха, свежесть свою ощущая и мускульную упругость, молодые люди пришли на Фонтанку, 16, к подъезду департамента полиции. Вот здесь-то они и встретили г-на Достоевского. Впервые встретили, я это утверждаю.
Прошу не заподозрить явленья двойника. Согласен, на этой же Фонтанке г-н Голядкин набежал нос к носу на г-на Голядкина. Так и вы согласитесь, что царя-то еще не свергли. Это раз. А во-вторых, погода-то была не нынешняя, а совершенно гадкая, какая бывала в Петербурге только в изображении Достоевского. Наконец, прошу не считать господина, встреченного студентом и поручиком, за призрак, улизнувший с той стороны речки, где угрюмился Михайловский замок. А там, как убили Павла Первого, так и завелись призраки. И перевода им не было. Да, в замке находилось Инженерное училище. Что из того? Над привидениями не властна даже генная инженерия.
* * *
Правобережный дом, ровесник замка, казной был куплен для графа Бенкендорфа, его жандармов, стал прозываться шефским домом. То было в год Тридцать Восьмой. Как раз в тот год левобережный замок принял новичка. Воспитанником Инженерного училища стал Федор Достоевский, белокурый вьюноша плотного сложенья. Лицо у него было серое, малокровное, землистое. Могло показаться, что на нем лежит печать неявных подполий этого замка, освещенного скудно, можно сказать, с тайным умыслом плодить нежить. То есть пребывал ненатурально, а в состоянии, позвольте вам сказать, предощущений. Теперь – с Тридцать Восьмого года – и натурально, на казенном коште.
В военных заведениях трудненько отыскать уединенный уголок. В лицее каждому по келье-комнате, роскошный парк. А здесь ты постоянно на виду: классы, дортуары, плац. Насилу Федор Достоевский отыскал подобие уединения. Второй этаж, овальная камора и длинный узкий угол, точно амбразура. Стул, столик и свеча. В своем подсвечнике чугунном она раскачивалась, трепетала, то вверх выстреливала, то поникала – она стояла у окна. А рама-то рассохлась. Сквозь щели дули ветры вариацией к параграфам инструкций, и сами эти ветры, как параграфы, были тонки в поясе. Окно, внизу Фонтанка, фасады бурые иль красные, как и закаты.
С той стороны Фонтанки огни Михайловского замка пугали поэтессу, ей чудилось: а Павла-то все убивают, убивают… Нет, били и убили в опочивальне, там окна были на Садовую. Не вчуже, не сторонним взглядом смотрела на Михайловский Ахматова. Но – со стороны.
А я бывал внутри. И не однажды. Признаться, занимал не Павел, а Семен Великий, сын незаконный. Плохой я патриот, мне выблядки милей царей. Но… Я сам себя и осажу и осужу. Выблядок?! Э нет, рожденный честной прачкой. Они, имея соблазнительный наклон то ль над корытом, то ль над живой водой, воспламеняли Павла. Ах, сладострастник, хоть в малом теле, но здоровый… Так вот, его сынок, Семен Великий, служил во флоте, чины выслуживал, как все, и сгинул где-то в круговерти антильских ураганов. Ужасно, но романтичней мартовской полночи в чаду свечей и мглистой влажности дворца, где погиб отец Семена.
Государь Павел Петрович жил в замке 40 дней. В сороковины дворец был окнами почти что слеп. Обитала дробь – мелкие служители, сторожа. Да вот из главных – Иван Семенович Брызгалов, кастелян. Он оставался и потом: при разных ведомствах, при Инженерном замке.
Мафусаилов век отжил. Наверное, потому, что, как Мафусаил, он книжек не читал. А может, майор, офицер сухопутный, чурался маринистики? Жаль. Ваш автор не чурался, оттого и хаживал часто-часто в Михайловский замок: там была библиотека. Морская. Заведенная еще Петром. Хвала хранителям!
Но не скажу я исполать строителю. Дурак испортил песню. Строитель – и хорал? Доделки, переделки, перепланировки. Оно, конечно, докуки жизни. Да выбирайте, черт вас задери, подальше закоулок. Партитура, сочиненная Баженовым, была изгажена при размещеньи Инженерного училища.
Однако эту партитуру превосходно знал кондуктур.[3]3
Не путать с упомянутыми выше водителями московских и петербургских трамваев. В данном случае: унтер-офицер, воспитанник инженерных или иных строительных ведомств. – Д. Ю.
[Закрыть] Он слышал музыку баженовской архитектуры. И на полях тетрадей рисовал не женский профиль, нет, готическую башню, подъемный мост иль арку.
Ужасно прозаически нам сообщает спецлитература: Ф. М. Достоевскому была известна «историческая топография» Михайловского замка. То есть Инженерного училища. То есть alma mater.[4]4
Мать кормящая (лат.) – почтительное наименование студентами своего университета.
[Закрыть] Знал. И помнил. Однако не в общестудентском смысле. И не в юбилейных фимиамах. Не в ностальгии по сладости и дружеству. Не в веселом столкновении пивных кружек, налитых всклянь: «Gaudeamus».[5]5
«Возрадуемся» (лат.) – студенческая песня.
[Закрыть] Другое! Решительно другое. Суть в духовном кормлении, в духовном развитии, даже и в обретении профессиональных навыков. И только одного из кондуктуров. Самого не карьерного, не фрунтового, не строевого. Ходит понуро, повесив голову, руки сцеплены за спиной, как у арестанта. Движенья угловатые, порывистые, как, извините, у новобранца из евреев, ему ненавистных. Мундир сидит худо, воротник терзает подбородок, а кивер, ранец и ружье – вериги.
Эх, я не ротный командир и не фельдфебель. Меня не занимают выправка и стать, любовь к ружью и ладный ранец. Ходил, расхаживал вокруг да около – не отпускали два вопроса. И первый – об этой самой топографии. Ведь она ж исчезла до того, как Д. пришел в училище. Ну, скажем, в «Бесах» он сам себе был хроникером, зачем и для чего, нам объяснил Карякин Ю. А кто же был Вергилием под крышей замка?
Гадал, гадал и догадался. Знать, не напрасно заявлялся в замок и слышал птичий грай в его саду, тот крик ворон, который мне известен в другом краю, в другом углу и тоже мрачном, а в том саду Михайловского замка неимоверно громкий в ночь, когда колонны заговорщиков пришли к воротам, к подъемным мостам. Прошу зарубку: замок был окружен водой, как остров, имел подъемные ходы. Но это все какие-то неясные, несвязные наития, а вот реальность четкая: Брызгалов. Не путайте с Брынцаловым; тот мильонщик, а этот штаб-офицер. Но, впрочем, оба из крестьян.
Майор – старик, красивый, как селянин кисти Тропинина; ростом – гренадер; морозами он выдублен еще на гатчинском плацу. Майор Брызгалов в латаном мундире, таких никто не носит; треуголка вытерта донельзя; ботфорты с раструбом, а подколенный вырез измочален. Трость саженная зажата в кулаке. Стучит, стучит. Майор идет, ему уж девяносто лет.
Он был майором еще при Павле. Давным-давно в отставке, в замке имеет он жилплощадь, его никто не беспокоит. Он бывший кастелян. Я тоже, как и вы, услышав «кастелян», подумал о завхозе. Ошибка! Род коменданта. Иван Семенович имел надзор за «подниманием и опусканием мостов». И тут нельзя нам не смутиться. Нам Пушкин звучными стихами описал ночь убиенья Павла: «Молчит неверный часовой, / Опущен молча мост подъемный. / Врата отверсты в тьме ночной / Рукой предательства наемной…» Постойте, г-н майор! Не вашей ли рукой опущен мост подъемный? И не мелькнул ли вам тогда Иуда? Нет-с, в том Ваня-старичок не каялся.
Вообще ж в знакомых Иван Семенычу семействах он не держался, как говорится, нараспашку. Но не был и застегнут на все пуговицы от кадыка и до пупа и ниже. С теченьем лет он делался все откровеннее. Помре Благословенный – майор тотчас к легенде о государевом исчезновении в Сибири прибавил «психологию» раскаяния: ведь цесаревичем наш ангел, наш Александр Первый глядел на умысел злодеев сквозь белы пальцы. Он был отцеубийцей, хотя и не был в страшный час в опочивальне своего отца. Отцеубийца в мыслях. (Кому же не охота убить отца? – сейчас, сейчас, я к этому веду.)
Увы, всех сверстников Иван Семеныч проводил на разные погосты. Немалое число и отпрысков их тоже. Для старика майора, зажившегося в замке, Петербург стал пуст. В кадетах, в кондуктурах нашел он конфидентов. Кадеты-пострелята бледнели и дрожали, когда сквозняк пред ними двери отворял, когда в ночах дискантом беседовали половицы, средь них ведь сохранились лаковые, как и при Павле. Да, меньших бросало в дрожь, майор им усмехался ласково, как дед, пугнувший пострелят бабой-ягой. А кондуктуры, первый Достоевский, были, как говорят, само внимание, и это льстило старику. Майор ходил Вергилием Михайловского замка. И вот вам «историческая топография». Не слышите ли отзвук: в доме Карамазова было множество «разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лестниц».
Прятки… Неожиданности…
Баженовской архитектурой прониклась архитектоника романов; музыка в камне организует прозу. Прибавлю к замку Павла – Павловск. Черный мрак, где ели. И морок странного предупрежденья. Нигде в иных из царских резиденций нет в регулярной парковой красе таких прорывов жути, ну, будто сыч вас выживает. Как раз ведь в Павловске так напряженно-страшно за князя Мышкина.
Чуланчики… Прятки… Неожиданности… Подагрический почерк брызгаловских ботфортов… И прочерк в сочинениях, еще не существующих… И снова, снова ботфорты с раструбом и подколенным вырезом узоры чертят, трость аршинная стучит по камням, половицам…
Ты скажи-говори, как замолаживало мартовскую ночь, когда царю был карачун. Та ночь с историей играла в прятки, но сближалась с днем июньским, сухим и пыльным, когда раздался крик: «Ребята, карачун ему!» – и удавили душегуба Достоевского. Душила Павла артель дворян, их было десять иль пятнадцать, как говорится, непосредственных. Душила Достоевского мужицкая артель, числом таким же. И первый, и второй – садисты; и первый, и второй – паучье сладострастье; и первый, и второй в самообмане управленья вскипали самодурством. И крепко пили, и крепко били. А их добили. Павла тяжелой табакеркой, золотой, на то и государь всея Руси. А Карамазова, по отчеству он Павлович, хватили пресс-папье, чугунным, но тоже, знаете ли, фунта три. Убийца кто? Школяр ответит: «„Незаконный“ Смердяков». Да, исполнитель. И он за неимением поблизости осины себя на гвоздике повесил. (Не это ли нарисовал московский вышеупомянутый художник? А публика: распяли, нас распяли…) Да, исполнитель Смердяков. А подлинный убийца – сын родной, «законный», Карамазов Иван Федорович, вот кто. Так али не так? Нет спора. И Смердяков… Послушайте, граф Петр-Людвиг Пален, павловский клеврет из первых, граф угадал: наследник цесаревич Александр не супротивник устранения отца. Да только чтоб руками-то чужими, а он свои умыл бы. Ну-с, отчего бы Смердякову, он тонок был, претонок, не угадать желание Ивана? Да-с, угадал, до времени играя в прятки, чтоб вышла неожиданность.
Известие о страшном убиенье батюшки он получил в Михайловском дворце, в канун отправки на летние биваки в Петергофе. И пролил слезы. Но не излил ни отвращенья – перегар и папенька нерасторжимы; ни гадливости к растлителю дитятей; ни униженья скаредностью… Все это не избыл, не выплакал, забвению не предал… И вот кричит нам Карамазов-сын: «Кто не желает смерти отца? Все желают смерти отца». А может, это и не Иван Федорович кричит? Я и вас спрашиваю: может, и не Карамазов криком кричит, а тот, кто сказал: романа не напишешь, коль ты не запасешься одним иль несколькими потрясающими впечатленьями, пережитыми сердцем. И для него, не для царя Баженов создал этот замок.
Уединенная овальная камора. Там длинный, узкий, словно выстрел, угол. Стул, стол, свеча. Огонь метущийся: щелистую раму пронизывают ветры разных румбов. Он зябнет, шинель внакидку иль одеяло, и в этом нарушенье дисциплины. Внизу, как из чертежной тушь, деревья. Их листья, помню, неприятные на ощупь, перенабухли влагой. В береговом граните – чугунное кольцо, за этот рым крепили шлюпку. Судачили: на шлюпке сбежал от гибнущего государя его любимец граф Кутайсов. Сбежать-то он сбежал, да не на шлюпке. До середины марта Фонтанка подо льдом. Конечно, в марте лед не матеруй, а пористый и рыхлый, лед-багренец, но судоходство-то еще не пробудилось. И, значит, плут и трус Кутайсов задал лататы не по воде.