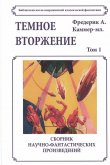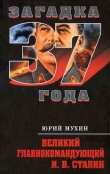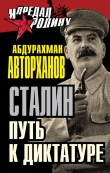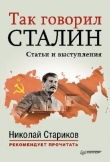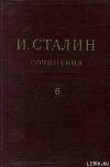Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Предваряя запретный процесс, Евно Фишелевич надевал халат, домашние туфли, усаживался в кресло; он становился похож на трехбунчужного пашу, которому вот-вот подадут длинную трубку с маленьким чубуком и воду… что-то еще, необходимое для курения кальяна. Запах и дым асмоловской продукции перемещали Евно Фишелевича в Ростов-на-Дону. По-старинному сказать, уносили его мыслью в город детства и отрочества, и он всякий раз выходил из вагона на вокзальный перрон, хотя в детстве и отрочестве никуда не ездил. А вся штука в том, что этот громадный красного кирпича, с башенкой, часами и флагом вокзал отправлялись глядеть семьями. Считалось, что солиднее этого железнодорожного сооружения во всей России не сыщешь, говорили: «Ворота Кавказа» – и он, мальчик Евно, чувствовал горделивую причастность к этим Воротам.
Засим толстая турецкая папироса перемещала Евно Фишелевича на перекресток Большой Садовой и Таганрогского проспекта, к Гранд-отелю г-на Кузнецова. Но его нельзя было даже и сравнивать с г-ном Асмоловым. Не потому только, что Василий Иванович, статный старик, красивый великорусской красотой, владел табачной фабрикой, вот этими, в частности, толстыми турецкими папиросами, и даже не потому только, что он украсил город великолепным театром, Шервуд строил, тот самый, что в первопрестольной– Исторический музей. Нет, гимназист Евно Азеф ставил Асмолова неизмеримо выше Кузнецова, предполагая в последнем богача наследственного, а в первом – творца собственного счастья. В нелегальном кружке социал-демократического толка Евно озадачивал зеленых марксидов: он настаивал на том, что таких, как Василий Иванович, нельзя экспроприировать… Прыщеватый социалист держал на уме предположение – а вдруг фатер разбогатеет, придет мишигине-погромщик да и заорет: «Буржуй! Отдавай-ка все трудящимся!»
Ах, боже мой, фатер, флигель, фигли-мигли… Поднять семерых – троих сыновей, четырех дочерей – это вам не классовая борьба. Старый Фишель, отличный портной, обшивал даже частного пристава. Честь! Старый Фишель, отдавая заказ, кланялся. Однажды и навсегда г-н пристав избавил старого Фишеля от надежды на гонорар; как бы даже задумчиво и вместе брезгливо г-н исправник несколько раз ударил старого Фишеля по лицу лайковой перчаткой. Честь! Фатер денно-нощно сиживал, подогнув одну ногу, а другую свесив, на широченном портняжном столе, зубы-резцы у фатера крошились. Мировую скорбь он не принимал. Его сентенции философического ветхозаветного свойства завершались ироническим «э!» и косо приподнятым плечом. Детей своих он любил, хотел, чтобы все они кончили курс гимназии или курс реального… В эти минуты толстая турецкая папироса не то чтобы дымилась, а прямо-таки исторгала сизый, как рассвет в Трапезунде, дым, и я не могу не поддержать боевиков, близко знавших своего шефа, – глаза его были добрыми-добрыми.
И вот что могу удостоверить. Семейство Азефов теснилось в неказистом щелистом флигеле на Кузнецкой (теперь, кажется, Пушкинская?). Потому и вспоминаю, что именно в бывшем гнезде Евно Азефа в тридцатых годах был прописан университетский студент, впоследствии мой лагерный приятель, коего черт догадал высоко оценить бухаринскую «Азбуку коммунизма». Я об этом к тому, чтобы вы, дети, не ходили в Африку гулять. Правильно я говорю? Ты слышишь меня, Костя? Иль там, у Туруньи, шумит тайга и ничего не слышно?
Ни азбука, сгубившая Костю М., ни грамматика боя, ни язык батарей, ни алгебра революции не брали Азефа за душу. Коммунизм он отрицал дельно: всем хорошо никогда не будет. Между прочим, намеки на то, что Азеф ничего не читал, кроме гимназических учебников и курсов политехникума, – напраслина. Чита-ал. И находился в круге чтения своих товарищей. Вот только никто его не перепахивал. Ни Чернышевский, ни Михайловский. Последнего он в ту годину перечитывал. Ужели искал нравственное оправдание своим «деяниям»? А черт знает. Говорят, каждого настигает эта потребность. С разной степенью напряжения, подчас вроде бы червячка, но настигает. Такое вот сочинение его привлекало – «Борьба за индивидуальность». (Как замечательно говорил покойный Юра Коваль: борьба борьбы с борьбой.) Тут, значит, такое: борьба нашего «я» за расширение пределов своего личного существования; выяснение отношения различных форм общежития к судьбам личности… Евно Фишелевич не то чтобы четко понимал теорию относительности; он ее прагматически ощущал. И не в том пресловуто-постулатном смысле: дескать, ежели Бога нет, то все и дозволено. А пересмотром взглядов на дозволенное и недозволенное. Дважды два в будущем не обязательно четыре. Может, и вся таблица умножения – в помойку? Ибо все и вся временно и временное. Каждая теория нравственности изменяет фасон кандалов, надетых на твое «я»; каждая – смесь смелости и трусости, как, собственно, и каждое «я».
Бурцев загнал в угол? Эсеры за борт выбросили? А он, милостивые государи, наиглавное выиграл, свой Аркольский мост выиграл: борьбу за свою индивидуальность. Они думают, что он казнил Плеве, министра внутренних дел, за то, что покойник был гасильником добра, реакционером, виновником несчастной войны с Японией. Так-то оно так, ан корень иной. Он, Евно Азеф, допустил убийство… нет, казнь… за то, что этот мастер внутренних дел способствовал кишиневскому погрому. Но на счету этого мстителя за евреев числились и евреи, загубленные тем же мстителем: бомбисты, террористы, динамитчики. Все его конспиративные клички – эсеровские и департаментские – сошлись, слились в одну-единственную: Иуда, наместник Иуды. И он, я говорил, испытывал потребность в объяснениях. Последнее требовало напряженной работы мысли непрагматической, не свойственной складу его ума. Задачу свою он формулировал замечательно: «Иуда был, но был ли он иудой?».
Так и озаглавил короткую рукопись, выполненную на Смис-Премье № 4, отчего она имела лиловый цвет. Принадлежность этой пишущей машины г-ну Азефу удостоверяет пишущий эти строки. Авторство г-на Азефа – некто Ъ, имя которого пока не подлежит оглашению. То был конспект беглых соображений. Не всегда последовательных, но неизменно– в соответствии с методом антропоцентризма. Так же, в сущности, как и у Андреева с Головановым.
Но обращение литераторов к Иуде представлялось Евно Фишелевичу посягательством на его, Азефов, сюжет. Посягательством дилетантов. Зато сам по себе интерес к историческому Иуде придал Азефу неожиданный вес в собственных глазах. Эйнштейн открыл зыбкость прежних фундаментальных представлений. Не зыбятся ли вместе с ними и мораль, нравственность? Мысль эта прельщала Евно Фишелевича. Кроме того, он ощущал некие глубины, не доступные литераторам хотя бы потому, что они не были евреями. Но тут-то бывший шеф боевиков-социалистов, а ныне удачливый коммерсант, тут-то он и начинал путаться, плутать, недоумевать. К тому же Азефа, ни во что не верившего, почему-то возмущало и оскорбляло, что его древний малый народец считают иудиным племенем, а не христовым.
Возвращаюсь к лиловой рукописи (такие уж ленты были, как и чернила, лиловые), выполненной на пишущей машине Смис-Премье № 4. К машинописи, озаглавленной: «Иуда был, но был ли он иудой?».
Выскочу навыпередки – уж больно не терпится утешить проницательных людей от всяческих наук. Даю вам нота бене: эта же лиловая рукопись, хотя и писана Евно Фишелевичем, допустившим своекорыстное убийство Плеве, содержит замечательные положения и выводы, представьте, антиеврейские. Ха-ха!
Рукопись, повторяю, конспект беглых соображений, удивляет весьма свободным плаванием Азефа в сфере, совершенно чуждой ему, инженеру-электрику, а равно и двухкорытному агенту-провокатору. Не обошлось, сдается мне, без того же Ъ. (Полагаю, еще несколько лет, и я заменю эту литеру, которой он метил свои печатные работы, настоящей фамилией, отсутствующей даже в масановском словаре псевдонимов.)
Выписываю кардинальное.
* * *
I. Имя «Иуда» толкуют как «Воитель»; «искариот» – как искаженное «sicarius», то есть «кинжальщик». Стало быть, Иуда, сын Симона, принадлежал к крайним левым, к зилотам. Среди 12 апостолов был еще один зилот, галилеянин Симон, впоследствии казненный.
II. Иуда не предал Христа, а передал Синедриону. Тут был двойной расчет. Верховные еврейские правители спасут выдающегося сына народа от посягательств чужеземцев-римлян. Пребывание Иисуса в узилище отзовется усилением любви народа ко Христу, а также заставит его отказаться от маниловщины в пользу действий энергических. Таковы были намерения и поступки Иуды в отношении плотника из Назарета.
III. Предательство Иуды – навет. А вместе – вопрос, некогда тактический, превратившийся в вечный двигатель антисемитизма.
Привожу «технические» подробности. Мера пресечения, т. е. арест Христа, была решена прежде появления Иуды во дворе первосвященника. Эта мера имела не столько идеологическое обоснование, сколько мстительно-экономическое. Иисус изгнал торгующих из Храма. Место торговли в Храме стоило дорого. Плату за эти места получали приближенные первосвященника. Стало быть, благочестиво-гневный поступок Иисуса Христа имел досадные последствия.
Тайную вечерю Иуда покидает по приказанию Христа. Разумеется, вовсе не для того, чтобы выдать явку. Между прочим, даже конспиратор-молокосос согласится, что явка была выбрана Христом легкомысленно, в связи с приходом какого-то водоноса.
Далее. Нам говорят, что мудрецы Синедриона поручили Иуде навести городских стражников и римских легионеров на Иисуса. Нелепость этого поручения отмечена самим Христом: вы, говорит Он, меня знаете; вы говорит Он, меня слушали, видели в Ерусалиме. (К тому же, говорю я, зачем, для чего было Синедриону загодя обнаруживать осведомителя или даже штатного секретного сотрудника?) Приходится согласиться с Каутским, хотя он и тезка, и ученик Маркса, а не Христа. Представьте, смеясь пишет Каутский, что берлинская полиция нанимает шпиона, дабы тот указал ей субъекта по имени Бебель.
IV. Следует обратить внимание на обилие индивидуальных черт Иуды Искариота, представленных в текстах Нового Завета. Ни один апостол так не портретирован, как Искариот. Корыстолюбец и скряга. Оспаривает затраты на благовония для омовения Его натруженных ног. Намеки на то, что Искариот крепко на руку нечист. Из партийной казны ссужает не сирых и нищих, а своих дружков-коммерсантов. И черта, всё определяющая: он не из наших, не галилеянин.
V. Десятилетия спустя после распятия Распятого свершилось общееврейское восстание. Империя разгромила провинцию. Начались гонения. Тору запретили. Что было делать христианским общинам, объединившим евреев? Поставить себя особняком. Размежеваться с вчерашними единоверцами. (Между прочим, каков пассаж! Первые христиане – долгоносые, пархатые, обрезанные!) Отмежевываясь, обелить римлян, обелить Понтия Пилата. Не они распяли нашего Господа. Евреи распяли нашего Господа. И первый злодей из прочих злодеев– некто Иуда, сын Симона, рожденный в Кариоте. Таков путь к государственному, имперскому разделению христианства и малого мятежного народа.
Распространяется христианство, распространяется и антисемитизм, рожденный евреями-выкрестами. Отсюда – дописки и приписки в Евангелиях. Новый Завет содержит антисемитское электричество.
VI. Но тот же источник указывает на Иуду как на исполнителя Божьего замысла. Теология объявляет его поступок не благим, но способствующим благому, то есть спасению людского рода.
Следовательно, Иуда был, но не был он иудой, а был ВЕЛИКИМ ПРОВОКАТОРОМ, чему синоним – Локомотив Истории.
* * *
Во Франкфурт-на-Майне доставил Азефа локомотив, номер которого не установлен. Он приехал не ради посещения дома, где родился Гете. И, уверяю вас, не для занятий в общественной библиотеке, учрежденной Ротшильдом. Поездка не была и коммерческой. Не имела она… Нет, все-таки имела отношение к деятельности департамента полиции, о чем, скажем прямо, г-н Азеф нисколько не помышлял.
Современный читатель волен предположить карательную акцию супротив бывшего агента. Не дождетесь! Да и вообще не следует подозревать тузов спецслужб в отсутствии добрых чувств к потерпевшим крушение коллегам. Нет, судари мои, и лампасы любить умеют. Евно Фишелевич рассчитывал на солидный пенсион. Не меньший, чем положен товарищу министра внутренних дел. И был прав, заслужил. Но годы шли, а пенсион не приходил. Не станем удивляться, любовь лампасов тоже, знаете ли, имеет пределы. Впрочем, как им было не задаваться вопросом: господа, а на чью мельницу больше воды-то вылил наш сотрудник из кастрюли?
Ловко, однако, стило повернулось! Прямехонько по завету классика: словам – тесно, мыслям – просторно. Из слов что вытекает? А то, что наместник Иуды лил воду на мельницу из какой-то кастрюли. Но мыслям-то, мыслям какой простор. Напоминаю: учился Азеф в политехникуме города Карлсруе; оттуда, из Карлсруе, он доброхотно связался с Департаментом полиции. Посему и упомянут в некоторых документах Особого отдела «сотрудником из Кастрюли» – то-то, видать, запьянствовал пом. делопроизводителя.
Так вот, о мельнице и воде. Теперь он сам, задаваясь этим вопросом, произвел подсчет. Он готовился к диспуту с кем-либо из эсеров первой гильдии. И никакого искательства, никаких сетований на обстоятельства, на власть случая. Все гиль! Спокойствие обладателя истиной, мудрецам не снившейся. Даже и сионским, хе-хе. Нет, объективный подсчет – на чью мельницу он, Азеф, больше вылил воды? И докажет – на мулен руж, на красную.
Нужна была реабилитация. Нужно было оправдание. Не ему, Азефу. Не для партии, черт ее возьми. Мария! Бедная Мария!
Пора вас уведомить, что г-н Неймайер получал письма из Швейцарии. Доктор Розенцвайг, директор психиатрической лечебницы в Локорно, регулярно сообщал о здоровье фрейлейн М. В ответ аккуратно следовали благодарность и денежный перевод на содержание и лечение фрейлейн М. Недавно эта молодая женщина, заливаясь слезами, открыла лечащему врачу, кто такой г-н Неймайер. Директор Розенцвейг удвоил внимание к пациентке. Фрейлейн М. была теперь объектом его научного сообщения в немецкий журнал – что-то об уме и инстинктах… Название доклада столь многоукладно, что утрачиваешь все инстинкты, кроме самосохранения…
В Ростове их было семеро. Семеро детей старого Фишеля. Младшей была Манечка. Не красавица, нет. Зато глаза яркие; ярко-черные. Сказал бы «загадочные», да уж столько раз говорил, а потом выяснялось, что нет никакой загадки, а есть дрянь.
Когда газеты, как с цепи сорвавшись, примчали в Ростов известия о Евно, во флигеле с облупившейся вывеской «Портной Азеф» наступило отрешенное существование китайских теней.
Старый Фишель, в отличие от чад своих, не примыкал ни к одной крамольной секте. Дети – другое дело. Он им не перечил, он за них боялся; филеры, говорил старый Фишель, устремляются за вами, как нитка за иголкой. Прежде он молился на царя, после кишиневского погрома перестал. Однако никогда не грубил кесарю. Он понимал, что его старший сын служил и бунтарям, и полиции, и это был редкий гешефт. Гешефт этот, по мнению старого Фишеля, навлекал страшное проклятие на весь род Азефов, и старый Фишель, раскачиваясь на широком портняжном столе, тихо плакал.
Беспокоясь за сыновей-дочерей, патер фамилии преувеличивал опасность. Они, конечно, помогали хранить нелегальщину или, озираясь, расклеивали листовки, призывающие бастовать ростовских рабочих. Но к динамиту, к бомбе причастности не было, а значит, не было и серьезной опасности. Теперь же наступило время, ни с какой опасностью не сравнимое. Дети старого Фишеля втянули головы в плечи, отводили глаза от встречного-поперечного, чувствовали едва ли не общее глумливое презрение. Как-то незаметно, ни с кем не прощаясь, семейство исчезло из города, рассеялось, расточилось, будто и не жило на Кузнечной. Могу лишь сообщить, что один из братьев Азефа учился в Петербурге, но и там, во студенчестве, он, без вины виноватый, ощущал этот гнет; уехал из России, если память не изменяет, в Австрию.
Об этих безысходных исходах Азеф знал. Не стану утверждать, будто виновник несчастий всего семейства ночей не спал. Он досадовал, что им невдомек глубинный смысл его поступков. Но бессонница посещала Евно Фишелевича: он думал о младшенькой, о Марусеньке. Доктор Розенцвейг сообщал г-ну Неймайеру, что фрейлейн постоянно находится на каком-то Лисьем мысе, близ Кронштадта, что там среди длинных тонких сосен, в которых путается рассвет, вешают людей, и она, фрейлейн М., виновна в их гибели, и что разобранную виселицу привозят из Петропавловской крепости, собирают тайком, фонари светят, фонари желтые, толстые, похожи на сову, на филина; вешают на рассвете, и Манечку тоже, потому что она виновна в том, что этих людей предала…
И если уж говорить с прямотой, за которой пропасть или обморок, то Азеф-то и приехал во Франкфурт ради Манечки. Предстояло важное, может быть, для Манечки спасительное рандеву в кафе на старинной Hirschgraben. Там пахло рекой, железом, пароходным дымом. Отпустив извозчика, Азеф почувствовал знакомую боль в сердце – трещина там, трещинка. Так случалось почти всегда при мысли о Манечке. Но тут вдруг прихлынул знобящий сумрак, и он совершенно явственно, всей плотью внезапно сделался тем человеком, который, опустив массивные плечи, бежал, словно ныряя, из Парижа, спасаясь от кинжальщиков-зилотов, от своих же боевиков бежал, от бумеранга бежал и, казалось, убежать не мог, как во сне. А между тем ведь накануне поездки Евно Фишелевич получил твердое заверение в личной безопасности. Заверил тот, кого он называл маньяком.
* * *
Так костерил он Бурцева. Мне неохота с этим согласиться. А вот уж г-н Рачковский… О, Петр Иванович преследовал В.Л. маниакально.
Как много украшенью человека способствует карьера в тайном сыске. Пример тому Рачковский. Ему бы место на тесной полке «Жизнь замечательных людей». Я, помню, предлагал. Со мной не соглашались. Которые из либералов, морщились; в их представленьи служба в царском сыске неприлична; другое дело ВЧК. Которые из русофилов брезгливо полагали, что Петр Иваныч «из евреев». Которые из русофобов намекали: мол, он из выкрестов. Все вместе ждали от меня искусности а ля Семенов Ю., чего я обещать не смел. Короче, плюрализм возможен; консенсус исключен. Но как бы ни было, Рачковского не обойти и не объехать.
Да, он из главных лиходеев. Но он и примечателен как разновидность иудиной породы; ей нет извода. Рачковский мог бы и Азефа превзойти. А впрочем, пожалуй, превзошел, пойдя иным путем.
Сейчас подумал, как важен Юг в развитии страны. Оттуда и дантоны, и дантисты, и сыщики, и террористы, и стрекулисты, и марксисты. Мигрируя на Север, они, в Москве почти не оседая, бросали якорь на Неве.
Во питерском студенчестве Рачковский Петр слыл радикалом; к тому же рьяным. Различие с Азефом вот: тот доброхотно нанялся, а этот шибко напугался высылки в Сибирь. Какой же русский ее боится?! Она ведь тоже русская земля… А Петр Рачковский: ой, ай, я не хочу-у-у. Хватался за голову, хватал и за грудки: ах боже мой, за что?! Да, он знал студента, который укрывал преступника; велик ли грех?! Грех невелик, да вот крючок востер– ему было предложено: Сибирь иль служба в органах… Он выбрал бы Сибирь, но БАМа не было. Он предпочел… Ну, что тут рассуждать, качая головой? И рьяный радикал, подумав, принял радикальное решение.
Здесь опускаю многое, поскольку слышу: «Смотри!», – смотрю, на улице Гренель, у врат посольства играет тростью мсье, служивший некогда на русской почте. Не ямщиком, а младшим сортировщиком. Ого, какая сортировка! Он нынче чиновником особых поручений МВД, живет не где-нибудь… То есть живет, конечно, но это называется – имеет крышу в особняке семнадцатого века на улице Гренель. О-о, этот особняк! Доселе обитают там послы с послицами. А родина гордится роскошью особняка. Особенно добром и красотой, материализованной во дни парижского визита последней императорской четы. Какие там салоны, какие люстры-баккара, посуда, мебеля, картины.
В таком особняке приятно, лестно крышу заиметь, и Петр Иванович Рачковский имел на это нравственное право, коль скоро разрабатывал доктрину о подчинении всех левых иудейскому влиянию.
Сейчас, однако, нам не до евреев. Идет Рачковский на рандеву с какой-то там мадам Бюлье.
Э, почему «какая-то»? Да, на Фонтанке, в департаменте об этой Лотте услышали впервые. И не единой справки ни в одном отделе: ни в Справочном, ни в Регистрационном, ни в Особом. Всеведающий департамент неведенья не терпит. Ему, Рачковскому, поручено разведать.
Приторможу, припоминая специфическое объяснение, которое сперва мне показалось идиотским. То было после смерти Сталина, навзрыд оплаканного всем народом, за исключеньем нашей «пятьдесят восьмой».
Я обратился за историческою справкой к начальнику архива, что на московской Пироговской. Начальник был родного цвета хаки, погоны с голубым просветом, глаза без всякого просвета. Он принял меня сухо. А, собственно, зачем же улыбаться на посту? Я задал свой вопрос: нельзя ли, мол, установить, такой-то был иль не был осведомителем тогда-то? (Речь шла о девяностых в девятнадцатом.) Начальник цвета хаки, покуривая, вдумчиво рассматривал меня. Решал, кто ж это заявился в кабинет: переодетый ревизор или придурок, плохонько одетый. Признав последнее, он успокоился и был, по-моему, доволен. Стал объяснять. Сводилось, если кратко, к следующему. Положим, такой-то действительно такой-то. Вы это публикуете в статье иль диссертации. Ее прочтут они. (Они ведь все читают.) Теперь давайте рассуждать. Такой-то, который, значит, был такой-то, умер. А сын иль внук живут. Он поощрил мой умственный процесс полуулыбкой бледных губ: возможно ли, как думаете, а? Я кивнул согласно. Он продолжал. Тогда они, которые у вас-то прочитали, отыскивают потомков такого-то… Тут он повесил паузу, как гирю в полсотни килограммов. И, словно бы подкравшись к жертве, объявил: они потомка-то пугают и вербуют… То есть как же это, «чем пугают»? Родством с врагом народа. Ведь тот осведомитель, тот ведь не был помощником наших органов, нет, служил в тюрьме народов. Понятно? Вот так-то, дорогой товарищ… И дорогой товарищ, ошалев, ретировался.
По этой же причине позвольте-ка не называть осведомителей Петра Иваныча. Охота ли способствовать французским органам? И никакой охоты досаждать потомкам тех наблюдателей-французов, которые работали на нашего Рачковского. Но одного я все же назову, он опочил бездетным: Анри Бинт, кузен мадам Бюлье. Он смолоду сотрудничал с Петром Иванычем, засим завел свой сыск, был вхож в советское торгпредство в городе Париже. Не правда ли, хорош парниша?..
Но он сейчас не провожает шефа. И это странно, поскольку шеф идет к Бюлье, кузине Бинта. Прибавлю, что кузен не знал о замыслах кузины. Гм, странно, странно… А Петр-то Иваныч уже на ru des Beaux Arts. По памяти рисую: высок и несколько сутул; нос острый, волос темен и ус отменный, подвитой посольским куафером. В руке взлетает трость, в другой– фиалки.
Один парижский лоботряс однажды вспомнил: а знаете ли, господа, мсье Пьер был страстным охотником за маленькими парижанками. Замечу от себя и на ухо: преуспевал. Однако обойдемся без наветов: маленькие парижанки отнюдь не значит – малолетки. Гризетки, цветочницы и белошвейки– всех примечал шалун. С Гонкурами он соглашался: красоту парижанки определить невозможно. И потому, послав воздушный поцелуй, произносил, немножко шепелявя: «О, резвость грации!». Сие он подцепил у Мопассана, да ведь кому охота из уважения к себе ссылаться на другого. Но это все бенгальские огни. Вообще же Петр Иванович был верен огнедышащей мясистенькой метрессе. Живал на ул. Гренель нечасто, все же больше жил укромненько в Сен-Клу.
Мадам Бюлье была объектом, так сказать, служебным, ее досье страдало малокровием. Однако появлялись и черты неординарные.
В ее марсельском детстве обнаружились причуды. И некая странность, которую можно было бы назвать… а, черт знает, как ее можно было бы назвать… она мечтала повторить судьбу креолки Жозефины. Но где б она нашла-то Бонапарта? В надежде славы и добра она возглавила пиратов-мальчуганов. Сильный пол в коротких штанишках подчинялся Лотте. Они опустошали сад аббатства и наводили ужас на припозднившихся прохожих.
История ее замужества темна. Вышла она рано. Ее супругом стал траченный молью скупердяй-богач Бюлье. Он держал немалую виноторговлю. Молодые оставили Марсель. Почему? Бог весть. В Париже они поселились на Rue des Beaux Arts. Увы, г-н Бюлье недолго жил в столице. Он канул в медленную Лету, а Лотта продолжила его негоциации. Но рвения не выказывала. Все это отмечено в досье, заведенном рачительным Рачковским.
А вот и Бурцев в этом же досье. О нем скупей скупого. Всего лишь запись: Бюлье и Бурцев действительно знакомы; он оказал ей какую-то услугу; есть письма, из них, увы, нельзя извлечь указаний политического свойства.
Рачковский, впрочем, держал за пазухой иное мнение. Роль личности в истории он представлял не так, как г-н Плеханов.
Петру Иванычу доносят, будто Бурцев навостривает лыжи для вояжа в Россию, чтоб там, на родине, собрать деньги и регулярно издавать газету. Проблематичная поездка как бы совпадала с проблематичным намерением мадам Бюлье. Пора! Пора составить собственное мнение об этой штучке из Марселя.
Ее предупредили, она ждала визита.
Мсье Пьер идет, играя тростью и ощущая напряжение ноздрей.
Звонок, дверь отворилась.
И что ж увидел зав. агентурой? Момент ответственный. Романист тотчас бы распустил павлиний хвост. А мне мешают учености плоды. На этот раз сей плод кислит, ну, словно бы дичок. Циркуляр имеет нумер 3124, а содержанием имеет приметы иностранцев. И в этом циркуляре: «Французская гражданка Бюлье Шарлотта – приметы неизвестны».
* * *
Она осталась бы иголкой в Сене, когда бы не Фонтанка.
А началось все на почтамте, что на Почтамтской. Разбором иностранной почты заведовал педант. Прочел он адрес: «Главному начальнику полиции России». Поди-ка угадай, кто всех главней. Но наш педант был все-таки болван: он вскрыл конверт, прочел и испугался. И с перепугу переслал градоначальнику. А тот погнал курьера к Цепному мосту. А там сидела на цепи и там ее с цепи спускали – тайная полиция. Педанту на Почтамтской сказали ласково: эй, проглоти язык. Письмо имело предложенье свойства тонкого. Некая Шарлотта Бюлье могла указать на беглого каторжника Бурцева, проживающего в Париже. Мадам подвиг на этот пудвиг патриотизм. Она была наслышана, что президент находит удовольствие в сближеньи с русским государем. Так два лица прекрасной Франции сошлись на платонической любви к царю.
Но есть еще одно лицо. И возникает тонкая материя.
То был директор департамента Дурново. Он получил пренеприятное известие. Осведомитель, внедренный в штат испанского посольства, сообщал: высокородная жена посла прилежно изменяет… О, нет, не лучезарной родине, а высокородному супругу. Какая невидаль? Оно, конечно, никакой, когда б испанка вместе с тем не изменяла и г-ну Дурново, что пахло, согласитесь, изменой нашей родине.
При эдаком пассаже кому пойдут на ум служебные бумаги? А составители бумаг должны предугадать, как наше слово отзовется. А сами по себе бумаги обязаны смекать, в какой момент им отдаваться руководителям спецслужб.
И все ж откуда было знать мадам Бюлье, что некто Дурново, вставая с кресла, ходил в тот день с левой ноги, в окно глядел на мрачный замок, где порешили Павла Первого, а по стеклу стекала перемесь дождя и снега, да и вообще все было мерзко.
А нам-то с вами надо знать, какую важность придавали Бурцеву едва ли не с младых ногтей. Он дерзновенно, самовольно сменил иркутское село на град Париж. Бежал и не попался. Одно ему в зачет: не жид. Теперь вот из столицы Франции сюда вот, на Фонтанку, телеграфно доносили: честолюбец Бурцев, желая прославиться своей энергией, готов пуститься в отчаянные предприятия, дабы возродить в России революционные успехи.
Эта готовность, казалось бы, должна была извлечь г-на Дурново из «испанского» негодования и окунуть в заботы госбезопасности.
Огорченье личное отодвигало соображения служебные. На письме-прошении мадам Бюлье означен род отписки: «Принять к сведению». Но разбег пера продлила опытность почти уж машинальная – продлила в рациональное распоряжение: «Сообщить П.И.Рачковскому».
Петр Иванович, как вам уже известно, не бездействовал. А нынче он нанес визит конфиденциальный. О чем шла речь? Тсс! Имеем дело с заграничной агентурой… Одно скажу вполне определенно: мсье Пьер стал навещать м-м Бюлье. А в департамент на Фонтанке писал он недрожащею рукой: «Я лично с м-м Бюлье сношений не имею».
Так кто же с ней сношения имел?
Наш Бурцев с Лоттой вдруг отправился в вояж. Придется лезть мне в душу сапогом. Прошу простить, Владимир Львович, но это ж назначение ли-те-ра-ту-ры.
* * *
Не такова она была, когда мышей ловила вот эта кошка.
Холмы текли светлей долины, где виноградники темнели. Предвечерье перетекало в вечер топленым молоком – и золотистое, и смуглое. Долины эти дарили белое вино, пил его Петрарка. Пригубливали Бурцев с Лоттой. Синьор Пирлик зажег настольную свечу и нам с Тарощиной налил по рюмке. По-моему, чертовски маломерную, ну, ладно, токай или пинот, такие легкие, веселые, светлые, как солнечные зайчики.
Дом Петрарки и музей (билет мой номер 39203) прекрасен нищетой мемориально-материального, и потому он просто Casa del Petrarca, включенный запросто в ландшафт, как и этот ресторанчик.
Петрарка пел Лауру двадцать лет, ни разу даже в мыслях не задрав ей юбку. Вот какова была литература. Лаура честно прижила детей числом немалым, больше десяти. Петрарка продолжал писать сонеты и письма на классической латыни. Таков был литератор: «Жить и сочинять я перестану сразу». К нему примкнула кошка, ее скелет – в музее. Она мяукала, мурлыкала, мышей ловила – когда? – полтыщи лет тому! И нечего вам в форточку кричать: какое, милая… Лаура, кошка и вино соединились в неожиданном эффекте. Мадам Бюлье предстала в триединстве: Лаура, кошка и вино. Объяснить? Э, выйдет слишком длинно.
Но в департамент на Фонтанке нетрудно было б сообщить ее приметы. Я сообщаю просто так. Кто же за нее теперь заплатит?.. Ну, рядовая буржаузка. От амазонки из Марселя ничего. Тогда был угол, а теперь овал. Овал лица, овал грудей, овал движенья руки над ресторанным столиком, овальны губы в медленной улыбке. А волосы красивые, пушистые, темного блеска. Вчерашний девственник влюблен. Впервые не в народ, и не в идею освобождения народа.
Мне не хотелось, чтобы в этой глупой диспозиции его бы заприметил насмешливый синьор Пирлик… Житель Падуи, женатый на милейшей Чинция де Лотта, профессоре славистики, Пирлик меня с Тарощиной привез, как привозил очередных, принадоевших москвичей, сюда, где жил Петрарка с кошкой полтыщи лет тому назад. Теперь, мучительно скучая, не мог дождаться, когда мы скажем ординарное: «Ах, черт возьми, как мало времени у нас», – и выжать из авто весь газ, и мчаться в Падую, и там курить, курить, курить… И вот уж мною произнесено – мол, жаль, что мало времени, но тут… тут где-то рядом, на веранде, что ли, возникло – негромко, стройно и проникновенно: «Volga, Volga, Mutter Volga»… О матушке о Волге пели австрийские туристы. Черствый человек, я сантиментов чужд. А тут слезинка. «Volga, Volga, Mutter Volga» – австрийцы пели, однако на лице у Бурцева – растерянность, тревога.