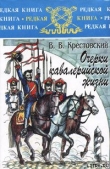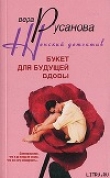Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)
Объятия он не распахивал; был сух, немногословен. Но ежели к тебе расположился – симпатичней поищи. Однажды даже весел был. И похохатывал, и ерничал, живейше рассуждая о трудовых свершениях собрата – издал в двух экземплярах ехидную книжонку; название она имела завлекательное: «Дворянские шалости». Какие, спросите? Отвечу: постельные. Перечень всех, кого дворяне-шалуны произвели внебрачно.
Полагаю, перечень неполный. Откуда, например, узнать, кого прелюбодей штаб-лекарь Достоевский в деревне обрюхатил? И как же во святом крещеньи нарекли младенцев? Сын за отца, само собою, не ответчик; он незаконных передал романам. А вживе не искал. Стыдился иль ленился? А впрочем, и к законным навстречу не бежал. Дистанция необходима; враги-то человеку домашние его.
Племянник же Андрей Андреич, сейчас доставленный трамваем к Ленину, родством не похвалялся. Он дядю чтил, а Льва Толстого перечитывал. Однако на могиле дяди в Александро-Невской лавре бывал в положенные дни, уж на родительскую всенепременно. (В Лавре тогда кого только не встретишь, все и раскланиваются, будто свойственники.) А к дядиной внучатой двоюродной племяннице (так, что ли?), к своей любимой из племянниц Андрей Андреевич приходил еженедельно.
Опять охота покалякать о насельниках Васильевского острова. Достоевский от Лениных жил неподалеку – в 9-й линии, дом 39. Потому и помню, что этажом-то ниже квартировал недолгий мой начальник, подполковник С-ков, приказная строка. А самым старым жильцом был патрон Достоевского, аристократически-барственный, изысканно-вежливый человек с весьма редкостными в наших краях именем-отчеством, фамилией: Петр Петрович Семенов. Но в награду за научные подвиги, в первую очередь географические, получил он добавление к своей фамилии уникальное, в миру единственное: Тян-Шанский. (Я, кажется, об этом уже говорил?) Он долго держал под крылом Андрея Андреевича в Императорском географическом обществе. А дома, на Васильевском, занимая этаж, Тян-Шанский расположил собрание полотен старых голландцев. Прислушайся, услышишь, как под килем шуршит песок, скрип блоков при уборке парусов и тяжкую натугу жерновов, весомый запах рома над бочонками и грузный шаг матроса… Достоевский любил старых голландцев. И жалел постаревшего Петра Петровича. Настолько постаревшего, что поспешил он передать свою редкостную коллекцию, ценимую на родине старых голландцев, в Эрмитаж. Пе-ре-дать, а не продать. Такие, видите ли, люди жили на Васильевском. Не выкинешь из песни Варгунина и Емельянова. О них мне вспоминается в ассоциации со старыми голландцами. Один был на 6-й, другой был на 7-й; держали оба магазины с вывеской: «Паруса и корабельные принадлежности». У гимназистов глаза горели: кто не читал тогда романов капитана Мариетта?
Прибавлю о Семенове-Тян-Шанском. Петра Петровича жизнь все же обделила. Ни разу он, естествоиспытатель, не испытал хотя бы краткое, реальное присутствие Сатаны, то бишь Князя Мрака… Нет, речь здесь не о бесах, о Сатане здесь речь… И Достоевском, каковой служил, согласно штату, в министерстве просвещения и выслужил на Чернышевой площади чин генеральский, то есть действительного статского советника, что я, кажись, отметил выше. Прибавлю лишь одно: сей статский генерал мне больше по сердцу, чем тот, общеармейский генерал-майор, муж Вали-Валентины, которого она не променяла на меня, хотя ведь каждый знает, что флотский кок ровня полковнику… Но Боже мой, какие пустяки. Сам удивляюсь, как можно так забалтываться, коль речь зашла о Князе Тьмы.
Для ясности мне надо указать – Географическое общество имело помещение от министерства просвещения. Заседания происходили в зале окнами в Театральный переулок. А рядом с залою – буфет. В буфете вечно кипящий огромный самовар. Точь-в-точь как и на Витебском вокзале. Чрезвычайно важный, как фельдмаршал. Уж после катастрофы я с ним, изрядно потускневшим, раскланивался в швейцарской, но Общество имело пребывание в Демидовом. Ну-с, отошла Отечественная, зашел взглянуть… тю-тю, нет самовара… Опять же пустяки! Кружу по сторонам? Пожалуй, так мистический мой дар, видать, утрачен еще в яслях. А Достоевский, Бенуа и Мережковский… Ну, и довольно, хватит. Вперед, моя исторья… В зале заседаний был длинный-длинный стол, сукно зеленое. На стенах – географические карты, нет лучше, чем они, абстрактной живописи. А поодаль, в углу мольберт с большим черным квадратом. Не копия Малевича, а школьная доска, врагиня школяров, подруга мела. Да вот и все, пожалуй.
Из заседанья в заседанье «мой» Достоевский не чувствовал космических лучей. И вдруг однажды он приметил две вострых точки. То ль окончания клыков, то ль окончания рогов. Одновременно с Достоевским эти точки заметили и Бенуа, и Мережковский… Однако всем известно, что ни художник, ни писатель к собранию географов не примыкали. Да? Вся штука в том, что в этом зале происходили «сретенья» другого Общества: религиозно-философского. Уточненье совершенно не романное, но автору необходимое без всякой надобности… Так вот они все трое сблизились. И заглянули в угол за мольбертом с аспидной доской. Не то чтоб ужас их объял – встряхнул как электрический разряд. Там помещалось гигантское чудовище!
Бенуа, художнику, оно представилось фрагментом Страшного суда. А Достоевскому ну, вроде двойника тираннозавра. Но тот, что в Академии наук, составлен был лишь из костей. А этот был покрыт густейшей черной шерстью. И пасть с клыками вся в крови. Тираннозавр имел глазницы, а этот – глаза, глазищи вытаращил – блеск гильотинного ножа, но не бессмысленные, нет… Мережковский пригладил бороду и, криво ухмыльнувшись, объявил не без торжественности: «Да это ж он! Разумеется, о н! Надо было ожидать! Дождались, господа!» И руки потирал при виде Сатаны… Трамвай четвертый номер проследовал к проспекту. Стал слышен дальний шум авто, и шварканье метлы, и шарканье подошв, и всхлипы водосточных труб. Но Достоевский находился вне минуты. В трамвае, будто беспричинно, он вспомнил жуть от Князя Тьмы, злорадство Мережковского над всеми и над самим собой: «Дождались, господа!».
Давно Андрей Андреич знал, что идола нашли в Монголии и привезли в подарок Обществу. Зная, вспоминал, и только. И при виде тираннозавра тоже не вспомнил… А нынче, в вагоне, с тираннозавром, вроде бы объединился идол, совместился, и Достоевский понял: сегодня все это сделалось реальностью. И Мережковский, пригладив бороду, повтором выдохнул: «Да это ж он!».
Андрей Андреич звонил в квартиру Ленина.
* * *
Обыкновенные посещения одиннадцатого дома на 12-й линии действительный статский советник Достоевский предпринимал не столько ради тайного советника Ленина (чином выше, ровня генерал-лейтенанту), служившего по министерству земледелия, сколько ради своей племянницы Сашеньки и ее деток.
Вот жизнь долгая: сорок три года при трех царях; пятьдесят четыре – при трех генсеках. А сейчас какой-то невнятный антракт, публика говорит, говорит, говорит, а иные между тем припасают консервы и топленое масло.
Александру Михайловну, урожденную Достоевскую, причисляю к коренным васильеостровским. Она здесь, на 9-й, курс гимназии закончила. Двое из ее учителей наводят на мысли, так сказать, сторонние. Французскому учила мадам Ачкасова. Думаю: а не Васеньки ли Ачкасова бабушка? Красавцем помнится, будто с яхты «Штандарт» старший офицер, он мне строго-доверительно рассказывал, как в первые дни войны, когда у тов. Сталина темнело в глазах от черного страха, решил генсек утопить Балтийский флот… А чистописанию и рисованию учил в гимназии г-н Ладинский. Думаю: не родственник ли эмигранта, исторического писателя? Антонин Петрович воротился в наши палестины, когда тов. Сталин, не утопив Балтийский флот, скончался. Жаль, недолго прожил… Как – кто? Ладинский, конечно… О прочих учителях не знаю. Вот разве что гимназический врач, милейшая Любовь Александровна, впоследствии приватно пользовала детей Ленина.
Было их, повторяю, шестеро. Но все народились после того, как Сашенька не только аттестат зрелости получила. Внешне ничего от нигилистки не наблюдалось, а жажда-то знания обнаруживалась, как у них. Стало быть, отправляйся, милая, на другой берег Невы, ступай по Гороховой, по той стороне, где градоначальство, никуда не сворачивай – вот они: женские педагогические курсы. Историко-филологическое отделение? Правильно! Случилась мужу командировка в Париж, что-то там происходило по сельхозчасти, Александра Михайловна в Сорбонне лекции по литературе слушала. Жаль, не встретилась с Бурцевым; все-то у вашего автора петелька в петельку, зубчик в зубчик, а тут, нате-ка, осечка. Право, жаль… А Сашеньке опять же и Сорбонны мало. Она в Петербурге еще и курсы сестер милосердия не поленилась закончить.
Дети пошли поздние. Первенькая, Ольгой назвали, родилась, когда отцу было сорок шесть; матери – тридцать два. «Главный» Достоевский, полагаю, вряд ли неприязненно косился бы на внучатую племянницу. Что же до Андрея Андреевича, скажу еще раз – души не чаял в Сашеньке. Даже и красавицей находил. На этом я настаивать не стал бы. И на том не стал бы, будто древность рода сказывалась, а родословие ее батюшки корнями-то чуть не в Рюрика упиралось. Как не было в Сашеньке нигилистячьих черт, так и ничего «сверхпородистого» не усматривалось. Миловидная, таких на Васильевском острове немало. Волосы темно-русые на пробор, недлинные, мягкие, вот-вот распушатся; рот крупный, спокойный; в характере редкостное сочетание: основательность и рукодельная быстрота.
Вы бы на Андрея Андреевича поглядели! Ведь он – что? Придет, выпьет чаю, закусит – и в кресла. Кто-нибудь из ребятишек принесет спицы, шерсть. И действительный статский, окруженный малыми ребятами, что-то им рассказывая, при этом проглатывая «р», вяжет, вяжет, вяжет некое бесконечное и невразумительное шерстяное изделие. Он знал, что над ним втихомолку посмеиваются; от времени до времени объяснял благодушно: привычка такая от батюшки досталась, а батюшка эдакой методой в полном, стало быть, спокойствии обдумывал вечерами дальнейшие свои проекты украшения земли русской. (Младший брат «главного» Достоевского был гражданским инженером, архитектором; одно время служил в Ярославле; с Лениными знакомство-то ярославское.)
Свой в доме Ленина, он, Достоевский, к отцу фамилии, выражаясь автогенно-сварочной прозой, душой не прикипел. Не потому, что Сергей Николаевич глядел на Андрея Андреевича сверху вниз; иначе и не мог – верста коломенская. И не потому, что голос у него был толстый, черствый, названный Андреем Андреевичем «иерихонским»; ну, дал Бог такие голосовые связки, не Михайловский оперный, и баста. И не потому, конечно, что Ленин родился за год до освобождения крестьян, а он, Достоевский, двумя годами позже. И не потому, наконец, что Сашенькин супруг был ума недальнего. Напротив, умный человек, умный. И красноречивый. Так в чем же дело-то? Смущал и раздражал апломб. Не уверенность, а самоуверенность, пограничная с высокомерием. Смущала «истина в последней инстанции», резкость суждений, неприятие чужого мнения, даже и осторожного. Не одобрял Достоевский и ленинской «разбросанности». Полагал, человек и семи пядей во лбу не может равномерно-энергически действовать в нескольких направлениях. А тайный советник, видите ли, действовал и в качестве члена совета министра земледелия, и ученого совета там же, на Мариинской площади; и члена ужасно важного, но, правда, временного совета, наблюдающего за народным здравием; и товарища (то бишь зама) председателя комитета по делам кожевенной промышленности, а сверх всего и председателя Общества женского сельскохозяйственного образования.
Не «прикипев» душой к Ленину, Достоевский нынешнее свое посещение успел определить как «экстраординарное» и почти исключавшее общение с детками, с мельканьем вязальных спиц. Необычность его визита имела объяснение. Первопричиною был Бурцев.
Владимир Львович, находясь в конференц-зале «под тираннозавром», вдруг, словно на митинге, разразился гневной филиппикой. Слушателями были и он, Достоевский, и Островский, и Пыпин, и молоденький Коплан. Клинышек бороды у Бурцева прыгал, он слюною пробрызгивал, похож был (мелькнуло Достоевскому) на Василия Васильевича Розанова, ногой бы еще дрыгал да в бороду к седине рыжину подпустить… Причиною бурцевской филиппики было возвращение Ленина из эмиграции, торжественная встреча на Финляндском вокзале, какие-то шествия, оркестры, броневики, какие-то речи с балкона… Испытывая, очевидно, гнет тираннозавра, Бурцев имел такое выражение козлоподобного лица, будто слышал и трясение сырой земли, и дальний жуткий гул. В душе Достоевского все это отозвалось явлением Князя Тьмы в зале Географического общества, каковой Князь совместился с динозавром, покрытым мягкой, точно фланель, академической пылью.
Вот Андрей Андреевич и заявился к Сергею Николаевичу, совершенно сбитый с толку не самим по себе большевистским закоперщиком, а тем, что этот несомненный немецкий шпион был Лениным.
Испытываю некоторую стесненность дыхания. Не оттого, что собеседники затворились в домашнем кабинете Сергея Николаевича. Ничего секретного. Но квартира, хоть и большая, да ведь шестеро, один другого младше – шумы, шорохи, гром кутерьмы. Затворили двери, тишина. А дыхание стесняет постылая необходимость в объясняющем господине. Поэты, сукины дети, чем темнее срифмуют, чем дольше фонарь не зажигают, тем значительней. А несчастный прозаик вечно озабочен «понятностью». А читатель, такой же сукин сын, как и поэты, на него поплевывает: отсталый, дескать, сочинитель, не ему тираж, а его в тираж.
Кабинетный разговор сведу-ка в абзац. Предваряю лишь одним наблюдением. Ленин, тайный советник, говорил о Ленине-большевике решительно в другой тональности, нежели бурный Бурцев. Но и не в той, в которой Достоевский – oncle[6]6
Дядя, дядюшка (фр.).
[Закрыть] живописал бесов. Карикатуры – полагал Ленин. Карикатуры on call.[7]7
До востребования (англ.).
[Закрыть] В конце концов не мог же он, Сергей Николаевич Ленин, видевший людей насквозь, оказать дружески-либеральную услугу какому-нибудь прохвосту?
Теперь с проселков беру напрямик.
Выдь на Неву, к Шлиссельбургскому тракту. Садись в вагон паровичка; он здесь, за Невской заставой, бегает, попыхивая, вместо трамвая. И – до Смоленской школы. Вечерняя, пролетарская, предваряющая ликбез. Увидишь серьезную-пресерьезную, неулыбчивую, совершенно материалистическую Надежду Константиновну… То есть как это – какую?! Крупская она, понимаете, Крупская! А это вот Ольга Николаевна, словно бы луч света в темном царстве. Тоже учителка. И, между прочим, родная сестра Сергея Николаевича, тогда еще не тайного советника, потому что все мною упомянутые пребывают покамест на пороге столетия – этого, нынешнего, издыхающего. Вот от училок-то и получился Ленин.
Конспирация требовала ксивы. Надежда Константиновна попросила Ольгу Николаевну. Та обратилась к брату Сергею Николаичу, то есть нынешнему тайному советнику, затворившемуся в кабинете с действительным статским Достоевским. Либерально не обирающий помещик, недолго думая, взял папенькин паспорт. Папенька, Николай Егорыч, на заслуженном в пошехонской деревне, минувшее крепостное право хвалит, дочь проклинает – такой уж он жуткий противник женского образования. А паспорт старику без нужды. Разве что на похороны, но и так отпоют. Короче, пасс Ленина достиг Ульянова. Он уже отбыл ссылку, он уже собирался за границу. А там, в Лейпциге… Люблю топонимику, она многозначительна. Там, в Лейпциге, на ул. Гримма, в погребке Ауэрбахова подворья хитрющий Мефистофель чудо сотворил: из дыр в столешницах ударил ток вина, а доктор Фауст ездил на бочке с пивом… Но правду молвить, не вижу сатанинства. Другое дело – спроворить «Искру». К тому ж не где-нибудь, а именно на Руссенштрассе! Один из винопийц бурчал: «Все было тут обман, предательство и ложь». Все было так, коль рассуждать о Мефистофеле. Да ведь каков масштаб? Ведь броневик серьезней бочки с пивом.
* * *
Дельце-то в смысле повальной паспортизации страны обыкновенное. А эффект?!! Не догнать Мефистофелю, не перегнать. Всемирный эффект, эпохально-исторический. Ну, а недавно ученая конференция состоялась: «Ленин как знак чуткости космоса» – тут и вовсе в моей голове бедной черт палкой помешал.
Скверную о н штуку со мной удрал. Жил бы, как все. Поднялся утром, спел на слова Ошанина, музыку Туликова: «Ленин в тебе и во мне» – и целый день свободен.
Так нет, за Достоевским увязался, не в погребок Ауэрбаха попал, а на 12-ю линию, в одиннадцатый дом. Случайность? Да. Только вот, позвольте заметить, не приключайся случайности, и вся история, все историйки оказались бы сплошь мистичными. Это и Блок понимал: нас-де подстерегает случай… Любопытно, однако, именно случайностью, о которой толкую, и воспользовался нечистый со своей палкой-мешалкой. Сисподу, как в горшке с кашей, да и по краям помешивал.
А результат? Не каждый, господа, признается, а я-то, автор, я ведь бабки подбиваю. Понимаете ли, от времени до времени пребываю не то чтобы попросту в зеркальной комнате смеха, нет, в комнате смеха сквозь слезы. Положение горестное, комическое, раздвоенное, мятущееся. То, знаете ли, статный резко-нелицеприятный либерал Ленин выскочит, то косоглазый, плешатый, крепенький в кепочке ручку протягивает: «Ленин». Так вот, чтобы не путать вас, я впредь этого, в кепочке, называть буду: Не-Ленин. Вроде «де» – это вот «не». А то, что он впредь встретится, – это уж обещаю. Призовут в ЧеКа, белый станет, как плат.
Всего мучительней различать Ленина и Не-Ленина. Слышу поют: «Ленин всегда живой, / Ленин всегда с тобой». Дак я ж знаю, его мужики в Пошехонье еще в Девятнадцатом убили. Стало быть, петь-то надо: «Не-Ленин всегда живой, / Не-Ленин всегда с тобой». Или такая ситуация. Поспал немножко и опять взглянул в окошко, а с платформы говорят: «Это город Ленинград». Не до шуток. Ежели переименовали, то отчего же псевдонимом нарекли, ложным именем? А ежели заменили тайным советником, пусть и женатым на родственнице Достоевского, то истинный Ленин, надо полагать, трижды в гробу перевернулся… Опять же гробницу взять. Что же ее называть Мавзолей Не-Ленина, что ли? И тут уж несусветная путаница, сатанинство какое-то. Отдельного разговора требует.
Великую тайну открыл мне Толик-алкоголик. Мы во дворе сидели, это я уж в Москве жил. Двор тихий, старушечий, грачи прилетели. Пух ложился порошей на радость ребяткам-поджигателям; под тополем, за дощатым столиком известного назначения – а) для доминошников; «Рыба!» б) и – «третьим будешь?». Третий, однако, был бы лишним, потому что Толик… Пока с рельсов не сошел, комсоргом в каком-то цехе подвизался; спился и вот, видишь ли, шляпу зеленую (велюровую) ни при какой погоде не снимает… Рассказывал после первой. Был серьезен, даже мрачен, не хухры-мухры, а дело, какого в Белокаменной, может, со времен Лжедмитрия не происходило.
Толик служил тогда в Кремлевском полку. Когда – тогда? Если к рассказу и точно: в октябре шестьдесят первого. И как раз в той роте, из которой отрядили солдат копать у Мавзолея яму.
Приказ командира, говорит Толик, – закон для подчиненного. Копаем, прожектор включили. Уже, значит, темно. С Красной площади гул накатывает. Стихает, опять накатывает. Техника к параду тренируется. А здесь парад начинается. Со Спасской точно кувалдой: бо-ом! Наше дело телячье, а вдруг и страшно. А пробило, точно помню, полдесятого. Выкопали ямину. Теперь что же? Велят таскать плиты. Железобетонные. Размером сто на семьдесят пять. Натаскали десять штук, восемь в могилу сплошняком уместилось. Две, выходит, зазря волокли. Тоже мне начальнички, ведь – арифметика. Потом-то еще хуже, смех: гвозди, понимаешь… Принимать парад приходит Шверник с комиссией. Шверника помнишь?[8]8
Шверник Н. М. (1888–1970) – государственный и партийный деятель. Герой Социалистического Труда.
[Закрыть] Я-то его: ну, вот как тебя, за рукав мог потянуть. Стоит Шверник, словно в воду опущенный, и эта комиссия тоже… Вот вы здесь все: «Толик», «Толик», а Толик та-акую майну-виру видел, не приснится. Своими глазами видел! Ста-ли-на из мавзолейного саркофага вынули и в гроб положили. Красный. Обыкновенный. Не колыхнулся, окостенел. Полковник подходит, отчекрыживает от мундира пуговицы. Ножницы, вишь, не забыли, а гвозди… Как ножницы-то забыть, если все, как одна, пуговицы золотые! Не шелохнул. Лицо целое. Но «будто спит», не скажешь; одно слово: мертвец. Его темной материей накрыли по грудь. Положили на гроб крышку. Хвать, а гвозди-то где? Чем крышку-то забивать, а? Туда-сюда. Полковники сами себя по карманам сдуру хлопают, а который из хозотдела – кинулся куда-то… Такое, понимаешь, мероприятие, а этот хозотдел, мать его… Мы стоим, на лопаты оперлись и стоим. А Шверник плачет. Старенький, жалко его. Из-за этих гвоздей всхлипывает: парад испортили. Ну, принесли, забили крышку. Старшие офицеры – на плечи и к могиле. Минуту-другую отстояли. Никто ни слова. Да, забыл сказать: родственников никаких… Минуту-другую. И опустили, так, знаешь, медленно, осторожненько, а потом и велят – закапывай. Двое, трое из офицеров по горсти земли бросили, а Шверник-то не бросил, забоялся, наверное, нет, не бросил… А тут-то из комиссии этой и донеслось… Я ж рядом, вот как ты… Донеслось, значит: «Совсем осиротел Ленин» – «Ты что, ничего не знаешь?» – «А что?» – «А то, что да-авно уж подменили Ульянова, Владимира Ильича Ульянова давно подменили: бальзамированию не поддавался. А тогда и привезли Ленина. Откуда – врать не буду. Не знаю, да и не спрашивал. А с этим, привезенным, бальзамирование удалось».
У Толика в горле пересохло. Думается, от волнения. Послышалось бульканье. Вы не замечали, какое это бульканье? Точь-в-точь иволга. Не замечали… А Толику я во всем поверил. Про золотые пуговицы не придумаешь. И плачущего большевика тоже. А забытые гвозди и вовсе… Вдуматься: очень по-нашенски, какой бы хозотдел ни был. Декабристов вешали – за веревкой в лавку бегали. Это все – ладно. У меня под-ме-на на уме! Ульянова, оказывается, куда-то увезли. Может, туда, откуда Ленина привезли, – в Пошехонье. Тут бы, конечно, экспертизой решить. Обошлось бы дешевле, чем с останками Романовых. Маску снять с мавзолейной мумии да и с меркурьевской соразмерить. То-то и был бы научный эксперимент… Объяснить не могу, но едва на сей счет помыслю, снова и снова как бы в лейпцигском погребке Ауэрбаха, туда же и тираннозавр, что в конференц-зале, и этот идол из другой залы. И уж совершенно неуместно Ленин с Достоевским, они же в доме на 12-й линии. То есть это не то чтобы неуместно, а как раз очень хорошо, потому что ночь-то январская, подмосковная, лютая. И ветер оказывает гильотинное действие. Вам приходилось на дрезине? Когда она с бешеной скоростью вспарывает январскую ночь с ее лютым морозом… Люди в кожанках, в тулупах, в родном полувоенном… Сугробы, сани-розвальни, двор, печальным снегом заметенный, дом, издали вроде голицынского Дома творчества, но ближе – нет, не очень-то похож, совсем барский, и это Дом в Горках. А в доме мало огней, полумрак углы и мебель съел, все неотчетливо, чьи-то быстрые твердые шаги, слышно, чекист докладывает в телефон: «Меркуров приехал».[9]9
С. Д. Меркуров (1881–1952) – скульптор.
[Закрыть]
Он работать приехал – посмертную маску снимать. Он ничего не забыл, как эти-то, из кремлевского хозотдела, гвозди, нет, все свое привез с собою: гипс, стеариновую смазь, клубок суровых ниток. И принялся… Не скажешь – «за работу», «за дело». А так надо сказать, как сам мастер сознавал: должен я передать векам черты Ильича. Всю голову старался захватить. А голова у мертвого, знаю, голова у мертвого имеет какую-то особую, ни с чем не сравнимую весомость, как ни с чем не сравним смертный холод, когда губами коснешься лба… Меркуров и маску снял, и слепки обеих рук, правая была судорожно сжата в кулак… А в дверях, на светлом, освещенном была резко очерченная черная фигура; недвижная, казалось, бездыханная, не вздрогнула, не шевельнулась – Мария Ильинична неотрывно смотрела на умершего брата. «Усопший» – тогда еще можно было услышать «усопший», «на смертном одре»…
Маски тиражировали, Каменев списочек составил, родственники получили, заглавные большевики, ЦеКа, ЭмКа; все под номерами, товарищ Сталин, вот уж когда Каменев, вражина, выказался, товарищ Сталин – десятый номер. Вы это можете вообразить? Десятый! Ну, ладно родственники, да и то сказать, почему это Крупская за первым номером? Ну, хорошо, она, собственно, паспорт на имя Ленина раздобыла, а все ж почему первый номер? И впереди товарища Сталина не только Кржижановский, Дзержинский, Куйбышев, а и Цюрупа… Комплект-то уцелел ли? Понятья не имею. А вот кулак – правый, судорожно сжатый – кулак разглядывал на аукционе. За пять миллионов шел. Однако вопрошаю: он чей, кулак-то? Ленина или Не-Ленина?.. А еще и венки есть. Рукоделие флористов. Я знаю, где припрятаны. И укажу, как только мумию отправят в Питер. Впрочем, понадобятся ли венки? Вопрос труднейший, как с царскими останками. Но последними ведь озабочена наука. А здесь, здесь глас Толика, который алкоголик, и посему он требует доверья. А Толик указал: была промена, была замена; кого-то, дескать, умыкнули в неизвестном направлении; кого-то привезли невесть откуда. Ну-с, пусть гадают за хребтом тысячелетья.
* * *
Пьют чай!
Не-Ленина уже весь Питер кличет Лениным. Его под динозавром проклял Бурцев. Племянник Достоевского пересказал филиппику Сергею Николаевичу. Что Ленин? И ухом не повел. Ульянова встречал на рубеже столетья – вполне приличный человек. Похож на прасола, но ничего от беса. Э, дорогой Андрей Андреич, не так уж страшен Ульянов-младший, как нам его малюет Бурцев.
Пьют чай!
В Стокгольме, на вокзал в последнюю минуту примчался вдруг какой-то господин из русских. Подбросил шляпу и закричал приветствие Не-Ленину. Тот котелочек приподнял. Оратор продолжал: «Смотри-ка, дорогой, не понаделай в Петрограде гадостей!».
Пьют чай!
Всех обласкай, укрой, перекрести – укладывала деток Сашенька. Ей на роду написано и мужа вскоре потерять, и трех генсеков вытерпеть. А прежде заложить в ломбарде, что на Мойке, и эти ложечки, и подстаканники, и сахарницу, и щипцы – все, все из серебра.
Пьют чай!
Внимая Ленину, не слышит Достоевский ясновидца Мережковского.
Наверное, и вы уж призабыли, как длинным бледным пальцем Мережковский указал на Идола, на Князя Тьмы, на Сатану – в углу, за грифельной доской: «Дождались. Это – он!».
* * *
Дождались. Он приехал!
Торнео, пожалуйста, не путайте с Борнео. На острове Борнео ни снега и ни семги, а также ни единой вейки. В Торнео при реке Торнео снега, снега, хоть на дворе уже апрель. А веек, финских быстролетных санок, как в Питере на маслену. И пахнет семгой крепкого посола. Любой бы прасол оценил. А ежели с мороза да под рюмку водки, то восхитился бы не только прасол. Извольте, буфетец при таможне есть.
Недавно, за чаепитьем, Ленин вскользь отметил, что у Не-Ленина в разрезе глаз, на скулах – азиатский след. Похож-де он на прасола, скупающего рыбу в низовьях Волги. Чего же эти скулы внезапно раскраснелись на станции Торнео? Причиною не семга, пускай и крупного посола – нет, пароксизм гнева.
В таможне, в веселой сутолоке людей, проехавших благополучно по вражеской Германии, не утонувших на пароме «Drottning Viktoria», отдохнувших в стокгольмском отеле «Regina», получивших в русском консульстве пособие в шведских кронах, да, сейчас, в Торнео, на первой станции Российской империи, в этой толкотне и шуме Ульянов вперился в газету «Правда» – и процедил: «Иуда… Расстрелять…» Цедил он шепотом, но вещее пропело петухом.
Пора! Уж водокачка напоила паровоз. Уселись на фонарь локомотива крылатые слова: «иуда», «расстрелять». Ударил пар, как из ноздрей циклопа, и обозначились в снегу проплешины – и влажные, и нежные.
Все сущее троично. За триста крон – билеты в третий класс, и три десятка, включая и вождя, располагаются в вагоне. Свисток потемки полоснул по вертикали. Железный лязг взбурлил горизонтально. И началось движенье по прямой. Но революции, как и геометрии, необходимо вдохновенье. И пассажиры в третьем классе поют, как санкюлоты, надевшие не только длинные штаны, но и пенсне; имея сверх того бородки-клинышки и котелки; поют: «Все пойдет, все пойдет, все наладится, пойдет…» А поезд от похоти воет и злится – хотится, хотится, хотится…
Чего-то больно долго ехали до Белоострова. Сдается, сутки. А там опушка есть, вся заросла смородиной и очень крупной, и очень черной: вот память детства. А вот и память историческая. Не-Ленина встречали сестрорецкие рабочие, почетный караул, соратники из Петербурга.
Пред ним «на караул» взял человек с ружьем, оркестр грянул встречный марш. И самолюбию щекотно, и ощущение прибавки веса. Он козырнул. Но не по-русски, а по-французски: вывернув ладонь. Не для того ль, чтоб были зримы все линии судьбы? Но шаг истории не в этом. Он в том, что на перроне сам тов. Сталин.
* * *
Жив курилка!
Курейку он оставил в минувшем декабре. Его, как многих политических, призвали под знамена, которые клонила долу немчура. Как жаль мне Лиду! Ее, широкозадую, и мальчика-младенца покинул без гроша тов. Джугашвили-Сталин.
Призванные и вместе званые съезжались в Монастырское. Казна обула и одела – оленьи сапоги, оленьи шубы. Провожало народонаселение. Известный вам Кибиров (не поэт – исправник) брал под козырек – взвейтесь, соколы, орлами. И дарил почтовые открытки; цвет яркий, текст тоже: «Развернись, богатырь, во всю мощь, во всю ширь!». В лошажьих гривах трепетали, как на свадьбе, ленты. Все розвальни претолсто устилало сено, оленьи шкуры, одеяла. И побежали, побежали ледяной дорогой вверх по Енисею. В станках ждала подстава и горячий харч.
В губернском городе, в натопленных казармах, вблизи Великого железного пути, все жили ожиданием отправки на Великую войну. Не сразу, нет, после ученья. Тяжело в учении – легко в бою. А пуля, что там говорить, конечно, дура. А штык, конечно, молодец. Да вот в чем незадача: тов. Сталин-Джугашвили ни дуры не желал, ни молодца. И получил… Гм, получил недельный отпуск. С ним вместе – не в заслон ли? – и другой из беков. Фамилия – от моря и до моря: Иванов. И что же? Иванов, не сомневайтесь, вернулся в срок. А Джугашвили-Сталин… Он принципом не поступился и сочинил одну иль две антивоенные листовки. На Мало-Качинской. В домушке с русской печью был лаз в курятник, оттуда – ко двору соседа. Куда как славно воевать с войной в курятнике. Особенно в те дни, когда всех новобранцев берет в ежовы рукавицы стрелковый полк.
Ту-ту, поехали славяне воевать. Лицо ж кавказское по своему хотению, по щучьему велению, переметнулось из Красноярска верст за двести, в Ачинск – с десяток каменных строений, под тыщу – деревянных, и речки подо льдом блестят. Он, право, учинил бы стачки на салотопном и кожевенном, а также на кирпичном. Но… но предпочел нишкнуть. Ну, словно дезертир. Иль безусловно?