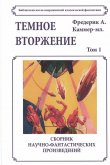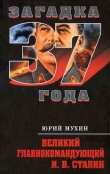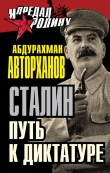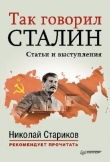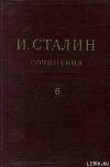Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
* * *
Он зимовал с сестрой в Перловке. Кто именно зимовье предложил– ума не приложу. Вообще ж немало было дач, вовсе не роскошных, хозяева которых ожидали, когда их двор уединенный, печальным снегом занесенный, вдруг огласит авто энкаведе. Мстилось многим, что можно затеряться в городе, нишкнуть; глядишь, промчится буря, прояснет небо.
Когда подумаю о генерале с фрейлиной, тотчас же на уме и Фраучи, швейцарец. Псевдоним придется мне назвать чуть позже. Хоть он чекист, не ожидайте изобличение еврея. А жил он не в Перловке, а в Малаховке. Но не в тайной школе для шпионов, а близ болота и речушки. Да и то лишь летом.
А нынче на дворе матерая зима. И от дверей к калитке узенькая стежка. И хорошо, и слава Богу. Не видеть бы, не слышать никого. Но слышался, однако, мягкий рокот. Не оттого он мягким был, что глубоки снега, и сумрак, и нету фонарей. Нет, так рокочут «бьюики» и всякие «сюизы», холеные в теплыне гаражей. Тотчас Владимир Федорович пожалел о том, что глупо медлил с продажей портрета дочери поэта Пушкина, давно бы продал, а выручку– сестре Авдотье, ей без него недолго жить, бедняжке.
«Бьюик» остановился у калитки, калитка стукнула, брат и сестра припали лбом к холодному окну. На стежке показалась плотная фигура. Пальто английского покроя, а шапка пирожком. Фигура приближалась средним ровным шагом. Так ходят люди, которые не топают и знают себе цену. Потом раздался стук и твердый, петербургский голос: «Владимир Федорович, прошу вас, отворите». Гм, не «Федорыч», а «Федорович» – ну, точно, не москвич, а петербуржец.
Джунковский несколько опешил. Не то чтобы испуганно, а удивленно. Он не ошибся: то был Артузов, чекист из очень, очень главных… Вот тут-то и сучок-задоринка! И удивление, и безошибочность Джунковского не отвергают краткого его знакомства с советскою тюрьмой, но подтверждают и тоненький слушок – мол, шеф жандармов бочком сотрудничал с ЧК. Да ведь и то сказать, Артузов, он же Фраучи, контрразведчик в Перловке появился не для того, чтобы разведать подробности его любовной связи с покойною свояченицей покойного царя.
Был ладно сложен гость, крепко сшит. Седеющий брюнет. Высокий и широкий лоб. Лицо казалось очень белым; белизну подчеркивали квадратик черной бороды и небольшие черные усы. Он был в костюме-тройке, в рубашке с темным, скромным галстуком, которые тогда называли, кажется, инженерскими.
Его отец, швейцарский вольный гражданин, вкус в сыре находил и был отменным сыроваром. Переселился Христиан в Россию и был уверен, что открыл Америку. За давностию лет не помню многое. Сдается, сын родился в Питере. Закончил курс в Лесном, в Политехническом. Еще студентом исповедовал марксизм; дрейфуя влево, примкнул к большевикам. В кануны революции он иногда скрывался от соратников Джунковского в глуши, на станции Угловка, у сына шлиссельбуржца Германа Лопатина. Моя любовь к последнему известна дружескому кругу, точней, кружку, но это здесь не к месту. А к месту здесь другое.
Из Фраучи он стал Артузовым (Артур + «ов»), наверное, по настоянию Дзержинского: поляк усердно увеличивал процент великороссов в своей конюшне.
В известном Доме творчества, в Голицыне, см. начало нашего романа, мы как-то говорили с Шульгиным об этом Фраучи. Хоть минули десятилетия, старик довольно смачно костерил Артузова. Но! Признал Артура Христиановича мастером головоломных тайных комбинаций. Одной из них был околпачен сам Шульгин. В силки другой попался Савинков… Что и говорить, такая птица зазря не прилетит в Перловку.
На керосинке чайник еще не закипел, и это, полагал Джунковский, почему-то сбивает с толку. Коллегу же Дзержинского-Менжинского с толку не собьешь. Он выдал старику похвальный лист. За то, что он, Джунковский, в бытность шефом жандармов упорно отрицал систему провокаций. Владимиру Федоровичу следовало бы ответить, что товарищ Артузов и его компания именно эту систему и возродили, и упрочили, и вознесли. Он и ответил, но не вслух. Артур Христианович, очень хорошо сознавая, какие «соображения» возникли в уме генерала, право, сумел бы разграничить провокации старого режима с ходом классовой борьбы в условиях диктатуры пролетариата и враждебного капиталистического окружения, но Артур Христианович предпочел направление конкретное… Джунковский, стоя спиной к Артузову, убирал чайник с керосинки, лопатки старика остро обозначились донельзя выношенным пиджаком. Артузову не то чтобы было жаль старика, а было как-то не очень ловко в своем прекрасно сшитом костюме. Избавляясь от этой неловкости, Артур Христианович, улыбаясь, сказал, что Владимир Федорович сейчас почувствует себя Лопухиным в купе экспресса Кёльн – Берлин.
Откуда и куда дул ветер, Владимир Федорович догадался. Лопухина он знал. Знал и о том, как Бурцев настиг уже уволенного в отставку директора департамента полиции и как Лопухин подтвердил провокаторство Азефа… А вот кого имеет в виду сей ночной гость? И ночной гость, твердо и прямо глядя на Джунковского, произнес имя. У Джунковского заломило суставы, словно в приступе ревматизма. Он испугался тем страшным испугом, который вытирает насухо гортань… Вышла пауза… Джунковский собрался с духом. Но не дал прямого ответа. Говорил, что иудами и обер-иудами ведали директоры департамента, однако и Белецкий, и Виссарионов еще в восемнадцатом отправлены в мир иной. А теперь, что ж… И Джунковский развел руками, снова чувствуя пересохшую гортань, ломоту суставов.
Артузов, однако, действовал столь же упорно, столь же методично, как лет тридцать тому действовал Бурцев, оказавшись один на один с Лопухиным в купе экспресса. А расстались они, то есть Бурцев с Лопухиным, в Берлине; Лопухин отправился дальше, в Петербург, а Бурцев вернулся в Париж и, уже окончательно уверившись в прочности своих доказательств, назвал Азефа главным провокатором и главным интриганом в партии. В эсеровской партии.
* * *
Артузов как приехал в Перловку затемно, так затемно и возвращался в Москву. Лепила влажная метель. «Бьюик» недовольно урчал. Шофер останавливал машину, отирал лобовое стекло и под капот заглядывал, будто там угнездилось что-то враждебное его автомобилю. Другие начальники, которых возил этот шофер, обыкновенно садились с ним рядом, и он усматривал в таковом местоположении свою причастность к борьбе с врагами народа. В отличие от других начальников товарищ Артузов всегда сидел сзади, как барин, и шофер обижался. А еще к недостаткам товарища Артузова нельзя было не причислить нежелание беседовать в пути с ним, представителем рабочего класса, дело которого тов. Артузов денно-нощно отстаивает, а вот чтобы с тобой по душам, этого нет, кадры все решают, а он, тов. Артузов, не ценит.
Ценил Артузов, ценил, но не переоценивал. И весьма критически, не без горечи замечал, что эти самые кадры не выполняют завет покойного Менжинского: у нас, чекистов, один хозяин – партия, а вовсе не отдельные лица. И еще: некоторым из нас весьма нравятся именно отдельные товарищи, а это чревато разбродом и приспособленчеством.
Менжинского сменил Ягода. Тезка Гиммлера. Артузов не терпел Ягоду: мозгляк и – вот, вот – приспособленец, вождю в рот смотрит. Но едва тот призовет – трепещет. Боится, как бы в Кремле не дознались о связи с невесткой Горького. А эта прелесть, случается, сама на Лубянку шастает, прямиком в Ягодин кабинет.
Сие понятно. Но вот загадка из загадок. Почто держал он в тайнике-загашнике ненатуральный член? Резиновый, увесистый, как полицейская дубинка. Почто? Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам.
Не снилось даже Сталину. Визит к вождю сошел благополучно. Но есть, есть поручение претонкое. Тут без Артузова не обойдешься. Пришлось открыться Артуру Христианычу. Видно было, что Ягоде, что называется, жмет под мышками. А вместе было видно, что об отказе исполнять желание «отдельного товарища» и речи быть не может… Поручение, данное под видом полезного предложения, заключалось в следующем: вождь предлагал найти кого-либо из бывших сотрудников охранки. Конечно, большинство расстреляно, но есть надежда, что кое-кто увильнул, уцелел, сохранился. Зачэм найти? Для того, чтобы дали показания на партийцев-ленинцев… Уточнил с нажимом в своем глухом чревовещании: якобы партийцев, якобы ленинцев; и это же «якобы» повторил движением трубки, зажатой в кулак… Какие показания? Такие показания, которые изобличают предателей-иуд. Совершенно некраснеющих иуд. Троцкий, по определению товарища Ленина, иногда краснел. Конечно, всегда оставаясь иудушкой. А эти некраснеющие иуды. Вот, собственно, в чем дело, товарищ Ягода…
«Бьюик» сворачивал с Мясницкой. Она уже была улицей Кирова. Слева помещался охотничий магазин; в витрине заяц-беляк (чучело) грыз морковку неестественного карминного цвета; лисица замерла с вяло поднятой лапой (чучело), а селезень-то, селезень (тоже чучело) – хвост крючком, сизо-синий блеск. «Бьюик» свернул направо, в улицу, где красивый костел и бывшая гимназия, разжалованная в среднюю школу. Оттуда юные безбожники иногда прибегали в церковный двор – прибранный, чистенький – приплясывали, верещали: «Прошло уж двадцать лет, а Бога все же нет… Прошло уж двадцать лет, а Бога все же нет…» В этом замечательном переулке, или, если угодно, улице, Артур Христианович жил в очень хорошем доме, в очень хорошей квартире, меблированной хозяйственным управлением ОГПУ-НКВД конфискованным у контрреволюционеров добром, имевшим жестяные номерки – указание на то, что все это, какого бы стиля ни было, отнюдь не личное, а коллективное, в данном случае – лубянского фаланстера… Артур Христианович кивнул дежурному и стал подниматься по лестнице с алой ковровой дорожкой. Перемещаясь в малом пространстве, Артур Христианович словно бы и отступал в малом времени, то есть к вчерашнему дню, когда Ягода, стоя у кабинетного окна, обращенного, как и другие, к площади Дзержинского, подрагивал ляжкой и, напрягая жилу на тонкой шее, туго сжатой воротником гимнастерки, сообщал Артузову указания тов. Сталина.
По созвучию с «Виссарионович» и вместе с характером задания – отыскать бывших агентов охранки – Артур Христианович сразу и подумал: Виссарионов, «особая папка Виссарионова»… Черный был, лобастый, пальцы на концах четырехугольные, тупые… Виссарионова, директора департамента полиции, давно пустили в расход. В его «особой папке», в сущности, ничего особенно особого не содержалось. И Артузов подумал о Джунковском. Но вслух имя не произнес. Потом справки навел, поехал в Перловку.
Поразительным для него самого было то, что, увидев Владимира Федоровича, то есть бывшего шефа жандармов империи, увидев Джунковского, ему, Артузову, известного по первому аресту Владимира Федоровича, чекист понял, что видит нечто нетеперешнее, словно бы и несовременное, а именно честного человека; честного просто-напросто, по натуре, по существу, без всяких там, знаете ли, суждений о целесообразности и временной необходимости.
Это простое впечатление, запретное для марксиста-ленинца, тем паче чекиста, впечатление, словно бы возвратилось к Артуру Христиановичу из давно отжитой жизни, и это было телесно приятно, как перемена заношенного белья на свежее, а вместе придавало решимость и энергию, вчера еще невозможные, ибо они грозили подрывом авторитета партии, строящей социалистическое общество.
Получалось что-то похожее на классическое рассуждение: вчера было рано, завтра будет поздно. И начальник всесоюзной контрразведки приступил не к разысканиям бывших сотрудников охранки, а ныне трудящихся большевиков. Нет, к выяснению заагентуренности того, чьи портреты уже решительно потеснили фотографии Феликса Эдмундовича, Артузовым чтимого.
* * *
Чтимого?
Артузов – ум недюжинный; теперь сказали бы, аналитический. А ведь не принял положения и выводы Жданова. Имею в виду не сталинскую жабу, а совсем-совсем другого Жданова. Владимира Анатольевича, юриста. Потерял из виду в середине 30-х; было ему тогда сильно за шестьдесят.
Чтимого?
Хотелось бы знать, что о них, Дзержинском, Артузове, думал Владимир Анатольевич. И не повторял ли Артузову положения и выводы своей ревизии? Они ведь, чекист и член Московской коллегии защитников, бывало, встречались в Малаховке.
Малаховка – это память о лете. Струилась там Пихорка (так, что ли?), коряги, водяные лилии, ехал грека через реку, видит грека– в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку грека – цап… А над Пихоркой (так, что ли?) эскадрилья биплановых стрекоз, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ… Малаховка – это девица с зелеными глазами, такими смелыми, что они казались наглыми; у нее было вызывающе нерусское имя – Мэри; дочь коминтерновца, она раскатывала на велосипеде «Wanderer» и могла бы играть в фильме о необычайных происшествиях мистера Веста в стране большевиков. Кинотеатр уж полон, замрите, паровозы на Казанке… Малаховка – это школа-новостройка, футбольное поле с настоящими, сетчатыми воротами. Малаховка – это и укромные дачи на огромных участках за высокими, непроглядными, без щелей заборами.
Дачи слыли секретными. Секретность объектов придает значительность окрестным старожилам. Малаховские не сомневались в ведомственной принадлежности дач, имеющих теннисные, волейбольные и крокетные площадки, пистолетные стрельбища…
Вот так же и старожилы окраинного московского квартала, называть который я не уполномочен. В канун Отечественной там рев секретного военного завода сотрясал воздух и оконные стекла. Германские поставщики токарных станков «Korner» и чего-то еще отнюдь не указывали номер абонементного ящика, нет, внаглую адресовали: улица такая-то, дом номер такой-то, херр директор имярек. Однако это рассекречивание не уничижало старожилов, а упрочивало общесоюзное мнение: болтун– находка для шпионов.
Именно поэтому контр-адмирал Евг. Евг. Ш-де не сообщал слушателям Военно-морской академии тактико-технические данные крейсера «Киров», хотя корабль зимовал неподалеку от академии, а службу на корабле несли офицеры, знакомые слушателям академии. Но Евг. Евг., послушный формально логическому определению, кто есть болтун, говорил, храня на породисто-умном лице невозмутимое выражение: «Интересующиеся благоволят получить в нашей библиотеке немецкий журнал „Schifbauen“. Нумер второй за текущий год, товарищи».
Таковы были узоры замысловато-бессмысленного соотношения секретного и несекретного. Что до Артузова, то он бывал на малаховской таинственной даче. Владимир же Анатольевич Жданов летовал на совершенно частной, хотя и был хранителем архисекретного документа. Не то чтобы держал его в тайнике, а в том смысле, что помнил этот документ от первой до последней строки…
Летом боевого Восемнадцатого имел тов. Жданов поручение ЦеКа ревизовать практическую деятельность команды тов. Дзержинского. Бывший адвокат и бывший политкаторжанин отнесся к поручению архисерьезно. Он не был желанным посетителем бывшей гостиницы на Лубянской площади. Однако никто его и намеком не стращал, а ему и в голову не приходило опасаться неудовольствия ни тов. Дзержинского, ни тов. Менжинского, ни других партийных товарищей. И все же, кажется мне, надо было обладать наивным бесстрашием, доверчивостью идеалистического толка, чтобы представить в ЦеКа докладную записку, положения и выводы которой я и теперь повторю дрожащим голосом: делопроизводство в ЧеКа составляет тайну делопроизводителей; арестованный лишен участия адвокатуры; обжалование приговоров отсутствует; используется метод провокации; сотрудники невежественны, лишены даже элементов правосознания. И заключил скуловоротно: все ваши органы – наследники охранных отделений. Он был уверен: грянет гром, и все переменится. (Замечу в скобках: так полагал и тезка Жданова, генерал Джунковский; задумал реорганизацию сыскного промысла и получил отставку.) Да, был уверен, ждал. И не дождался. Дзержинский вздергивал бородку-запятую, бледнел последней бледностью. Нет, он Жданова не заклеймил клеветником, хотя решительно и гневно отверг родство с охранкой. Феликс Эдмундович повторял, что таково уж положение вещей, пока идет гражданская война.
Не грянул гром над органами. Да и возможно ли? Они ведь сами гром. А вы, Владимир Анатольевич, вы занимайтесь судебною защитой дел гражданских иль уголовных. Зимуйте вы в Москве, летуйте вы за городом. Желаем вам здоровья, ровесник Ильича.
Малаховка – это память о лете. Струилась речка, морщась на корягах. Плясало дерево, и детство шло. Все городские ребятишки разувались; вначале, после города, ходили боязливо, ойкали; потом, набив мозоли, бестрепетно гонялись друг за дружкой, не замечая еловых шишек и дресвы. Но очень, очень замечая двухколесную тележку. Мороженое! И сливочное, и земляничное, и малиновое. О, этот сладкий холод в раскаленном полдне. Кругляшки в два пальца толщиной; диаметр медальный, диаметр поменьше. И вафли с двух сторон. На вафлях выпукло иль впукло, позабыл, хрустят все наши имена. «Владимир» и «Володя» чаще прочих. Но вот «Артура» не найдешь. И не над этим ли они смеялись? – старик в панаме, Артузов в ситцевой косоворотке, без фуражки… Здесь было б мне в отраду изобразить вниманье к детям двух большевиков, но неохота врать. Вкусив в сторонке сладкий холод, они шли дальше, продолжая старинный спор между собой.
Скажите-ка на милость, понятно ль вам столь продолжительное, столь искреннее несогласие тов. Артузова с тов. Ждановым? Прибавлю еще штрих, на мой взгляд, чрезвычайно важный. Положим, Жданов, интеллигент, юрист, очутился на Лубянке, как миссионер в борделе, – он был там совершенно неуместен. Но Артузов очень хорошо знал и помнил письма рядовых провинциальных чекистов. Единовременные с ждановской ревизией. И ежели питерские борцы с контрреволюцией предлагали сместить своего начальника Урицкого не за то, что тот Соломоныч, а за то, что Соломоныч недостаточно кровожаден, то непитерские… Некоторые, разумеется. Отдельно взятые, разумеется… Они ужасались и на самих себя, и на своих надежных, верных, мужественных товарищей: работа ловли и расправы создает из нас касту точь-в-точь жандармскую; постепенно и мимовольно мы превращаемся в нерассуждающих механических исполнителей-мясников.
А он, Артур Христианович Артузов, умом недюжинный, все это, вослед Дзержинскому и Менжинскому, принимал за издержки, за временное и преходящее. Не слишком ли долгим был самообман?
* * *
Теперь, возвратившись из поездки в Перловку, поднимаясь по ковровой лестнице сумрачно-солидного дома, находившегося на балансе хозяйственного управления НКВД, Артур Христианович замедлил шаги, приостановился. Твердое, сильное, умное лицо его выразило и сосредоточенность, и некоторую, совсем тенью, растерянность. Сиюминутное соображение Артузова, никогда прежде не возникавшее, потому и возникло, что он, посетив заснеженную, без огней Перловку, увидел в бывшем шефе жандармов «просто очень честного человека». Это соображение заключалось в следующем. И Ленин, и Джержинский, чтимый Артузовым, Феликс Эдмундович, и он, Артузов, и его сослуживцы из центрального аппарата, все они, коль скоро речь шла о врагах, тотчас оказывались по ту сторону мало-мальских принципов совести, честности и, следовательно, оставались честными наедине с самими собой. Вопрос же, а кто, собственно, есть враг, решался очень и очень просто; вы ж знаете, кто не с нами… а это «не с нами» могло быть и бывало еще проще – вершковым несогласьем с партийным иерархом.
Однако привычка мысли и чувств выводить самого себя из душевного и духовного пространства «честности», «совести» была чревата возмездием, и Артузов это понял, вполне и окончательно сознав свое одиночество, утрату доверия к кому бы то ни было из тех, кто находился с ним в огромном здании на Лубянке, и ему стало страшно…
Превозмогая себя и ощущая ток подспудной радости возвращения домой, в квартиру, пусть и казенную, но казенность привычно несуществующую, потому что после революции Артузов ни дня не жил обыденной частной жизнью, Артур Христианович переобулся в домашние туфли и улыбнулся, потому что в такие минуты всегда чувствовал прилив любови к жене и дочери. Однако то, что еще вчера он не замечал, теперь, сейчас будто новым зрением заметил: карминный цвет, похожий на муляжную, поддельную морковину в лапках витринного зайца – на Мясницкой, на повороте в улицу Мархлевского. Не в том, пожалуй, дело, что и паркет, и кожаные кресла, и кожаный диван, и мебель были густо-коричневого, карминного цвета, а в том, что этот цвет господствовал в кабинетах Лубянки, и это теперь, сейчас было неприятно Артузову. Как и то, что он пил, стараясь и ложечкой не звякнуть, пил горячий коричневый чай, тоже такой же, какой пили в кабинетах Лубянки… Ну, что же, ну, что же, надо, так надо. А Лида и Лидочка пусть спят… На собрании «актива» НКВД он скажет: мы превратились в охранку, мы служим е м у, а не партии рабочего класса. Да, скажет, и будет то, что будет… Он пил крепкий горячий чай и не мог согреться.
* * *
В минувшем августе пошел на Ваганьковское, к Булату Окуджаве.
Рядом с церковью вдруг да и приметил могильный камень: Артузовы! Лидия Дмитриевна и Лидия Артуровна. И зять Артузова – Стемпковский. По батюшке Адольфович. А ведь Адольф-то Стемпковский выдал некогда эмигранта Нечаева швейцарским и русским полициантам.
Что вы мне ни говорите, а Нечаев, не Маркс-Энгельс, а Серега Нечаев, истинный предтеча большевиков. Он товарища своего убил, кровью товарища повязал других. А главное-то, заквасочку передал, умение выскакивать из глупейших рамок честности, элементарной, как говорится, а говорить-то надо бы: единственной.
Интересное, между прочим, кино. Едва завел он, Нечаев, знакомство с эмигрантом Стемпковским (в Цюрихе дело было), как тот и выдал, предал, заложил, и Серега Нечаев попал в Алексеевский равелин, где и принял смерть.
Вот, повторяю, кино интересное. Тут по касательной и Александр Сергеевич Пушкин. Штука-то в том, что муж его сестры, Поливанов, служил в Варшаве… Гм, не только редактором русскоязычной газеты, но и куратором русской заграничной агентуры. Это ж задолго до известного вам Рачковского было. Этот Поливанов, он кем, согласно родственной номенклатуре, приходился Пушкину?
* * *
Вот графиня Меренберг – дочерью. Она и выручила Джунковского.
Ночной визит Артузова сильно растревожил Владимира Федоровича. В разыскания чекиста не хотелось впутываться старому генералу.
Что же теперь делать? А теперь оставалось ждать. А делать было нечего, кроме одного дела, связанного с музейной закупочной комиссией. Там его знали.
Владимир Федорович тщательно упаковал акварельный портрет дочери Пушкина, графини Меренберг, мне непонятно как доставшийся Джунковскому, упаковал и поехал электричкой в Москву.
В Москве он провел день. Побывал на Ордынке, у обители, некогда согретой деятельной любовью великой княгини Елизаветы Федоровны. В арбатских переулках побродил. Издали на Ивана Великого перекрестился. И ощущал печаль расставания с Москвой и не только с Москвой.
В Перловку Владимир Федорович еле приволок ноги, но долг свой– последний, как и прощанье, выполнил: портрет продал за пятьсот рублей, я расписку видел, деньги отдал сестре. Как говорится, на дожитие.
* * *
Слыхал, будто дворники на него донесли. Дворники и прежде, и тогда были на доносы повадливы. Да откуда они в дачной Перловке? Нет, тут артузовский шофер… Подтверждая и упрочивая преданность в борьбе с врагами пролетариев всех стран, указал он маршрут последней поездки начальника. Чего ж винить шофера? Он правду сообщил.
Приехали за Владимиром Федоровичем, разумеется, ночью. Это уж после ликвидации заговорщика и двурушника Артузова, он же Фраучи. Приехали не на «бьюике», а на «газике», но тоже казенном.
А потом пришли за ним в тюремный коридор, где были одиночки смертников. Не железные двери, а дубовые, с толстенными, тоже дубовыми затворами вдобавок к замкам. Пришли в тот самый коридор, где в восемнадцатом, краткосрочным зеком Владимир Федорович разносил смертникам книжки, предлагал шепотом Евангелие, да почти никто не брал. Ну и телесное врачевание тоже не принимали. Зачем? Все кончено. Послушайте, а может быть… Ничего не может быть, кроме того, что я перестану быть… Доктор Мудров, тоже заключенный, ожидавший смертного приговора, лечил Джунковского от воспаления кишечника. Однажды сказал совершенно невозмутимо: «Больше вас лечить не смогу. Сегодня ночью и меня туда же. Прощайте. Выздоравливайте».
Его возьми примером. И запевай поротно: «То ли дело, то ли дело егеря, егеря, егеря…» – «Не беспокойтесь, перед расстрелом мы крикнем „ура“».
Вопрос открытый: удалось ли?
* * *
Печален был товарищ Сталин. Хрущев сочувственно внимал.
Под круглым канцелярским абажуром светили ярко две лампы, размещенные валетом. Стоял тяжелый час в ночи, который иногда зовут меж волком и собакой. Погасла трубка. Товарищ Сталин выбивал табак. Запахло гадко: нагаром, никотинной слизью. Он в паузах скрывался, как в подземелиях Кремля. И возвращаясь, продолжал, что на Лубянке возвели напраслину: дескать, в революционном прошлом Сталина немало темных пятен. Пояснил: как верно говорят у нас в народе – тэнь на плэтень.
Хрущев развел руками: нету слов, и головою покрутил. Он был и лично оскорблен. Не понял искренний Никита, каков забой почетного шахтера. Ха, тот готовил смену караула – уж больно много знают и норовят, поди, удрать из-под контроля.
Хрущеву бы спросить, кто авторы напраслины. Да забоялся внезапной перемены настроения. Сейчас печален вождь, ан, глядь, и клацнет желтыми клыками.
Вопрос открытый: имелся ли в виду средь прочих и Джунковский?
* * *
А Бурцев, тот ввел Джунковского в штат камарильи. Она не жадная толпа, стоящая у трона. Нет, камарилья, как и комары, кровососущая, витающая свора.
Хоть речь-то о царизме, не тянет на согласье с Бурцевым. И все ж вопрос: в чем смысл и цель враждебности Джунковского к В.Л.? В наличии ведь близкие позиции. И отрицанье провокаций. И желание избавить государство от Распутина. И патриотизм, а стало быть, участие в борьбе с тевтонским натиском. Но Бурцев, позвольте вам напомнить, рассчитывал и на реформы, на конституцию. Ужель они претили либеральному Джунковскому? Вот и задумаешься: а может, Владимир Федорович не прощал Владимиру Львовичу изобличенье тайных механизмов– ну, так сказать, вмешательство извне в те сферы, что подлежали лишь мундирам? Да ведь поймите, он, Джунковский, пришел на Чернышеву площадь, в министерство внутренних дел, позднее. Так что же? Ужель Джунковский, что называется, порядочный, банально, тупоумно мстил? Я развожу руками, как доверчивый Хрущев: нет слов. У Бурцева они имелись. Он и зачислил нашего гвардейца в камарилью. Джунковский навещал его в тюрьме; тем самым признавая за В.Л. известный вес и значимость. Однако государственных соображений о пользе пребыванья Бурцева на воле не высказывал.
Формально же В.Л. судили вовсе не за публичность экзекуций над иудами-азефами. Нет, нет, формально отвечал он за оскорбленья государя императора в газетах, в журналистских выступлениях. Там, в Париже. А отвечать-то приходилось на Литейном, в петербургском окружном суде. Поскольку выгоду от гласности никто в расчет не брал, его и осудили на поселение в Сибири. Предполагалось, правда, что государь отменит приговор в видах практических: известный журналист сослужит службу в защите словом нашего отечества. Увы, Иов многострадальный, ничуть не сострадая Бурцеву, поколебавшись, приговор не отменил.
Тотчас послышались отечественные звуки: кандалы. Послышался и шорох бритвы – полголовы обрили. Надели робу на божьего раба. Да и доставили в уже известный матушке России столыпинский вагон. Он очень тряский, и посему жива надежда на избавленье от великих потрясений.
* * *
Вот, говорят, уже написан Вертер. Но саги об этапах нет. Отметим перво-наперво ужаснейшую давку. Она попрала все законы физики; небесную механику тем паче. И этот трупный запах.
Но, черт дери, бывало, в тесноте, да не в обиде.
Взгляните-ка на этих двух, в щетине и рванине. Радешеньки! По спинам, по плечам прихлопы: «Здорово, брат!» – «Ну, здравствуй, кореш!» Они, скажу вам, однодельцы, не заложившие друг друга. Иль беглецы на пару; плохая им досталась доля… Случались встречи исторические; историософские в известном смысле. «Артур?» – «Артур». – «Я – Гербель».
Важны и диспозиция, и содержанье диспута.
Позвольте их представить. Артур (забыл я отчество, фамилию), Артур– полковник, имеет срок за критику советской власти, известную лишь КГБ от стукача. Гербель – старый коммивояжер; ну, разумеется, там, за рубежами, где он в конце Отечественной был схвачен и сочтен изменником, продавшим не радиоприемники от Филипса, а дорогую родину, однако, неизвестно, кому и за какую цену. А ваш слуга покорный– посередке, как буферное государство. В огромном помещении – параша тут не бочка, а вонючая цистерна– античный хор из осужденных жужжит, поет и матерится. Но это не мешает диспуту.
Застрельщиком был Гербель – усы прокуренные, глаз голубой со стариковской поволокой. Мысль его проста. Он, Гербель, присягу не бросал под хвост кобыле… (Я не сказал, что Гербель и Артур – до катастрофы служили в одном полку, лейб-гвардии гусарском…) Присяге он, Гербель, не изменил, а вот антисоветские высказывания воспроизводил, подчас вполне заборные. А ты, Артурчик, к большевикам подался, «так за Совет народных коммиса-а-аров…». Ну, и выходит, ежели по справедливости, махнуться бы нам с тобой не глядя статьями-сроками. Ты изменник – тебе и четвертак. А мне, чистейшему антисоветчику, мне – восьмерик.
Полковник сопротивлялся вяло. Мол, переход на сторону народа вовсе не измена. Бубнил, как на политзанятиях с младшим комсоставом: у нас автомобилей не было, теперь автомобили есть; у нас самолетов не было, теперь самолеты есть… Гербель в потолок поплевывал. Дескать, у нас концлагерей не было, теперь концлагери есть; у нас рабов-крестьян не было, теперь есть… Наконец, все это ему надоело. Он ко мне обратился, словно бы к судье третейскому, а я возьми и брякни, как тот сторож в дачном кооперативе бывших народников: «А так вам, чертям, и надо!»… С минуту лейб-гусары помолчали да вдруг и начали смеяться, ударяя один другого ладонью по ладони, как это делают кавказцы. Вот эпизод этапной саги.
А есть такая странность. Прибыл в пересыльную, охота поскорее до места добраться. Знаешь, не на блины к теще, а есть, есть эта тяга к постоянству, а не к перемене мест. Словом, ждешь. А дождешься – и всегда будто внезапность, так сердчишко-то и екнет. Ну, дело обыкновенное, инфарктов не наблюдалось. Другое видел. Вообразите расставание с подругой. Навсегда! Тут не то чтоб дан приказ ему на Запад, ей – в другую сторону. Нет, по Северам разметают, оставь надежду. И вот, представьте, неувязочка, что-то там спуталось, не сошлось – зеки и зечки хлынули изо всех дверей на огромный двор. Я и мигнуть-то не мигнул, как уж и очутился в каком-то зековском круге, все с мешками, у кого в руках, у кого на горбу, и этот сырой глинистый запах. Мелькнула согнутая женщина – юбка задрана, ягодицы белые-белые… И сразу крепчайший подзатыльник: «Не зырь, мужик!» Весь круг спиной оборотился, никто не пялился на прощание вора с воровкой. Это вам, господа, не бацать: «Гоп, стоп, Зоя, кому давала стоя». И не сауна с платными щучками и подсадными утками. Но и то должен сказать, что надежда была ребеночка заиметь. В эдаком случае и амнистии случались. Мда, случались. Ступай, мол, на свободу. А вспоможения никакого, ни единого подгузничка. Я этот мост, за станцией Фосфоритная, мост этот помню, над речушкой. Они, которые из Вятлага на свободу, они там детенышей своих на ходу выбрасывали, из вагона – и туда; давно уж, наверное, лисицы растащили, обглодали младенчиков. А по бокам-то все косточки русские…