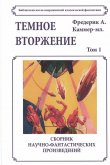Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Знаю, знаю, племя молодое брюзжит: все-то у вас, старичье, одни недостатки на уме. И ты вдруг чувствуешь желание подольститься, распотешить, мы будем петь и смеяться, как дети… Слушайте, детушки. У вас зубки-то часом никогда не болели? А дантиста, представьте, как в Бермудском треугольнике, хоть шаром покати. На стену полез бы, если бы к стене этапной камеры добрался. Куда-а! Но вот оно, отсутствие черных недостатков: на берегу великой русской и нерусской реки Волги, в пересыльной тюрьме всесоюзного значения был зубной кабинет. Чудо! Врачиха была в годах, я к ней сразу расположился, потому что руки у нее пахли земляничным мылом, как у моей мамы. Зубы простукала, словно путевой обходчик вагонные колеса, взялась за дело. Сверлит, сверлит. Я вцепился в собственные ляжки, терплю. Сверлит, сверлит. И что же думаете? Два здоровых зуба высверлила, а больной… Завтра, говорит, на этап пойдете, не успела. Ну, детушки, развеселились, а? На том пожмем друг другу руки, потому что и вправду на этап меня выдернули.
* * *
Были они и сухопутные, были и водяные. А были и такие географические пункты, откуда на этап отправляли и посуху, и по воде. Примером беру тюрьму тобольскую нагорную старинную. Туда экскурсии водить. Там, в мертвом доме, думу думал автор «Бесов». А потом – бесенок, мартышечка очкастая. Кремлевские бабы его любили. Остер был на язык, пером владел. Вождю с улыбкою полуистины говаривал. Из судебной залы сотоварищей на расстрел повели, а его – на этап, на этап. Тобольские узнали, что к ним – в эту нагорную, старинную – привезли Карла Радека, и перешептывались: «несчастный человек», и в этом «несчастный» было простонародное сострадание к узникам, лишенным счастья. Радек и сухим и морским путем Колымы достиг, а на Колыме его настигли, говорят, уголовные, да и порешили, пошел он догонять сотоварищей… Но я Тобольск вспомнил не ради Радека и даже не ради Достоевского, а ради бабушек. Они меня и теперь примиряют с разумной действительностью. Так и вижу старушек в платках, в кацавейках, в темных юбках, на косогоре их вижу, у пристани, вот они и в дождь, и вёдро непременно появляются, когда арестантов ведут к барже, к пароходу, а они, безвестные эти старухи, тоненько поют «Со святыми упокой…». Еще живых отпевают, потому что как же их не отпеть, если там и отпеть-то некому. Тоненько поют, всех крестят, даже и такую сволочь, которой тюрьма гнушается. И еще долго-долго на косогоре стоят, пока труженик-буксир не утащит из виду арестантскую баржу… Сутки будет тянуть, пыхтеть, плицами стучать. Сутки, а может, и дольше. А потом всех заключенных вытряхнут из баржи на матерый берег, в безлюдье, в комариный звон, в духоту лилово-сумрачных дебрей – и поминай как звали, не скажут ни камень, ни крест, где легли. Вам непонятно, в чем тут дело? А ну-ка вспомните: в мире есть царь, этот царь беспощаден…
Но наш Иов, наш царь, ничуть не сострадая Бурцеву, не обрекал его на голод. Всем ссыльным от казны помесячно ссужал пятнадцать рэ. Притом, прошу заметить, свободно конвертируемых. Казенный пароход– в отличие от частных не колесный, а винтовой – ходил из Красноярска вниз по реке. Он был послушен капитану: «Правей маненько… Левей маненько…». И погудел, и посвистел, и выволок баржу на стрежень.
Державное теченье у Невы? Полноте, державен Енисей. Всей государственною мощью, всей своею ширью сплывает в океан. И эту глубь брал в оборот винт «Туруханска»; тащил он на канатах арестантскую баржу. Его машина одышкою страдала, как наша, вспомните, ребята, «Умба» на Белом море. А все ж стучала, все ж старалась. На берегах, крутых иль плоских, поверх лесов разлился, хоть черпай ложкой, малиновый закат. Недурно было б спирт запить сиропчиком. А разбавлять не надо – авторитет утратишь. Тогда уж не пеняй, что «Туруханск», казенный пароход, твои «маненько» не признает.
Премьер Столыпин желал добра России. Она взяла лишь «галстук» и столыпинский вагон для заключенных. Такой вагон зачеркивал все впечатленья бытия, кроме селедки, жажды и очередности оправки. Плавучая тюрьма, коль ты не в трюме, а на палубе с высоким железным частоколом, дарила ощущенье холода на скулах, и это был живой привет всех островов и перекатов, деревень и пристаней, облаков, рассветов и закатов, луны, ходившей, как на привязи, за солнышком. И эти огоньки в ночах. Они мерцали, гасли и снова загорались. Их видел Бурцев. Он не был бы с младых ногтей народником, когда б не помнил Короленку: мы плыли по широкой угрюмой реке; вдали дышал и манил живой огонек; приближался, был совсем-совсем близко и вдруг исчезал за поворотом реки; и жизнь текла все в тех же угрюмых берегах; но вот опять вдали переливается огонек, и мы опять налегаем на весла, потому что все же… все же впереди – огни.
* * *
Село Монастырское, назначенное Бурцеву, располагалось на правом высоком берегу совершенно уж необозримого Енисея. Здесь он принимал резвую Нижнюю Тунгузку. Она сдуру намыла отмель. Хочешь чалиться– огибай осторожно.
На приплеске сохли рыбачьи сети. Чуть дальше тяжело громоздились корявые шкуры сохатых. Знающему человеку было понятно, что колесный «Орел» повез тунгусам и остякам муку и водку в промен на пушнину, а на обратке заберет эти оленьи шкуры.
Стояла у причала большая грузовая лодка. Команда была в комплекте: сознательная лошадь, две бабы и мужик. Сегодня, завтра нагруженную лодку потянет бечевой кобыла; одна из баб – верхом; другая – на руле; а бородач продолжит смолить махорку и наблюденье за процессом, утверждая власть патриархата и на воде, и на земле, и, в частности, вот здесь, в селенье Монастырском, Туруханский край.
Начальником всей Туруханки был Кибиров. Не говорите глупости, в России это больше, чем поэт. К исправнику приставили огромный край. Величие России в чем? В величине! Кибиров это понимал; он был неглупый малый. Высокий, с резкими морщинами; широк в груди и тонок в поясе. Глаза горели черными огнями, что было, несомненно, светлою надеждой на покоренье Северов. Жена исправника держала дом исправно. За пышным разворотом плеч имела верная славянка курс гимназии. Кибиров дозволял Кибировой читать романы в его домашнем кабинете. Там на одной стене повешен был наш государь – последний! – во всем параде, в полный рост. А на другой стене – кинжалы, сабли, пистолеты. (Взгляни и вспомни набор кавказского оружия, подаренный Распутиным– царевичу.) В столовой четко тикали часы «Модерн», и это много значило в духовной жизни всей округи. Народ-то жил счастливый, часов не замечал, поскольку не имел часов; подчас не зная, ложиться спать или вставать. По сей причине здесь случалось Пасху праздновать на сутки раньше или на двое позже. Теперь уж сам Кибиров, корнями мусульманин, следил за христианским распорядком жизни – имел часы «Модерн» из магазина «Ревильон и K°».
В том пестром магазине – приказчиками латыши как представители Европы – торговали табачными изделиями. Сюда заглядывал тов. Джугашвили-Сталин, влюбленный член ЦК. Он покупал плохие папиросы «Нора» потому, что коричневую бандерольку метил белый женский профиль.
Ну и довольно об этой лавке, здесь не Кузнецкий мост, а Монастырское и вечный наш народ.
Все избы с клетями, подклетями, амбарами и крытыми дворами. На днях один ревнитель нац. характера попал впросак. Он пел о северянах: в старину замков дверных и ставень не было – широкие натуры, соседям доверяли, все нараспашку. И тут же ляпнул: амбары с двойной крышей замыкали пудовыми замками. Ой, лю-ли, ой, лю-ли… А в избах воздух, хоть вешай топоры. Но это потому, что чернышевские к нему призвали Русь. Так, может, в хлев мне заглянуть? Но там ведь хлевный дух. Вот тоже, знаете ль, вчера наш замечательный писатель-реалист печалился о том, что постсоветские крестьянки в навозе огрузают по колена. А я, как сноб, подумал хмуро: чего ж это они не изукрасят свои рабочие места ромашкой-лютиком? И пусть прозаик-деревенщик, как ворон, выклюет мои бесстыжие глаза.
Другое дело Бурцев. Он смолоду народник. Доставят в Монастырское– пойдет по тротуарам. Здесь они надежнее, нежели парижские панели: из исполинских досок отслуживших срок баржей. По этим тротуарам наш парижанин отправится в народ. О доле будет говорить и о недоле, и о войне с германцем. И с умиленьем подмечать, как в местном говоре играют в прятки «ч» и «ц»: «У нас собаку на чепи не держат»; «Сейцас я цайник вскипяцу». И вскипятят. Попотчуют прежирной рыбкой тугунком. Предложат кое-что на вынос: икорки фунтик – шестьдесят пять коп.; за пудик осетринки – четыре руб. Сиди и разговоры разговаривай. А если попроситься на житье?.. Нависнут брови, глаз не видать. Э, нет, уж поищите у других хозяев. Что так-то? Объяснят вам, не таясь, в открытую, поскольку ведь душа-то нараспашку: а вишь, господин хороший, с вашим братом, поселюгой из политиков, одна докука– дров изведут, что твой казенный пароход; в клеть его не сунешь, нет, ты горницу ему отдай; за книжками-газетками он бочку каросину истребит, а скажет: что ты, что ты, куда как меньше… Э, нет, уж вы к соседям-то зайдите. У них там печи не дымят, те-епло и сытно… Короче, «поселюги» звучало, как «подлюги».
От поисков пристанища избавил Бурцева сам господин исправник. Должно быть, как и Хайнце, ротмистр в финляндском городке, Кибиров сомневался, уж так ли виноват В. Л., коль доброй волей воротился. Начальник Туруханки имел при управлении полиции недвижимость, ну, вроде дома для приезжих: стоял над Енисеем и прозывался «маяком».
Итак, наш Бурцев в Монастырском, где проживают «поселюги» разных партий. Важней других – большевики. Как горек был небратский их привет… Ха, Пинкертон! Ты, Крысолов! Карьеру сделал на Азефе, да и решил, что все кругом иуды. В Париже – шаржи: Бурцев объявляет, тряся бородкой: такого-то числа провокаторы, собравшись у меня, вскроют всю мерзость падения партийных организаций. Пинкертон предполагал– его с восторгом примут. В толк не возьмет, что и кропоткины-плехановы давным-давно остались за бортом. Ну ладно, этот Бурцев публиковал статьи известного разряда: Николай и Распутин. Но про царя он не кричит, как прежде: «Долой царя!». Какова позиция? Война, отечество, реформы… И что ж выходит? А то, что гнить нам в Туруханке. Слуга покорный… А Бурцев думал: да это ж даже и не бесы. Те в поле водят и кружат по сторонам. А эти все ужасно мелкие. «И вот он в точку уменьшился, в комара оборотился». Их однозвучный звон убьет все звуки жизни. Ужели спасу нет?
Охапка дров, корзина шишек, сухие травы и сухие прутья. Запаливай. Пали. Голубовато-сизый дым поплыл, запахло кедрачом. Першит, дыханье перехватывает? Терпи, освобожденье близко. Гляди, уж эти кровососы шатаются столпами, вяло никнут. Дверь настежь, маши разлапистою веткой ели. Прояснело, мертвящий звон пресекся. Как вольно дышишь.
Надолго ли без комаров? Не будем врать самим себе. Не пессимизм, не оптимизм – неизбежность: они до точки уменьшатся и наплодят мильоны комаров. Но все же хоть немного да без них, без них, без комаров.
* * *
Комар и носа не подточит в монастыре. В.Л. обрел там золотую жилу. В вечной мерзлоте? Жилу открыл для Бурцева игумен его высокопреподобие о. Серафим. Серебряные нити в черной бороде. Он в круглой черной шляпе, в черной рясе. Спокоен, но не надут; задумчив, но не отрешенно; он окал непритворно. Давно ли во игуменстве? Точно не скажу. Известно, что в оны годы имел веселый, бодрый нрав. Прикладывался… Помилуйте, к мощам Васёны Мангазейского, конечно, тоже, но чаще – к прикладу своего винчестера. Переменился резко как раз в тот год, когда в Париже Бурцев изобличал Азефа. А здесь, на Енисее…
Уже оскоминой повторы о русском бунте. Однако ведь отчаяние не бессмыслица. Бунтовщики шли к северу, надеясь по весне бежать на пароходах за границу, как друг мой Алексей Данильченко, донбасский рудокоп. Иллюзия! Но – шли. Не мирно, с боем. Их было несколько десятков человек. В Монастырское… стояла ночь яснее ясного, мороз жестокий… в Монастырское они на лыжах прибежали. Спросонья стражники, и мужики, и бабы – стреканули в монастырь времен Тишайшего царя и затворились, как от Емельки Пугача. Вдруг все стихло. Такие «вдруг»– желание прислушаться друг к другу. Перед воротами стоял один из беглецов: треух был набекрень, в руке ружье. И резко обозначенный луной, кричал, что никого не тронут, возьмут, что нужно, и уйдут. Винчестер грянул, он рухнул в снег, отец Серафим попятился, крестясь и закусив губу… Тут завязалась перестрелка. Монахи не отставали от мирян. Мятежники и от мирян, и от монахов. Взломали ворота и ворвались. Все побежали в церковь, как в дни Мамая. Игумен не бежал, молился на коленях. Ему сказали: потом договоришься с Богом; да передай, нас довели до ручки. По найму – ничего; пособие – шиш; лавочники в зачет не отпускали. Ложись и помирай? Мы голодом сидели четыре месяца. А вы тут, православные, нам ни полушки! Теперь берем, как и в других местах, оружье, деньги, лошадей.
И в эту ж ночь ушли – на Север, к океану.
По тундре, по широким просторам…
Не поезд мчится Воркута-Ленинград, тяжелая машина там, во мгле, зависла над тундрой, над широким простором. Зависла и летит на встречу с зеками. Клубочками, клубочками кружится, плещет выдох, как у младенцев. Они лежат, как в колыбелях. Их положил конвой, они лежат. Ничком иль навзничь – выбор твой, а выбор, говорят, свобода. Лежат теснее тесного, ну, как на нарах; плечом к плечу и боком о бок. Сплоченно огрузают в тяжкую дремоту. И засыпают, засыпают, точно рыбины. Смерзается бригада. Еще одна. И эта, третья. И снится им трава у дома, трава у дома, и возникает огромнейшее «Т» – посадочная полоса: летит во мгле машина на встречу с зеками. Поодаль горят костры, не дремлют пулеметы, их утепляют зековские телогрейки… Как пошли наши ребята в Красной Армии служить… Здесь зеки полегли, да и замерзли, а там горят костры, чтоб летчик Водопьянов видел, где посадить тяжелую машину. Она летает выше всех, она летает дальше всех, а нынче пробежит по этой «Т» из мертвых, мерзлых зеков. Лежат вражины и не шевелятся. И летчик Водопьянов удачно посадил тяжелую машину. Ревет мотор, она бежит по зекам. Ура, Герой Советского Союза. Он будет выпивать и книжки он напишет, но не об этом. И не сойдет с ума, как те, кто бросил атомную бомбу на Хиросиму…
И пусть меня простит не летчик Водопьянов, а заключенный Алексей Данильченко, донбасский рудокоп. Я от письма его отвлек. А он писал жене, она ему не отвечала лет уж двадцать, но он настаивал: «Пришли-ка мне очки, я здесь не вижу ничего бацильного, ни сала и ни сахара»– и улыбался черным ртом, он сам себе придумал горчайшее из развлечений и вот беззубо улыбался, корявым пальцем поправлял очки, они давно уже на проволочках да на веревочках. Как у того, которого убил игумен. Тот здесь остался, в Монастырском, а все его товарищи ушли – на Север, к океану.
По тундре, по широким просторам…
Сперва-то шли, потом тащились. Погоня близилась. Все шли да шли, тащились и тащились. Погоня их настигла. Измученный поручик распоряжался сипло. Одних забили в кандалы, других забили насмерть. Ка-а-кие маки расцвели на белом снеге. Ка-а-кой был пир песцов, аж белый снег поголубел.
В те дни игумен Серафим винчестер снес в кладовку и вымыл руки скипидаром, как философ Соловьев после «общения» с презренными банкнотами. А для игумена то было отреченьем от охоты в тундре. Он сделался угрюмым домоседом.
Нельзя сказать, что появленье Бурцева хоть как-то повлияло на него. То было бы отрыжкою идеализма. А ежели что было, так только хмуро-неглубокое неудовольствие: прибыло не нашего полка, а иудейского. Исправнику спасибо, сообщил: «Не жид, а сын штабс-капитана». Но было бы натяжкой полагать, что одно лишь это расположило настоятеля к В.Л. Наверное, покажется вам странным, но говорю вам правду – отец-то Серафим, представьте, не жаловал охранку и полагал, что в услуженье кесарю не должно привлекать иуд. Как видите, сей черный человек был во священстве белою вороной. Отсюда его тайная симпатия к В.Л.
Игумен пригласил, В.Л. пришел. Недоумение сменилось благодарностью при виде рукописей, предложенных к прочтенью. Они хранились в этой келье. Одна – с заметами о праведниках полуночных краев. Другая… Любому покажи, взъерошит волосы: Пушкин. Сафьяновый бювар весь в паутинках-трещинках, они белесые и тоненькие, как нервные волокна… Само собою, Пушкин всего на свете нам дороже. Бювар – на стол.
* * *
Пушкина, который не Мусин, на Колыму сослали. Туземцы окликали его Пашкиным. Спасибо и на том. Могли б и Пистолетовым.
Исправником в Средне-Колымске был Тарабукин. Человек толковый. Судите сами. Он получил однажды от петербургских знатоков статистики реестр вопросов. Ему велели сообщить, каково на Колыме животное царство. Он отлил пулю: «По невежеству местных жителей оное царство на Колыме не обнаружено».
Теперь к его обязанностям прибавилась ответственность за ссыльного, участника несчастнейшего происшествия на Сенатской площади. Якуты качали головами: Улахан Ханлах; сказать по-русски: Большой Преступник. Казаки просвещенно объясняли, что этот Пашкин вконец рассорился с царем и тот не стал кормить его оленьим языком.
Тарабукин отвел ему горницу в своем просторном доме, где в комнатах топили семь раз на день. Горница понравилась Пушкину своей голландской печью. Ах, обливные изразцы, как в отчем доме на Тверском бульваре.
Исправница ему благоволила. Глаза Наталии Архиповны – голубоватые пронежины, точь-в-точь сибирская сорока – чередовали томность с желанием похитить постояльца. Ее старанья (предварительные) сосредоточились на рыбных блюдах. Положим, Тарабукины как раз и значит– рыбоеды. Положим, Колыма своею рунной рыбой и рыбой стайной изумила бы и гастрономов из школы Лёвшина. Все так. Но следует открыть секрет, на Колыме известный колымчанкам. У рыбы – рыбья кровь, да вот поди ж ты, разжигает любострастье. Наталия Архиповна старалась по части рыбных блюд. И вдруг взялась за спицы. Ее предмет просил связать трехцветный шарф. Она вязала. Он бриться перестал и обрастал пречерной бородой.
Шарф исправница связала. Тотчас перепоясался, как кушаком, да и пошел по избам и по юртам. Везде пророчил он Колымскую республику. И утверждал, взойдет заря пленительного счастья. Конечно, думал он, палаты Аглицкого клоба – народных заседаний проба. Но то – в Москве. И то – не то. А здесь, в Средне-Колымске… Вот только бы не напугались слова «шарф». И говорил он вместо «шарф» – «кушак», что было данью шишковистам.
Исправник Тарабукин, умный человек, спросил: «Скажите мне на милость, сударь, а каково же назначенье кушака?» Он в этот вечер потчевал его, как гостя, оленьим языком; такое и царь с царицей в Зимнем вкушали отнюдь не каждый день. И Пушкин, он же Пашкин, губы облизнув, молвил с важной расстановкой: «Сие есть знак достоинства». Исправник поднял брови. «Ну что ж, – продолжил Пушкин, он же Пашкин, – вам, сударь, любопытно. Извольте. Сей знак есть знак Колымского парламента».
Исправник знал подвластный край. Он заключенье вывел, что республиканскому правленью годятся лишь кочевые чукчи: они наделены природным чувством независимости. А нашенским, гугнивым, необходима палка. Живут-то на «буат», что по-колымски значит на «авось»: «Буат, пошлет Господь лисичку».
Тарабукин тарабарить не желал. Он отписал в Иркутск, что государственный преступник спрыгнул с ума. Уж лучше б посох и сума. Всего же лучше – монастырь. Там души лечат.
* * *
Пушкин-Пашкин, прощаясь с Колымой, свой талисман оставил якуту по имени Никуша. Из рода в род в Никушином семействе хранился трехцветный шарф. Кушак однажды был с гордостью предъявлен заезжему Начальнику. То был Большой Начальник – реглан из кожи на пуху гагачьем. Большой Начальник, он же Старший Брат, кивнул и улыбнулся, и сказал – все мы должны умножить рев. традиции ударным соц. трудом. И одарил Никушу пачкой толстых папирос, что назывались «Пушка». В честь Пушкина, сказал Большой Начальник, он же Старший Брат.
То было в девятьсот тридцать шестом. Свозили в Магадан республиканцев. О да, на Колыме всходила заря пленительного счастья. От слова– плен.
* * *
То в кибитке, то пешком чернобородый Пушкин, который не Мусин, перебирался с Колымы на Енисей. Он был доставлен в Туруханку, в монастырь. И в келью водворен. Она была подобна карцеру. Во глубине Сибири такие кельи-карцеры именовались почему-то корабельно – каютами.
Не объявляя голодовку, он ел такую малость, что и церковная бы мышь заголодала. Сиживал часами за решеткой у оконца, весь словно без костей, с опущенными плечами; на Колыме якут Никуша сокрушался: совсем копной сидит. Но от прогулок не отказывался.
На колокольню лествица вела. Студила студа, Млечный путь дымился длинной-длинной полыньей. Шептали звезды, и этот шепот тихо ниспадал мириадом льдистых блесток. И, как на Колыме, мистерия Сиянье Севера, Nordicht. То медленно, то быстро передвигались столпы огня; яркие лучи, выстреливая кверху, вдруг, сблизившись, венцом ложились вкруг луны. Какие-то фигуры или тени, числом не меньше тыщи, бороздили темно-голубые небеса. Играли сполохи. А сполох – в старину – пожар. И должно полошить набатом. Однако тишина глубокая, как эта синева небес. Но Пушкин вздрогнул. Среди фигур иль теней парил Васёна Мангазейский. В рубахе длинной распояской, подстрижен скобкой, ликом светел. Витал он словно бы на самолете, на ковре, как в сказке, однако Пушкин знал, что в этой сказке есть намек.
* * *
Когда-то в низовьях Енисея стоял полночный град. В пять башен. Свистели ветры; стрельцы в кулак свистели. Град назывался Мангазеей. Считался златокипящей вотчиной царей. Отсюда каждый год везли в Москву сто тысяч шкурок соболей.
Водились Пушкины с царями. Цари, бывало, ими дорожили. И назначали воеводами. Один иль два – разновременно – сидели в Мангазее, надзирая, чтобы кипенье злата не остыло.
Тогда ж, при Пушкине, там жил Васёна – родом ярославец, ликом светел, нравом чист. Служил богатому купцу совсем иного ндрава: имел наклон к поклепам. Васёне пробил страшный час. Стрельцы схватили да волоком на съезжую. Огнем прожгли, железом изорвали. Воевода Пушкин притопывал ногой; он был нетерпелив, он жалости не ведал. Васёна помер в пытошной избе. Обезображенную плоть не схоронили, нет, по приказу воеводы Пушкина – скорей, скорей стащили в топь.
А невдолге не стало Мангазеи. Пять башен рухнули. Пожары отгорели, и на пожарищах мелькали голодные песцы. Но мощи Василья Мангазейского в забвенье не остались. Перенесли их в монастырь, что вознесен над Енисеем и Тунгуской.
Васёну поминали вёснами. В десятый майский день. Прихожане пахли влажной берестой. Теснились все к Васёне – на левом клиросе. Соборне служба шла. Но Пушкина ты хоть сейчас соборуй. Понур и бледен, он держался в стороне, ловили ноздри смрад пытошной избы, где воевода Пушкин замучил бедного Васёну…
Поэт-однофамилец и, конечно, свойственник, потомков звал гордиться славой предков. Особливо потомков бояр старинных. А не гордишься, знай, что ты постыдно малодушен. Но этот, заточенный в монастырь, носил фамильное прозвание двойное: Бобрищев-Пушкин. Он малодушен был лишь в смысле душ дворовых. Поручик, но разжалованный. Лишенный прав дворянских, но не лишенный права казниться своей единосущностью с мучителем-убийцей. Судите сами, сошел ли он с ума?
* * *
Лаврентьич, сын покойного Лаврентия, такой, знаете ли, солидный, ухоженный, гладкий, прилежно отмывал папаню-кобеля. Перевернулись бы в гробах все жертвы Берия, когда бы хоронили их в гробах. Сказал, что да, конечно, малость перегнули палку, а так-то что ж, он был не виноват. Шофер-сосед (мы с ним смотрели телевизор) как будто харкнул: «Ну, сука, ноль эмоций!».
Назавтра в коридоре какого-то издательства увидел стенд «продукции» под названьем: «Старый уголовный роман». И посередке: Серго Берия «Мой отец Лаврентий Берия». Ах, покупайте, покупайте, взгрустните о минувших временах. Гордиться надо славой предков. А покаянья требовать с жидов.
Валяйте. Но как избыть, как позабыть железный строй солдат, ушедших с рюкзаками совсем не в туристический поход? Отец Серго курировал созданье Бомбы. Да, атомной. Да, чтоб не отстать от США. Так вот, плутоний нужен. Плутоний есть, в наличии. Но нету техники, спецтехники доставки к месту сборки этой лярвы. В подобных случаях всегда есть контингент. Отец Лаврентьича отдал приказ – пусть тащат в рюкзаках. И потащили. И притащили. Промучились остаток дня и ночь, на утро – сотня мертвецов. Зарыли без салюта, не скажет ни камень, не скажет и крест. Как это мне избыть, как позабыть?
* * *
Голубоватой, словно голубика, была бумага. На ней писалось тушью «Житие Василья Мангазейского». А все хождения подвижников сибирских– чернилом. И это значит, что лесотундру достигли чернильные орешки и купорос, без них чернилам не бывать.
Буранил на дворе буран. Игумен Серафим предложил ночлег в обители. Голос был теплый. Бурцев подумал о Бирске.
Когда папенька преставился, Бурцев, гимназистом, жил в Бирске, в глуши, у тетки. Там пахло медом, дегтем, бочарным производством.
Мне этот Бирск охота было бы объехать стороной. У нас, однако, прозаиком ты можешь и не быть, провинцию живописать обязан. При этом заруби-ка на носу: они там все ужасно щепетильны; своим прощают все, чужие – не замай. А коли ты столичный, то, стало быть, и штучка, в литературу ты проник посредством, извините, заднего прохода.
Да, был Бирск, пожалуй, неминучим. Меня остановил философ Лосский. Сказал: «Будучи в третьем или четвертом классе, я начал писать роман, местом действия которого был почему-то Бирск, совершенно неведомый мне городок Уфимской губернии».
Я, как и Лосский, не стал писать о Бирске. Нескромное сопоставление? Но скромность украшает лишь большевиков. Так думал в Монастырском и в Курейке Джугашвили; он порицал нескромного Свердлова. Согласен с ним, но уж позвольте выйти на прямую.
В.Л., конечно, мой «объект». Но суверенный. Он волен и свои суждения иметь, нимало не заботясь о сужденьях автора. Вот так о Бирске, смиренном и уездном Бирске. Там тоже монастырь стоял. И тоже, как здешний Свято-Троицкий, ничем не знаменитый. А между тем Володя Бурцев, гимназист, хотел принять бы послух. Желанье было долгое; потом заглохло. И вот очнулось в теплом голосе игумена.
В.Л. благодарил. Взял чай, в придачу получил дольку лимона в сахаре, печенье вкусное, звалось московским.
Буран буранил на дворе. Келья была жаркой. В.Л. конспектировал заметки о деяниях сибирских праведников – зимой, когда метели не метут, а движутся столпами, и это означает не что иное, как только свадьбу черта с ведьмой; и летом, когда жара, когда упруг и тепел ветер, и тундра вдруг запахнет степью.
* * *
Из юрты вышел человек в тунгусском одеянии. Сказал, что он здешний священник.
– Давно вы здесь?
– Скоро пять лет. Вдовый я, отдал себя служенью малым сим, пока силы позволят.
– Тут жить трудно, лишений много.
– Да, сперва тягостно было. Очень. Заколебался, оробел. Но Господь укрепил: оставайся. Остался, скоро пять лет.
– Стало быть, в голод тоже были? Как же вы уцелели?
– Его святая воля. А тяжело было, ах, тяжело. Несчастье-то главное: помощи оказать не мог. Ко мне идут, просят, детей оставляют. А я только слезы лью.
– А начальству писали, отец Петр?
– Неоднократно. И получал сугубое замечание с устрашением.
– Да как же так?
– Не сужу, потому не знаю. В соседнем улусе было хуже. Семьями вымирали, а погребать некому. Они святое крещение приняли, думали, минет чаша сия. А помощи нет. Не мог я допустить, чтоб колебались в вере. Господь услышал недостойного иерея. Привезли нам подмогу. Скорняков Инокентий Васильич приехал и господин Камаев, обер-аудитором служил.
Махотин Сергей Гаврилович, лекарь.
Жил в юрте. С инородческими детками грамотой занимался. Больных лечил по всей тундре. Разъезжал на оленях, на собаках. А то и пешком, с котомочкой.
– Много больных здесь?
– Здоровых нет. Несчастное племя, тает, как свеча. Шестой год здесь, совсем отунгузился, а чувствую, долго не протяну.
– В Енисейск наезжаете, Сергей Гаврилыч?
– А чего там делать? Грабительство, всякую пакость смотреть? В Монастырском бываю: с исправником ругаюсь, иногда вот и медикаменты получу. Опять скажу: что с ними делать? Край необъятный, в год не объедешь. Врачевать микстурками глупо. На это лечение требуется. Живу вместе с ними, с инородцами. Учу, сам учусь– научился: из кости разные фигурки вырезываю. Ну, продаем тем, кто пушнину набирает. Сети плету. По доверенности, чтоб от русских без обману, хлеб тунгусам закупаю, свинец, порох. Впроголодь кормимся. Трепещем, а покамест-то не подохли.
– И не тянет вас ноги унести, а?
– Свыкся. Да и правду сказать, полюбил здешних. Ну, ровно дети. А сперва жуть брала. Вьюга встанет, ничего не видать, жутко. Ну, думал, брошу все, убегу из этой белой могилы. Отец Петр удержал: не бросай их, врачуй недуги телесные, сколь можешь. А сам он души врачевал. Расстояния, сами знаете, немереные. А он – с котомочкой: запасные дары несет.
– Один?
– Как можно? Я б его одного не пустил!
– Так кто же с ним? Уж не вы ль, Сергей Гаврилыч?
– Гм… Ну-у…
– Вы, что ли?
– А кому ж еще. Был безотлучно.
Лекарь умер. Священника о. Петра, жалобщика по начальству, отправили в какой-то монастырь на послушание.
Камаев, обер-аудитор, расследовал по высочайшему повелению дело о людоедстве. Выехал тайно, дабы предварить намерения местных властей. Видел, как люди с голоду поедали друг друга. Семья из шести душ вся вымерла. Сперва старшую дочь съели, потом сына прикончили, его мясом кормились, потом другими трупами насыщались. От сей пищи лишились жизни.
– Господи! А где ж казенные хлебные запасы?
– Да на поверку-то всего-навсего сорок пудов оказалось. Рапортовал начальству. Мне же и устрашения пошли: мол, жди погибели.
– Таких, как вы, в Петербурге прежде «ябедниками» называли.
– Вот, вот. А вы попробуйте-ка при моей-то должности взятку не взять…
– Не взять?
– Именно. Приходит купец. Просит «устроить» раздел имущества с братом. Ну, и предлагает барашка в бумажке. Спрашиваю: «А по правде поступить не можешь?» – «Так ить проволочка большая. У брата ж и так добра выше головы, кой ему ляд наследство?» Нет, говорю, не возьму. Ушел. Попил я чаю, выхожу в сени. Глядь: на табуретке узелок. Ударился догонять, ушел, нету. Посмел, понимаете, мне взятку сунуть! Кое-как отдал. Рассказал братии своей. Что ж думаете? Житья не стало. Так и подрезают подметки, даже и в Петербург сообщили своим знакомцам, столоначальникам.
О купце Скорнякове.
Спасая вымирающих иноплеменников, все свои торговые хлебные запасы безвозмездно передал, а когда их не хватило, пустил в распродажу и недвижимость.