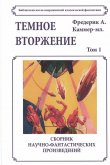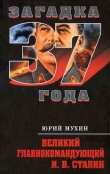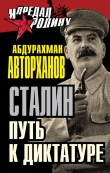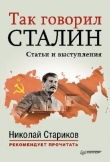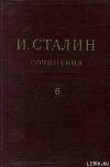Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Во-первых, рассуждал тов. Джугашвили-Будем-Знакомы, дружески взглядывая на Бурцева, во-первых, провокация как система рухнет вместе с царизмом. Мы, большевики, говорили об этом раньше уважаемой Веры Николаевны Фигнер. Говорили с думской трибуны. И это, уважаемый Владимир Львович, ваша заслуга. Почему? А потому, что наш депутат в Думе товарищ Полетаев выступал после того, как вы изобличили главного иуду. Само собой понятно, что я имею в виду Евно… как его бишь?.. Залманович, что ли? А-а, Фи-ше-ле-вич… Вот после того, как вы, уважаемый Владимир Львович, доказали всем, в том числе и очень недоверчивым, кто он таков… Второе. Не согласен, решительно не согласен – вы не черный человек, отнюдь не черный человек. Зачем надо отметать недоверие? Зачем надо чураться подозрительности? Не надо отметать здоровое недоверие; не надо чураться здоровой подозрительности. Они, то есть недоверие и подозрительность, хорошая основа для совместной работы. Не только в подполье.
Бурцев от удовольствия воздух головой боднул. Очень ему понравилось: «здо-ро-вое»! Отлично схвачено – именно здоровое. Смотри-ка, большевик, а человек-то неплохой.
– Итак, вам желательно пользоваться услугами Бурцева? – почти ласково начал В.Л. – Тогда позвольте обратить ваше внимание на некое новшество в практике политической полиции. Она спасает своих секретных сотрудников. Понимаете ли, спасает! Разумеется, тех, на кого тень падает. Способ оригинальный: арест и ссылка. Да-да, дорогой мой, арест и ссылка. О, конечно, конечно, с согласия виновника торжества. И вдобавок– денежная компенсация. Так сказать, она его за муки полюбила, а он ее – за состраданье к ним. А другая компенсация, не денежная, а в виде повышения репутации, выдается околпаченными партийными сотоварищами. Недурно придумано, не так ли?
Тов. Сталин-Джугашвили озвучил неопределенное междометие. Его толстая мохнатая бровь приподнялась, изогнулась, словно гусеница на ветке. Он с акцентом, вдруг еще пуще усилившимся, ответил, что знать не знал об этакой методе мерзавцев-жандармов, вот спасибо, узнал, спасибо уважаемому Владимиру Львовичу, не черному человеку, а светлому человеку.
Он достал папиросы. Опять заметил на бандероли белую женскую головку и словно бы сбоку, искоса подумал о Янкеле Свердлове: пламя дышит в подлеце… Но в эту минуту все это было необходимо для того, чтобы переложить стрелку на путях собеседования с Бурцевым, и чудесный грузин, точно бы наперед испрашивая извинения, полусмущенно осведомился, а верно ли заключать, будто большинство иуд из иудеев?
Ну наконец-то, милый друг, ну наконец-то! Вопрос сакраментальный, насущный и непреходящий. Но – глядите-ка, глядите – дворянчик, интеллигентик Бурцев пожал плечами. Он встал, проверил положенье вьюшки. Поворотился и сказал: «Не угореть бы вам, Иосиф Виссарьоныч». И будто бы без связи угрюмо молвил: «Мысль плодовитая…»
Он рассказал такое, о чем тов. Джугашвили-Сталин не слыхал. Оказывается, дело Азефа возбудило интерес «арифметический». Эсеры-эмигранты взялись бухгалтерски определить, действительно ли большинство иуд из иудеев? Экспертом пригласили Бурцева. Итоги голосили розно. А в общем получалось, как говорится, каждой твари по паре. Однако предложенье оставалось: пусть-де евреи сплотятся в свою эсеровскую партию, а русские – в свою. Да-с, предложенье оставалось, а значит, оставался принцип: как правило, иуды все из иудеев, а русские… оно, конечно, имеет место. Имеет место исключение из правила, лишь подтверждающее правило… «Угар, – заключил В. Л. – Стыдно».
А что же собеседник? В его полуулыбке блуждало чувство превосходства. Марксизм все-все на свете объяснил. А сейчас презентом – письмо Энгельса. Ротозеи не желают замечать, что в левых партиях иудеев-то полным-полно, хватают руль, две-три брошюрки тиснут и ходят фертом… Что? Что вы сказали? Э, будет вам, Владимир Львович, как можно меня подозревать?! Соображенья не мои, соображенья Энгельса. Советует иметь нам бдительность.
Интеллигентик Бурцев со стула не свалился. Ему и Энгельс не указ. На марксизме он не лежал и не стоял. И даже творчески не развивал. Все это и не взял в расчет тов. Джугашвили-Сталин. И осерчал на равнодушие В.Л. к насущным оргвопросам партийного строительства. Но пуще– вот: интеллигентику не впрок история Азефа и иже с ним. Суждение, оно же осуждение, сопровождалось сумрачным движением бровей: сползались к переносице. Их провожала дробь толстых пальцев по столу.
Уж сколько раз В.Л. давал себе зарок: антисемита не оспаривай. Ни аргументом не проймешь, ни фактом. Давал зарок – и на тебе! – опять сорвался… Ронял пенсне, терял, как на ухабах, все эти «бе» да «ме», и быстро, быстро говорил об «избранном народе» – он избран для гонений; христиане жгли скопища евреев в синагогах; еврей слезал с осла и падал ниц перед кочующим арабом; народ же богоносец преподнес им Кишинев и Гомель… Раскинул руки, правой коснулся одного края столешницы, левой – другого… И продолжал: за время вековых блужданий дух ковался на многих наковальнях и получил разноречивость свойств, способностей. Вот здесь– шаблонный тип стяжателя, ростовщика, а здесь вот – человек отвлеченного склада, равнодушный к материальным соблазнам…
Тов. Джугашвили-Сталин заскучал. Он думал, как и Бурцев, но – в обратном, что ли, направлении: таких вот юдофилов ни фактом не возьмешь, ни аргументом, они ж свое благоволение жидам считают элементом миросозерцанья, хэ…
И вдруг его пробрала дрожь длиною в сто шестьдесят четыре сантиметра: за стеной послышались шаги. Странно: едва подумаешь ты о жидах, как сразу что-то напугает. Он вопросительно взглянул на Бурцева и пальцем указал на стену. Бурцев объяснил, что дал приют Сереже Нюбергу.
* * *
Мне этот Нюберг напоминал другого мальчика, его ровесника лет двадцати. Пусть Нюберг северянин, а Ингороква земляк тов. Джугашвили. Пусть первый – ссыльный, а второй пусть заключенный. Но сходство между ними было. Не внешнее, а нутряное.
Начну-ка тезкой, Юрой Ингороква.
Дичая не по дням, а по часам, зеки, случается, и пожалеют «слабака». Воришка Юра, от роду не отхоленный, уже едва-едва передвигался. Занес бы он колун над головой, земля ушла бы из-под ног. Его поставили беречь костер.
В тот день наш русский лес стенал от этих жутких градусов и прокалялся калеными лучами солнца; снег не скрипел, а взвизгивал, – в тот день бедняжка Ингороква, сидя на пеньке, угрелся, прикорнул. И вдруг над ним медведь взревел! Не углядел милок внезапное явленье прорабов коммунизма– в папахах, в белоснежных полушубках. Он только дух почуял яичницы на сале в сопровожденье коньячка. И вновь медведь взревел: «А эта шта-а такое, мать твою?..». И русский лес ответил голоском тбилисского воришки: «Эх, гражданин начальник, как вспомню, что Владимир Ильич умер, так и руки опускаются». Полковник из Москвы присел, как от удара сапогом… нет, не скажу, мол, в душу, откуда взяться ей?.. но в пах. Свита дышала с громким свистом; казалось, маневровый выпускает на разъезде пар… Мороз и солнце обратились в медный гул… Полковник трудно распрямился. И то ли крякнул, то ли каркнул: «В карцер! В карцер!». А в чаще леса с буреломом антисоветчики-лесоповальщики хватались со смеху за впалые животики.
Вот так наш Юра Ингороква, задремавший у костра, проснулся знаменитым.
* * *
Сережа Нюберг стал знаменитым не спросонья.
Давайте успокоим тов. Джугашвили-Сталина: нет, не еврей, а сын остзейского барона. К сожаленью, незаконный. И вырос он не в отчем доме– нет, в сиротском. Ни часу баклуши-то не бил – тотчас пошел служить на берегу Фонтанки. Не там, где пыжик водку пил, и не к Цепному мосту, а в Экспедицию заготовленья государственных бумаг. И денежных, и ценных. Солидное учережденье. Начальства все в бо-ольших чинах. Вот, скажем, в граверно-художественном отделении заведовал, мне помнится, Штубендорф, статский генерал. Так в этом отделении служил и Нюберг. Рисовальщиком. Видать, еще и в Воспитательном в нем обнаружились способности.
Беда, что на Фонтанке была не только Экспедиция. Был мост Цепной, был департамент полицейский. Оттуда насылали стукачей-осведомителей. В граверной находился «свой»; в его тенета угодил Сережа. Он никакой не политический, но нужно ж было кого-то обнаруживать. Великий Петр давным-давно нам указал: «Лучше доношением ошибиться, нежели молчанием». Мы долго, долго ошибались, ошибались, ошибались. И пусть не говорят нам, что народ безмолвствовал. Тут надо помолчать, поскольку В.Л. сел на своего конька да и пустил аллюром, тов. Джугашвили-Сталин был весь внимание.
Широкими мазками В.Л. представил центральноевропейское стукачество, засим уж всероссийское. И произвел сравнительный анализ. Французу отдал пальму первенства. Подслушивает тот всегда со смыслом. А пустяки – мимо ушей. Пример: такой-то там-то утверждал, что человек произошел от обезьяны. Француз-осведомитель и усиком не поведет… В.Л. дыханье перевел и перебрался через Рейн в Германию и продолжал все так же вдохновенно… Возьмите немца. Усердием французу не уступит, но как-то, знаете ль, робеет. Он опасается быть битым. Опасенье странное. Те, кого он обслуживает, вовсе не забияки-драчуны, а оченно послушные филистеры, любители пивного разномыслия… О-о-о, вижу, вижу, на языке вопрос: а каковы они? Скажу вам, еврей утер бы нос даже французу, когда бы не спешил, не торопился; когда бы не было в натуре: скорей, скорей, скорей. Осведомитель русский ни к черту не годится. Да-да! Прошу вас, милый мой грузин, не защищать от Бурцева, великоросса… Домашний наш осведомитель рохля, в воде онучи сушит. И впечатлителен, ужасно впечатлителен. Соврут при нем – мол, Верхоянск объявят вольным городом и учредят там порто-франко. И что же? Русский ябедник – ум набекрень, глаза вразбежку – помчится «докладать». Смешно и грустно: и сам в свое же донесенье вляпается, да и окажется в остроге. И обалдеет: ка-а-а-а-к же так??? Десятилетия сплывают, все изменяется под зодиаком, но русский оболдуй-стукач все тот же, а дельный не родится.
– Вот так, – сказал В.Л. и слез с конька. – Вы полагали Энгельсом меня пронять, а я вас – Салтыковым.
Тов. Сталин-Джугашвили молвил:
– Да-а, нам Щедрины нужны.
– А Энгельс нам не нужен, – буркнул Бурцев.
Тов. Джугашвили-Сталин втайне полагал, что Фридрих – третий лишний, однако благодарности достоин: партайгеноссе, с евреями имейте осторожность… Бедняге из станка Курейка было невдомек – минуты, и судьбы свершится приговор. Уж Бурцев трижды, как масон, пристукнул в стену: «Сережа-а!». И обернулся к Джугашвили: «Сейчас увидите модерн».
Сережа Нюберг, однако, медлил выходом на сцену. Он этого узнал по голосу, как узнают по запаху. Голосовые связки гостя имели запах пальцев, а те приванивали рыбьим жиром. Да, пальцы, в этом суть.
Недели две тому приезжий из Курейки зашел к В.Л., да не застал: Бурцев в монастыре читал о бедных праведниках. Не застал и, уходя, пребольно защемил Сережин нос; налево дернул, потащил направо, шипел, воняя рыбьим жиром: «Ты передашь, князь приходил». И выговаривал не «князь», а «кнэсь». У, дюбаный! – в сердцах определил чудесного грузина Нюберг С.
Гм, «дюбаный» иль «юбаный» не встретишь ни в подпольных, ни в напольных кличках тов. Джугашвили-Сталина. Насилу я дознался посредством Даля, что «дюбаный» не брань, как вы уже решили, а просто-напросто рябой – как птицей дюбаный, наклеванный.
Приезжий из Курейки не то чтоб не понравился Сереже – вызвал отвращенье. Ему казалось, что надобно В.Л. беречь от «кнэсь». Ишь, дюбаный, «ты передай… ты передай». А вот тебе и кукиш. Слуга покорный!
Он Львовича любил. Львович… Тот строгость напустил, чтоб не унизить жалостью: «Прибраться, подмести. Чего-нибудь еще, не знаю. Зачем же ежедневно? Довольно и во едину из суббот». Прозвал он постояльца «иконоборцем». Купил и тюбики, и кисти в лавке Равильона – каков ассортимент, все есть… Ах, милый Львович, он горой за первую любовь, за передвижников. А ты, Сережа Нюберг?
Он написал Варвару Великомученицу – дебелая бабища с зубами точь-в-точь тайменьими, а эту рыбу в Туруханке уважали… Окрест все ахнули. И разнеслось: ну, паря-то мастак. И оказалось, что нету оскорбленных религиозных чувств. Пошли заказы. Просили обработать: доски-то добрые, старые, высушенные… Примите примечание: и в Монастырском, и в иных селеньях и станках при Енисее приходилось видеть на грубых, темных досках изображение героев Двенадцатого года. Ничего удивительного в том, что Варвару Великомученицу наш «иконоборец» писал поверх кн. Кутузова-Смоленского… Он создавал, сказали бы теперь, свой мир. Угодник Николай заимел семь пальцев на правой и на левой, имел и хвост, и уши зайца. Опять все ахнули; давай-ка, паря, намалюй и мне.
Он думал о Христе. Думал много, однако не решался; отнюдь не робкий, а робел. Талант, само собою, смелость; та, что города берет; но этот символ не годился для изображенья плотника из Назарета. Лик сына Божия, проступая на холсте, перенимал черты Филита, псаломщика из здешней церкви. И в этом тайна. Филитов дед-купец принадлежал к сибирским праведникам; к тем, кто пособлял туземцам в бескормицу и мор. «Ибо знает Господь путь праведных». Дед Филита разорился впрах. В.Л. прочел в заметах, хранившихся в монастыре: «Иду по пустыне великой./ Кругом камень и снег». Так в чем же тайна? А в том, что наш «иконоборец» об этом и аза не ведал, но в псаломщике Филите углядел лик Сына Божьего. А ехал плотник из Назарета не на осляти, а на морже или на чудо-юдо-рыбе-кит. Быть может, потому, что был и мореплаватель, и плотник. А может, оттого, что палестинских осликов убили бы полярные морозы. Христос их не хотел губить, Сережа Нюберг тоже. И оба не желали, чтобы двуногие ослы четвероногих осликов травили как агентов сионизма. Мне кажется, их опасенья обгоняли время.
«Модерн… Модерн… Иконоборец», – смеялся добродушно Бурцев. Крамской, Перов, Саврасов – первая любовь; В.Л. остался верен передвижникам. И очутился страшно далеко от здешнего народа. И инородцев – остяков, тунгусов. А также полукровок. В работах Нюберга давало себя знать нечто, давным-давно забвенью преданное, и, там, в забвенье, отдыхая, набиралось сил.
Вчера Сергей нанес последний штрих. Сегодня этот штрих исправил. Достиг ли совершенства? Оно недостижимо. И существует лишь по нашей милости. Однако утверждаю: ссыльный Нюберг написал Иуду сильней, чем итальянец Джотто. Иуда итальянца смутно-безобразен, и только. Иуда Нюберга бочком сидел на нартах. В полкруга перед ним располагались псы с кровавыми глазами. Иудиных губ касалась коварная и беглая улыбка; его зрачки были болотными огнями. И все это на фоне желто-тусклом, как рыбий жир. Двух мнений быть не может: дюбаный из Курейки был alter ego Иуды из Кариота.
Сергей, помедлив, переступил порог. Белобрысый, высокий, глаза, как льдинки. Он шаркнул ножкой и нагло произнес: «Ну, здравствуй, кнэсь». В. Л. приставил к уху ладонь, спросил, о ком же речь. Все так же нагло, не спуская взгляда с тов. Джугашвили-Сталина, живописец-модернист ответил: вот он, князь; там, на Кавказе, владелец двух баранов уже и «светлость». Бурцев махнул рукой и благодушно оборвал младого шовиниста; с меня довольно, сказал В. Л., и одного барона. Тов. Сталин-Джугашвили рассмеялся. Сказал, пора в дорогу, благодарил В. Л., шутливо вопросил, как надо величать баронов…
Тут автор-злопыхатель не может воздержаться от мини-отступления и не сообщить, что за Сережу Нюберга отмстил Бухарин.
Его я видывал в Москве, на Сретенке. Он быстро шел… точнее, шустро… Кивал: «Здрасьте… Здрасьте…» Шелестело: «Да это же Бухарчик!» Весенний мокрый снег блестел на желтом кожаном пальто… Не в тот ли вечер Николай Иваныч пальто и кепку оставил в прихожей особняка, что на углу Малой Никитской и Спиридоновки?
У Горького сошлись вождь и вождята. То, се, вино и разговор о Фаусте, о смерти и любви, которая сильнее смерти. Иль о строительстве социализма. А Николай Иваныч, веселый человек, немного захмелев, вдруг ухватил тов. Сталина за нос. Каков пассаж, друзья мои! Держал он за нос вождя державы и даже больше, нежели державы, и предлагал нахально: «Наври-ка им чего-нибудь про Ленина». Наврал иль промолчал, но скандал не разразился… Иосиф Виссарионович, бьюсь об заклад, был опечален кончиной Ильича ничуть не меньше Юры Ингороквы, что грелся у костра в тайге Вятлага. Но рук не опустил. А ущемленья носа не простил, как не простил и туруханский живописец.
Но и не так, как тот. В чувствилище вождя очнулся отзвук унижения горийского, отроческого, так сказать, калошного. Оно не в памяти хранилось. Нет, прочней и глубже: в составе его «я». И слитно с этим отзвуком – пальцы брадобрея. Теперешним уж не понять… И этим всем, которые суют нам комментарий к Мандельштаму… Тогда ведь брадобреи, брея, клиента брали за нос для удобства поворота головы; ну, так и рулевой на шлюпке легонько поворачивает румпель. Однако прикосновенье брадобрея казалось многим, мне в том числе, прикосновеньем то ль мертвенным, то ль жабьим. В тот миг на горьковском застолье поэта не было – поэта Мандельштама: «Власть отвратительна, как руки брадобрея…» Да, не было… Но позже, когда уж написал поэт о горце, о жирных пальцах, они в чувствилище Вождя сомкнулись с ощущеньем брадобрейным, ему мелькнуло лезвие опаснейшей из бритв – все вместе предрешило участь стихотворца.
* * *
Что до Бухарчика… Он знал, конечно, сколь склизко ходить по камешкам иным, ан все-таки не думал, что близки склизкие ступени расстрельного подвала… вздохнув, не утаю: милейший Николай Иваныч когда-то беспечально утверждал: товарищи, в борьбе тот побеждает, кто первым проломляет черепа.
А Якову Свердлову оставалось жить… Сейчас прикинем, пока тов. Джугашвили-Сталин направляет нарты к Енисею. Он Монастырское покинул, не прощаясь ни с обрезанным, хоть тот был веским членом нашего ЦК, ни с Верой Д. Так вот, Свердлову осталось жить лет пять. Нет, даже меньше. А Веньямин Свердлов, муж этой «стэрвы», тянул еще лет двадцать после смерти брата и наконец-то в зоне ноги протянул.
Что делать? Таково расположенье звезд, но их течение над Енисеем застит мгла. И в этой мгле бежит упряжка бодрых лаек. Бежать им двести верст на север – до Курейки.
* * *
Она возилась у печи. Тов. Джугашвили вмиг насел, облапил, тискал жадно. И все молчком, ну разве что с причмоком. Хорошая девочка Лида была ему покорна.
Пахло свежим тестом. Он тоже сумел бы выпечь хлебы. Тов. Ленин ошибался, полагая, что соратник– спец по острым блюдам да и только. Но здесь, в Курейке, сестра владельца сей избы, недавно овдовевшего, весьма успешно решала вечные вопросы домоводства, включая и сожительство с кавказцем-постояльцем.
Кура впадает в Каспий; Курейка – в Енисей. Станции взяты из Франции; станицы – на Дону. Станок – вот это уж Сибирь. Их ставили своим пристанищем и рыбаки, и звероловы. Временным. Но становились они долгими делами, поскольку гнали ссыльных-поселюг. В одном из множества станков тов. Джугашвили укрылся от войны, а заодно от подозрений в доносительстве. Он жить хотел, а не страдать, и это хорошо, ведь страсть к страданиям есть верный признак ущербности интеллигентика.
Курой-метелью повит станок Курейка.
Когда-то средь гор Кавказа, в четвертом, старшем, классе духовного училища, ученики писали сочинение на тему: «Европейская тундра зимой и летом». Учитель ходил-расхаживал с руками за спиной, ни дать, ни взять тюремный надзиратель. Но, бывало, налетал и коршуном: «А ну-ка быстро: какие города от Гори вплоть до Киева?». Дурак! До Киева, где лавра, доведет язык. Вот ты скажи: сколь городов от Гори до Курейки?.. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не комары. Но вёсны хуже: журчат ручьи, журчат ручьи… В долине Карталинской удоды, опуская кривоватый клюв, произносили «уп-уп», а русский мальчик, сын офицера, смеясь, кричал им: «Худо тут»; три колокольчика на шее мула звенели вслед ручью, его журчанье не пугало; напротив, было музыкальным. А здесь, здесь веснами в журчаньи мнился говорок исподтишка. Не странно ли? Туманности необходимы; нельзя, чтоб личность оставалась без загадок… Ну, ладно, а коли снегопады? В их шорохе нет, что ли, сговора иль оговора? Нимало. И в Гори, и в Тифлисе снега нечаянной отрадой. Щекам щекотно; снежки так весело метать, бить каблуками дробь, смеяться и гоняться друг за другом… А здесь, в Курейке, снежит и долго, и обильно. Конечно, не подарок, но дарит отчужденье. Тов. Джугашвили, ей-ей не вру, читал стихи Одоевского. И повторял: «Как я давно поэзию оставил! Я так ее любил!». Она, замечу в скобках, взаимностью не отвечала, как в Монастырском Вера Д. А впрочем, что же делать, коль он поэзию сменил на «Капитал»?
Ах, братцы, он пушил усы, когда доисторический сожитель Веры Д., когда-то боевик и хват тов. Ярославский нам вешал на уши спагетти: тюремный двор, солдатский строй, сквозь строй идет наш вождь, он согнут; но невозможно тов. Сталина пригнуть ударами прикладов, а просто так ему удобнее назло царизму штудировать весомый «Капитал»… Прибавлю от себя: а между тем пока он, большевик, страдал за наш народ, студенты пели, сдвигая кружки с пивом:
Выпьем мы за того, кто писал «Капитал»,
А еще за того, кто его не читал…
В Курейке он изредка читал газеты, а чаще, я вас уверяю, стихи поэта-декабриста в издании тридцатилетней давности, оставленные здесь каким-нибудь народником для связи воедино трех поколений русской революции. Но вот вам разница. В поэзии Одоевский черпал «все радости, усладу черных дней» – тов. Джугашвили черпал радость из прорубей во льдах Курейки и Енисея. Оттуда, вспомните, осетр, которого он вез за двести верст и лишь затем, чтоб киселя хлебать. Пусть так, но услада уловленья оставалась. Свидетелем тому его жилье. В квадрате (не отвлекайтесь в сторону Малевича), в квадрате, говорю вам, был топчан, весьма, признаться, шаткий (кавказец-постоялец влюбился в Веру Д., но обрюхатил Лиду), стол у окна и небольшая печка, прабабушка буржуйки. Прибавьте лавку, пару табуретов, лампу-«молнию» и… И больше ничего, исчерпан перечень стоялой утвари. Она вся от хозяина. Но не безлично, напротив, выразительно хозяйство личное. Все выдает большого знатока охотничьих припасов. Мережи, сети, морды, невода, капканы, ловушки, крючки с зазубринами, крючки без них и прочая, и прочая, и прочая. (Ружье для ссыльного запретно; ружье формально за хозяином; обыкновение сибирское, известное, конечно, всем начальникам.)
Снарядливый охотник, как правило, охотился один. Случалось, правда, навязывался Ванька Шахворостов. Великан-матрос, кажется, потемкинский, жил соседом; тов. Джугашвили он уважал настолько, что тов. Джугашвили позволял Вано заготовлять дрова, пособлять Лидиному домоводству и помогать в снаряжении рыболовно-звероловных похождений в тундре. Но сопровождающим Вано не брал. Казалось бы, и веселее, и надежнее вдвоем? А нет, тов. Джугашвили хмурился: сиди дома и чаи гоняй. Положим, Вано и вправду выдувал не меньше дюжины стаканов кряду, но взять в толк, отчего тов. Джугашвили так упорно не принимает его компаньоном, взять это в толк Шахворостов, сам себя называвший Ванькой, не умел, да и никто, поверьте, не догадался бы. Тут сходство, черт возьми, с журчанием ручьев… А знаете, тов. Джугашвили не любил сидеть спиной к дверям… О, Господи, так и Азеф, уж извините, Евно Фишелевич… И не любил, чтоб кто-то шел след в след – ну, словно б целился в затылок, там возникала пренеприятная ломота. А Ваньке это где понять?
И верно, простак был Шахворостов. Безоглядно, напропалую, чтоб ленточки вились, умел, а вот тонкостью понимания жизни вообще, политической в особенности, это уж, извините, не каждому дано. Судите сами. Минуло лет пятнадцать, командируют Ваню-коммуниста из Одессы в Москву. А на душе-то накипело: Украина голодает, коллективизация костоломная, чиновники рожи наели, партийцы к себе гребут и т. п. и т. д. Вот, думает, переночую у Джугашвили, выложу все карты на стол, да и суши весла. А что? Старый товарищ, на «ты», как же иначе-то! Позвоню и скажу: «Слушай, я у тебя сегодня ночую». И позвонил. Оттуда-то, из Кремля, допытываются: кто такой, зачем, почему; куда ответ вам сообщить. «Эй, погоди, – орал потемкинский матрос, – ты скажи ему, Ванька Шахворостов в Москву приехал, а больше ничего не надо…» Ответа не последовало. Такая, брат, Курейка. Обиделся наш альбатрос на Джугашвили: забыл, как мы делили и хлеб, и табак. Ан ошибался Ваня, ошибался. Не забыл его тов. Сталин, не забыл. И в тридцать седьмом прислал в подарочек свинец. Он тоже, видишь ли, обиделся: зачем ты, Ванька Шахворостов, коллективизацию порочил? Перегибы мы исправили, головокружение остановили, а ты, двурушник, зачем порочил, а? Народ в колхозы всей душой – запиши, товарищ Сталин. И даже отсталые, казалось бы, элементы на поверку не такие уж отсталые, не тебе чета, двурушник. Ты – враг народа, а Мерзляков – колхозник. Такая, Шахворостов, диалектика. Не по Гегелю, а по Гоголю… Ты, Ванюша, враг народа, Мерзляков, тот стражником служил, а ты к нему за водкой шастал. Знать не желал, с ка-аким трудом спирт доставался, запрещенный царизмом. Контрабандой возили, тайком возили, бочонки под днищем лодок привязывали, как понтоны, в соль прятали, в топленое масло, а ты, Шахворостов Ванька, знать ничего не желал. Вот тебе и отсталый элемент – в колхоз. Никто не принуждал, никто не приказывал, Мерзляков своей волей. А ему перегибщики от ворот поворот; это очень меткая пословица великого русского народа. Ему, Мерзлякову, говорят: не-ет, Мерзляков, ты царизму в полиции служил, тебя в колхоз принимать нельзя. Тогда что же? Пишет он товарищу Сталину. Пришлось товарищу Сталину вступиться за Мерзлякова, просить сельский совет: так и так, в дружеских отношениях не состоял, но и во враждебных тоже; Мерзляков Мих. относился к своим обязанностям формально, без полицейского рвения, не шпионил, не придирался, не травил, сквозь пальцы смотрел на отлучки… И подписал рекомендацию – «Сталин, с коммунистическим приветом».
С каким приветом был стражник Мерзляков, решать колхозникам. А несомненно то, что Миша, байбак и баба, о Талейране не слыхал. Но исполнял его завет: поменьше рвения. На просьбу подневольного грузина дать отлучку для охоты он отвечал согласьем. И, пожелав удачи, чаевничал с Иваном. И поступал разумно, удерживая под надзором поднадзорного. Еще бы! У того губа не дура, ручищи, как из лапного железа, пригодного для ковки лапы якорей. А молодуха Марьюшка пригожа, да глупа. Как Ванька-то облапит, впору закричать – ан нет, смеется, дура.
За самоваром матрос-смутьян и стражник царской службы сидели не разлей вода, а спирт разлей, чтоб капли не пропало. Там, в Петербурге, по случаю войны его навроде отменили, а ты вот за Полярным кругом валяй, как хочешь. Но есть на свете контрабанда. Засим заварка, будто деготь. И никакого сердцебиенья, а тары-бары по душам.
Тем временем тов. Джугашвили-Сталин вписался в ритмы северной природы. По-над рекой Курейкой он предвкушал победу над меньшим собратом. Все лицевые мускулы твердели. Он погружался в глубокую угрюмость. И это было превращеньем в Вепря. Он – Одинокий Вепрь, соединил в своей натуре бесконечное терпенье с непреходящей жаждой жертвы. У, жаркий трепет. Как хороша повадка остяков. Подняв медведя из берлоги, кричат: «Эй, дедушка, ты не серчай!» – и убивают.
Никто ему в затылок не дышал, и Одинокий Вепрь мурлыкал песенку о светлячке, «Цицинателу». Поэзия, ребята. И не в зуб ногой.
* * *
А зубы-то достались от отца-сапожника. Резцы и жернова, как на подбор, красивые и крепкие. Соседи-остяки, сидя на корточках, бесстрастно наблюдали, как управляется он с дичью.
Сюда, в избу, они являлись часто. И не просили ни о чем, и ничего не спрашивали. На корточках сидели вприслон к стене, молчали и курили вонючий табачок. Беззвучное камланье, что ли? Он безотчетно проникался загадочностью этого присутствия. Впоследствии воспроизводил на заседаньях политбюро и на просмотрах кинофильмов и тем держал соратников в немом, великом напряженье. А также и походка курейского происхожденья. Не оттого, что мягки сапоги Кавказа, нет, воспоминанье ног о войлоке, которым застилали пол в курейских избах.
Никто, надеюсь, не посмеет оспорить ценность курейских наблюдений автора. А вот обнаруженье в тундре Вепря с нежнейшей «Цицинателой» на устах, быть может, и оспорили бы гневно сталинисты с пустой кастрюлей на плечах, когда б не личное вмешательство тов. Сталина.
* * *
Глядел генсек куда как хорошо. Кончался в Горках Ленин: скуласт, как волжский прасол; в глазах мучительность недоуменья: где он, что он?.. Уроженец Гори наведывался в Горки. Приятно чувствовать себя здоровым, бодрым. Китель, брюки – белые. А голова и сапоги – чернее черного. Но не было же той зеркальности, что у сапог Ягоды. В политике нет мелочей, напрасно сапоги Ягоды столь блескучи, ой-ой, напрасно.
Их было трое в одной лодке. Конечно, без Ягоды, тот не дорос до них. Их было трое: генсек, Дзержинский, Каменев. Они имели право отдохнуть– день выходной. Природа сельская, лесок, над речкою стрекозки, и небо высоко, и Троцкий не так уж близко – по северной дороге, в дачной местности, лесок, над речкою стрекозки, и нет тов. Сталина.
Дзержинский с Каменевым вовсе не статисты при генсеке. Но, право, охота обратиться слухом и вниманием к нему. Он благодушно рассуждает… Нет, это уже не в лодке, а после скромного застолья, в плетеном кресле. Он говорит об упоеньи. Особенная сладость есть, когда врага выслеживаешь – заходишь справа, заходишь слева, тут уклон, а тут и взгорок, отпрянешь, ждешь, движенья и удары рассчитаешь – и вот удар, внезапный, сокрушительный удар, и этот жалкий трепет жертвы… Он вдруг словно бы очнулся. И быстро облизнувшись, вопросил: «Что слаще, а?!» Глаза блестели сухо, беспощадно.
В лицо мне шибануло болотной прелью. Мужик сказал: «У, дикий человек! Ну, прямо Миклухо-Маклай!». А я Маклаем еще школьником прельщался, а позже Бунина читал про мужика с берданкой, он караулил яблоневый сад. И рассуждения тов. Сталина об упоеньи, и Новая Гвинея, все, вроде бы соединившись, сказало: а никакой он не грузин, и никакой он не генсек – законченный асмат!..
Не слышали? Такое, знаете ли, племя людоедов, новогвинейских людоедов, пахнущих тяжелой жаркой прелью. Охотясь за людьми, они умели терпеливо ждать, и справа заходить, и слева, и наносить внезапные удары, и урчать над человечьим мясом. Но капитальное – вы вникните – капитальное вот: миссионеры, не страшась каннибализма, старались всех асматов осветить и просветить Христовым светом. И что же? Охотники за человечиной отдали предпочтение Иуде – он настоящий воин и добытчик, прикинется он другом, зайдет в соседнюю деревню, и угостит кого надо, и разузнает там, что надо, да и в удобную минуту наверняка сразит. А вот Христа асматы отвергали: доверчив, простодушен, незлобив.