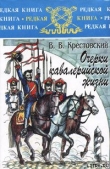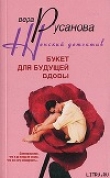Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Господ, сидевших в каземате, Домбровский прежде знал по именам. Теперь узнал и очно: они в глаза искательно глядели, ему было неловко. Обломки самовластья были жалки – больные дети. Никто и на минуточку не помышлял ни о какой из реставраций, а находился в слабоумнейшей растерянности: недавно поднимали и хоругви, и знамена по случаю трехсотлетия династии, и чуть не в одночасье утонуло все, и государь всех предал, и все его предали. Да-с, не Шекспир, а выгребная яма, но все ж Домбровский из школы Петражицкого усматривал наличье Личности и там, где оставалось лишь сугубо личное.
Иосиф Витальевич к своим коллегам не имел претензий. Они не должны были торопиться. Но возникала некая несообразность – промедленье с составленьем обвинительного заключения. Что так? Я говорил: неукоснительности опоры на закон, включенный в Свод Законов, уж не было, а нарушение законов ускользало. Вместо гориллы-преступленья была мартышкина гримаса превышения власти. Всего-то-навсего?! На то и власть, чтоб превышалась предержащей властью. Попробуй умалить ее, услышишь: «Pereat!» – «Да погибнет!».
Но тут, извольте, кубатуру с квадратурой. Пусть мир погибнет, лишь бы юстиция торжествовала? Прекрасно сказано для западных ушей. Домбровский-старший (как потом и младший) был западник. Однако не настолько, чтоб это рыцарское «Pereat!» душило чувство справедливости, любви, добра. Отсюда и мильон терзаний, и вечный трепет пред относительностью сущего в подлунном этом мире. Ужасно, в истоках рода – убийца Каин. Но тот был в состоянии аффекта. Иуда, провокатор и убийца, обманувшийся в своих расчетах. А все дела с подкладкой провокаторства в основе делопроизводства юридически ущербны. В Стрелецком, дома, в шкафу направо сними-ка с полки системы права римского. Добудь законы иудейские. И рассмотри под лупой тогдашних норм и правил все это дело с Синедрионом, Понтием, Распятым и Иудой; осведомитель, доносчик в единственном числе был недостаточен. И, значит, был второй. Был некто – по слову Бурцева – из не внесенных в списки иль запертый в особый шкафчик… Ну, Юрий Осипыч, теперь узнал, откуда вырастал твой «Факультет ненужных вещей». Последний твой роман издали не у нас, ты должен был скрывать, а ты, родитель, принес младенца на руках и всем показывал в дубовом зале нашего вертепа. Ай, да сукин сын!.. Листаю «Факультет» и слышу подголосок-тенорок московского присяжного поверенного. Я ж говорил про дух, который веет долго.
А Домбровский-старший не обмолвился, упоминая Бурцева. Спознались быстро, коротко. И как-то, знаете ли, безоглядно; с редкостным чувством обоюдного доверия. И часто-часто сходились в крепости Петра и Павла.
В тюремном коридоре с железными дверями плакался в жилетку экс-директор Департамента полиции, весь сладко-сальный г-н Белецкий. Все прочие, кроме Климовича, державшегося прилично, заверяли Бурцева в симпатиях со стажем. В. Л., как и Домбровский, полагал, что и к этим надо относиться как к личностям, хотя, конечно, не вменяя им в вину лишь превышенье власти, как это производят по отношению к ежовым-абакумовым. Да погибнет мир, но правосудие свершится? Э, «мир» погиб в тайшетах и печорах, а каждый прыщ, вскочивший на заднице у Правосудия, не что иное, как помет иудин.
ЧеКа вела допросы деликатно; расспросы – архиделикатно. Но тщательно. В. Л. бывал здесь и свидетелем, и вопрошающим: он член комиссии подсобной муравьевской – в архивных катакомбах тайной полицейской практики, расположенных, прошу не забывать, под динозавром. Точней, тираннозавром. И это ведь от Бурцева узнал Домбровский о некоем большевике, который не уступит и Азефу. А также и про шкафчик. Суперсекретный. С надписью предупреждающе-запретной: «Без высочайшего повеления не вскрывать».
Быть может, нет нужды и дальше повышать вольтаж повествованья? Нет, не могу, позыв имею сообщить: в ЧеКа уж ожидали Ленина, который в наших текстах значился Не-Лениным…
Ну-с, Юрий Осипыч, позволь осведомиться: все это зная, как знал отец твой, ты не остался бы на день-другой жильцом «Парижа»? А твой отец так спешно Петроград покинул.
Правда, успел купить тебе… э, не игрушечки в Пассаже, а книги на Литейном. (Мне там был куплен Твен, Марк Твен, в красном переплете; Том Сойер мне в отраду по сей день, хотя и очень ветхий, но дышит не на ладан.)
Отметив отцовское вниманье к кругу чтенья Юрочки, мы с пониманием отметим и отъезд Иосифа Витальевича в Москву, в Москву, в Москву.
Он, патриот, он оборонец, служил там, напоминаю, в аптечном складе Земского союза. То было службой, она давала отсрочку от призыва. А муравьевская комиссия была служеньем Справедливости и потому отсрочки не давала.
Главный комитет по делам военнообязанных тоже стоял за справедливость и сообщил в ЧеКа, что г-н Домбровский будет призван. И тот едва ль не в одночасье покатил в Москву.
Отсутствие батального в моем повествовании – недостаток важный. Для автора как ветерана непозволительный и пробуждающий сомнения, а вправду ль автор ветеран. Отсутствие батального чревато насмешкой над Домбровским: ну, патриот, ну, оборонец, чего же не спешишь на фронт? Тут горе-то не от ума. Тут горе от воображения. Он мысленно все представлял себе ужасно ярко: смрад пушечного мяса, артиллерийский шквал и лавы кавалерии, наплывы отравляющего газа, гуденье рельс, в окопах грязь и под ногтями грязь, санпоезда воняют… Все вместе иль враздробь вообразив, он находил консенсус в службе на аптечном складе, Николоворобьинский, 9.
Какая прелесть – Николоворобьинский. И стаи галок на крестах. Грозней – Стрелецкий. Но тоже звук московский. А на дворе сирень и верба. Нет, право, вдруг начинаешь входить в согласие с большевиками: «Долой войну!». Зачем нам Дарданеллы? История клонит нас к устроенью внутреннему… Глядит Домбровский на белый бланк, в углу чернеет типографское: «Присяжный поверенный и присяжный стряпчий Иосиф Витальевич Домбровский. Прием от 5 до 7 час. веч.». А фиолетовым наш довоенный стряпчий обратился к Муравьеву: «Многоуважаемый Николай Константинович, я уехал из Петрограда, не высказав очень существенное, а потому прибегаю к письму». И, «прибегая», продолжает: «Хотелось бы выразить Вам благодарность за предоставленную мне возможность поработать над большим, интересным делом. Недалеко то время, когда за работами нашей Следственной комиссии будет признано громадное и политическое, и историческое значение. Мы переживаем время ужасное, бестолковое, нелепое. С лучшими пожеланиями Ваш Домбровский».
Чего это он, извините, раскудахтался, Иосиф Витальевич? Провидит, предвидит? – не верю… Николоворобьинским избавлен он от фронта. Да втайне на душе-то скверно, ведь он же честный человек, ему присуща и всемирная отзывчивость… Ах, черт дери, родиться бы, как Бурцев, много раньше, да и плевать на Главный комитет… Он пишет Бурцеву – и дай вам Бог, Владимир Львович…
* * *
А между тем Владимир Львович не одобрял Домбровского. Бурцев, будучи в тылу, остался на позиции, которую он занимал в Париже, когда высоко цепенели цеппелины. В. Л. знал власть императива: для фронта все, все для победы, а на аптечном складе вполне уместен слабый пол.
Я намекал недавно на самоволку тов. Джугашвили-Сталина. К отцу народов автор беспощаден. К Домбровскому – отцу товарища и друга – снисходителен. Что ж так-то?
Тов. Сталин-Джугашвили собственное дезертирство нипочем бы не признал; он-де имеет веские претензии к войне – она, как говорит тов. Ленин, имперьялистская, захватная.
Домбровский же напротив: идет война народная, священная война. И потому он сознавал, что труса празднует. Конечно, трусость как проявленье закона самосохраненья – вещь естественная. Но быть естественным в открытую и трусость не скрывать – на это требуется смелость. Да где ж такую ты возьмешь? Опять и снова, снова и опять: таись, молчи.
И уж, конечно, бойся Бурцева. Царю он не слуга, не брат он черту. Он сын простого обер-офицера из захолустных оренбургских батальонов, и он ответит без затей: присяга нерушима. Прибавит – собиратель биографий декабристов, судимых в крепости Петра и Павла, прибавит без аффекта: а честь – присяги выше.
Ответного письма он не отправил. Его мотивы Домбровский понял. Не зря ведь обретался в школе проф. Петражицкого, психологической. Мотивы эти счел ура-патриотическими. Однако и обиделся, и огорчился. А все равно следил за ним, как Леонид Андреев (см. начало этого романа), почти с восторгом. Газеты извещали: «Известный Бурцев сообщил…»
Домбровский ждал, когда ж он наконец объявит суперсекретного агента в партии большевиков. Заинтригован был и ларчиком, который открывался лишь с разрешения государя.
Об этом В. Л. действительно упоминал. Но далее, по слову древних, море тьмы. И вышло так, что версию свою я изложил Домбровскому-писателю.
В одном из сретенских проулков зажил он в узкой комнате. И вскоре уж жильцы под руководством заштатного полковника ополчились на Юрия Осиповича. За что? То пьяных подберет на лестнице и пустит ночевать; то голь набьется и ну орать стихами, то телефон трещит: прошу прощенья, мне б Домбровского. От «грамотных» отбоя нет. Так звал он тех, что приходили «грамотно» – со склянкой огненной воды. И все это жильцам, черт их дери, все это было не по нраву. Домбровский возражал им гневно. Не возражал, пожалуй, а вразумлял, учил их милосердию и снисхожденью к падшим. Полковник звал милицию. И участковый в первый раз, я помню, вопросил, скучая: «Чегой-то тут у вас все происходит?». Вчерашний каторжанин величественно отвечал: «Начальник, я их жгу!». И младший лейтенант отпрянул: «Что-о-о!» Домбровский пояснил: «Глаголом жгу, но нет у них сердец…», и участковый, сознавая бессилье всех глаголов, проговорил: «Смотри-ка мне!» – и удалился.
Так вот, один из «грамотных», а именно ваш автор, и рассказал писателю об этом ларчике, об этом шкафике. Ю. О. держался правила: все подвергай сомнению. Но с версией моей он согласился. Я изложил ее в «Соломенной сторожке». А здесь не стану. Пусть требует народ переиздания романа.
* * *
Отец вернулся к сыну. И на аптечный склад. Домбровский-старший осенился сенью николоворобьинских вязов. А Бурцева, его внимание, его расположение привлек другой юрист, командированный в ЧеКа.
Не надо путать Н. А. Колоколова с его однофамильцем и его тезкой. Тот Колоколов обитал на Каменноостровском. Как раз напротив дома проф. Петражицкого и книжного магазина юридической литературы профессорши Марии Карловны. Но тот Колоколов, если и имел он отношение к юриспруденции, то по касательной – в качестве товарища председателя какого-то, мне не известного, «Согласия». По букве и духу профессиональных занятий в данной точке Каменноостровского следовало бы квартировать другому товарищу – товарищу председателя Петроградского окружного суда. Но этот Колоколов жительствовал в Первой Рождественской, что, впрочем, имело некоторую топографическую выгоду – близость балабинской гостиницы, где все еще числился постояльцем практик психологической школы проф. Петражицкого, то есть Владимир Львович Бурцев.
Бурцев и Колоколов общались часто. Они нуждались друг в друге. Прокурор, направленный минюстом в помощь муравьевской ЧеКа, и В. Л., копошившийся в конференц-зале с архивными ящиками. Оба старались распознать подноготную одного из депутатов Государственной думы. Занятие всегда необходимое. В случае с Малиновским – архинеобходимое. Колоколов говаривал Бурцеву: «Ты хорошо роешь, Крот», – и В. Л., польщенный, прихлопывал себя по бокам.
А Малиновский, кумир питерских рабочих, был вне досягаемости. Он находился в германском лагере военнопленных. Выходит, «рентгеновские снимки» надо было бы отправлять в архив, на потребу будущим историкам, и шабаш. Но Бурцев и Колоколов усматривали в деле Малиновского серьезное, козырное свидетельство политических провокаций, имеющих державный «знак качества». От эдакой деятельности теперь уж пятились плаксивые зеки Трубецкого бастиона, вчерашние труженики Департамента полиции. Но Джунковский – и В. Л. прознал об этом, так сказать, «архивно», – Джунковский, служа царю, чурался провокаций. Внедрение агента Малиновского в Таврический дворец, в русский парламент признал он неприличием. И телефонно известил об этом пред. Госдумы. (В. Л. готов был извиниться гласно за то, что сделал некогда безгласно: зачислил генерала в камарилью.) Добавлю от себя. Ужасно изменились нормативы приличий – неприличий. Есть в нашей Думе депутат, главарь какой-то фракции (само собой, народной); ему сказали, и притом прилюдно, что он стукач. И что же, господа? А ничего! Все та же галантерейная приятность, серебряная прядка, и на коралловых устах улыбчивость играет. Поди возьми такого за рупь за двадцать.
Все эдакое возникает на зыбких кочках. Мне тем и интересен Малиновский. И, говоря по правде, не столько сам по себе «дорогой Роман», а… Не стану дальше называть ни Лениным, ни Не-Лениным. Избавлю вас от путаницы. Избавлю также подлинного Ленина, высокопорядочного Сергея Николаевича, от подозрений в каких-либо неприличиях. Заступника Малиновского стану именовать Ильичом, Стариком. Ему это нравилось. Звучало и почтительно, и по-народному. Даже и несколько патриархально, как обращенье к пасечнику в заволжском имении.
Именно Ильич-Старик и направил Малиновского к Бурцеву в канун войны, в январе 14-го. На ул. Сен-Жак Малиновский пришел вечером. Высокий, стройный, глаза чистые, серые; взгляд не то чтобы робкий, скорее застенчивый. Речь ладная. Понравился Бурцеву Роман Малиновский.
Любопытная, хотя в общем-то обыкновенная история. Едва изобличили, с внешностью его случилась метаморфоза, как несколькими годами раньше с портретом (словесным) Евно Азефа. Все оказалось не таким, каким было до изобличения. Глаза серые стали желтыми. Взгляд вовсе не застенчивым, а бегло-беспокойным. Оспины, прежде малоприметные, придали лицу «свирепое выражение». Рыжие волосы были, оказывается, жесткими – ржавая проволока. А кто, спрашивается, по головке-то гладил? Разве что одна только пухлобеложавая Стефания Андревна; некогда кухарила она у полковника, под командой которого Малиновский отбыл солдатчину… Да, походку забыл отметить. Прежде была энергичной, с вольным отмахом правой руки; после изобличения – вкрадчивой, кошачьей.
Тогда, в Париже, в 14-м году Малиновский, исполняя порученье Старика, просил В. Л. участвовать в очередной комиссии – разборка очередного подозрения в шпионстве. Предложенье не польстило Бурцеву. Я уж сообщал – большевиков он не терпел. Он отказался. Но все ж рекомендовал «источник»: за справками вы обратитесь к Сыркину, московская охранка, сошлитесь на меня; мол, Бурцев просил помочь.
Бедняга Сыркин! С ним очень, очень расплатились. Теперь понятно, Малиновский стукнул. И Сыркин на казенный счет отправился подальше, нежели Макар с телятами. А Бурцев, пожалев, сказал: что делать, такова борьба… А вы б, Владимир Львович, наперед бы Сыркина спросили – готов ли он сотрудничать и дальше? Нет, не спросил. И это, в сущности, не что иное, как беспардонное распоряженье чужими судьбами. Партионно-беспардонное, как говорил ваш друг Лопатин.
А вот Роман Вацлавович везде пришелся ко двору. Рабочие его любили. Интеллигенты радовались: ну, наконец-то лидер из рабочих. И все назвали его Русским Бебелем. И он взорлил – и член ЦеКа, и депутат Госдумы. А вместе бо-ольшая шишка в агентуре.
Фарт неслыханный! По одним сведениям – сто целковых, а по другим – полтысячи: из тех вот сумм, которые известны государю и тайному советнику Лемтюжникову. Госдума платит депутату триста пятьдесят. Конечно, член ЦеКа эсеров, тот загребал и тыщу, и полторы, чуть менее министра. Да ведь Азеф, он бомбою жонглировал, он Боевой организацией распоряжался, мог порешить и государя. Но и Малиновский, скажем прямо, на бобах не сиживал. Читайте и вздыхайте: 4–7 копеек фунт пшеничного; ржаного 2–3 копейки; говядинка вполне приличная за фунт 6-35 копеек; телятина от гривенника до двугривенного. Ну, и так далее, все в том же духе… Квартиру, правда, нанимал он пролетарскую; там были пианино, оттоманка, этажерки, каждому постеля. А было это на Рождественской. Там и теперь Стефания и сыновья ждут не дождутся его писем – он под германцем, он в плену, он унтер-офицер.
А Колоколов, товарищ прокурора, торопит Бурцева. Товарищ прокурора изучает дело Малиновского. И Бурцев в этом направлении работает под знаком динозавра.
Когда-то дважды, трижды запрашивали Бурцева о Малиновском. Он отвечал: нет, нет и нет. Но оказалось: да, да, да. Положим, он видел Малиновского в течение двух-трех часов. Большевики, положим, не делились с ним своими подозреньями, догадками, предположеньями. А все же где его чутье, и глазомер, и навык, связи? Ведь он гарпунил крупную и хищную акулу. Так, значит, и на старуху…
Иной строй мыслей, чувств соотносился с партионным начальником Романа Малиновского. Бурцев не звал его ни Стариком, ни Ильичем; он называл его Ульяновым. Но как-то принужденно. Должно быть, не желая оскорблять память брата этого Ульянова. А псевдонимом звать не хотел. Подумаешь, Онегин иль Печорин.
В. Л. подозревал, что Русский Бебель имел одновременно двух кураторов. Один теперь сидел в тюрьме. Другой остановился на Петроградской стороне, у свояка.
В тюрьме сидел Белецкий. Степан Петрович, сорока четырех от роду. Недавно он сидел в довольно жестком кресле – директор департамента полиции. Лицом был желтоват, как от хинина. Казалось, весь лоснится. Опережая расспросы Бурцева и Колоколова, Степан Петрович сам строчил, строчил, строчил. И слезы лил, и пот… И это ж он, Белецкий, звал еженедельно Малиновского на рандеву. В хорошем ресторанном кабинете. Кокоткой пахло, а за стеною, в зале шум и дребезгливость фортепьяно. А третьим, но не лишним, был Виссарионов, брюнет лобастый, чистюля, с брезгливо-белыми руками. Помощник и клеврет Белецкого знал стенографию. Ну, успевай – записывай.
Вторым куратором, по мненью Бурцева, и мнению, скажу вам, справедливому, был тот, кто с бронемашины швырял в толпу, как греческий огонь, свои призывы. Теперь он с Наденькою жил, как вам известно, в доме свояка на ул. Широкой. Но вот уж приглашен в ЧеКа. Его помощник и клеврет Зиновьев тоже.
* * *
Для них вокзал Финляндский – почетный караул, революцьонный держите шаг, кепчонку с головы долой, ну, и так далее. Для Ник. Андреева и для меня – совсем другое.
Он, журналист, однажды летом получил заданье – сварганить для газеты очерк на тему: шумит, гудит родной завод, а нам-то что… Нет, серьезно и конкретно: про завод им. Влад. Ильича. Ваш автор в этот день, свободный от дежурств, старательно баклуши бил. Послушай, предлагает Ник. Андреев, легонько заикаясь (контузия под Сталинградом), махнем-ка, брат, на Выборгскую; я матерьяльчик подстрелю, и мы уж посидим на воле, сам понимаешь… Как не понять, черт подери? Вокзал Финляндский нам был известен прекрасными котлетами. Недорогими, вкусными, не хуже, чем в ресторане при севастопольском вокзале, Орлов не даст соврать… Поехали на Выборгскую. Приходим мы к парторгу. Приятель просит пригласить рабочего – тогда еще не изобрели ужаснейшее: «заводчанин», – знавшего (видевшего) Владимира Ильича. Приходит. Лицо большое, умное; усы. Фартук длинный в черных дырках и рыжих подпалинах. Темные тяжелые руки неспешно отирает масляной ветошью. Исполнен достоинства питерского металлиста. Садится. Парторг просит рассказать об Ильиче. Петрович (Савельич? Игнатьич?) глядит на парторга внимательно, вполприщура. Отвечает ясно, твердо: «Товарища Ленина на заводе не видел. А вот Гриша Зиновьев…» Парторг, мне показалось, вроде с шелестом на насест взлетел. Руками машет – окстись, окстись! И опять, будто крадучись, со своим вопросом-просьбой подступает. Вышло рефреном: «А вот Гриша Зиновьев, тот по-о-омню…»
Надо было уносить ноги. И они принесли нас на Финляндский вокзал, где так хорошо, так провинциально пахло деревянным перроном, только что политым водой. В симпатичном ресторанчике мы мало-помалу восстановили доверие к настоящим питерским пролетариям, которые хоть кого заверили бы, что на завод им. Владимира Ильича никогда не приезжал враг народа Зиновьев.
* * *
А приезжал он, еще не будучи врагом народа, приезжал Гриша Зиновьев в Париж. В начале века приезжал. Рыженький, молоденький, а сердечко-то уже пошаливало. Ему бы на Херсонщине, на папиной молочной ферме, среди евреев-колонистов жить-поживать, так нет, черт догадал переступить черту оседлости. Потом и за кордон метнул.
В Париже подался рыженький к Бурцеву. Видать, адресок имел. Бурцев радушно принял молодого человека. Тот диагноз втихомолку выставил: неподкупный фанатик. Он дал Гришеньке корм, дал кров, книги дал, отвел для занятий в Национальную библиотеку. И в Париже помог, и в Берне помог. А потом и пустил дискантом: чур меня! Чур меня! К Ульянову этот Радомысльский прилепился, Зиновьевым обернулся. Скатертью дорога!.. Вот она, камчатая, и расстелилась: назначено и ему, рыженькому, одышливому, и Старику-Ильичу отвечать на вопросы в ЧеКа по делу провокатора Малиновского.
* * *
Рассыльный из Зимнего унес в своей «разносной» книге автограф Ульянова, может, и теперь еще не разысканный, Ульянов с лица спал. Сильно он, между нами говоря, растревожился. В течение дня выдавались, правда, минуты, когда он бойчился. Похохатывал, на носках прохаживался, в проймы жилетки ладошки вбрасывал. Словно бы находился не у свояка Елизарова, а у Каплера в кинопавильоне. Да вот ночью-то, когда все затихло, ах ты, доннер-веттер. Понимаете ли, мускульная память возникла, будто закричали: «Каза-а-ки!» – и он ударился бежать. Бежал, как заяц от орла-зайчатника. С плешатой головы котелок слетел, как с плахи. Бежал, пока не грянулся в кювет с палюстровской водичкой… Никто не побежал от казаков, только он, никто, верно, не заметил, но признать-то надо, что история всю эту сценку вписала в генеральную репетицию, то бишь в хронику то ли пятого, то ли шестого года.
А хихикать неча. Заполошный, слепящий страх он впервые пережил при известии о том, что брата не помиловали, что брата повесили. И он, младший, пережил эту шлиссельбургскую казнь не то чтобы мысленно, но телесно, с тяжелыми ударами сердца и пресекающимся дыханием. Тот юношеский ужас был наивысшим состраданием. Все другие приступы страха, приключавшиеся, правду молвить, редко, были личными, шкурными, телесными. Не мне, пугливому, над этим трунить.
И он над этим не трунил. Не числил по ведомству – ничто человеческое мне не чуждо. Нет, стыдился. И находил какое-то детское утешение в бессловесно-ласковом участии Надежды Константиновны; так жену его звали, Крупскую. Она никогда ни в чем его не винила. Она не понимала, как можно его винить в чем-нибудь. Они ходили в лондонский зоологический сад на свидание с белым волком. (Лучше бы, конечно, тот был красным.) Все волки, как и кошки, серы. Сторож объяснял: «Этот нипочем не смирится с неволей. До последнего издыхания будет грызть решетку».
Нравственные заповеди, якобы изобретенные боженькой, были решеткой. Ульянов умело извлекал свое «я» из тенет и ков. Не только заповеданных боженькой. Его марксистский послух отнюдь не всегда был послушанием. Он полагал необходимым мыслить не так, как мыслили Маркс и Энгельс в свое время, а так, как они бы мыслили в его время.
Но теперь, когда ушел рассыльный, теперь, когда курьер из Зимнего унес в своей «разносной» книжке его автограф, Ульянов перепугался до смерти. Он испугался возможности обнаружения подкладки провокаторства Малиновского. Всегда, везде не слишком-то доверчивый Ульянов отметал наветы, намеки, подозрения на дорогого Романа Вацлавовича. Оборона эта, упорная эта защита останется ли незамеченной юристами муравьевской комиссии? А ежели не останется, сыщешь ли объяснение для юристов, исповедующих не целесообразность, тем паче революционную, а дух нравственных заповедей, воздействующий и на букву закона. Он сознавал, что от «подкладки» в провокаторстве Малиновского шибает Азефом.
Не практикой Евно Фишелевича, а его теоретическим вопросом. Набычившись, уперевшись зенками в переносицу Бурцева – там, в кафе близ Рейна, во Франкфурте, – Азеф угрюмо сказал: прежде чем меня осудить, следовало бы определить, а на чью мельницу Азеф больше воды вылил – на революционную или контрреволюционную? От эдакой наглой дьявольщины В. Л. изумленно содрогнулся.
Ульянов понимал Азефа. И принимал такую постановку вопроса. Это ж в первом порыве – там, на пограничной станции Торнео, – читая в «Правде» об иуде, он процедил: «Расстрелять мало!». В первом порыве обыденной укорененной нравственности. Но и тогда он знал, сколь глубоко зарыл собаку. И теперь, в ожидании завтрашнего посещения Зимнего, этой Комиссии, он думал о том, что ведь, пожалуй, можно и на «собаку» сослаться. Ну, в таком, знаете ли, полуироническом тоне, с каким атеист приводит довод теиста.
А у меня душа мрет, рука цепенеет, уши закладывает. Ведь это ж какой довод богословов, теологов?! Предательство Иуды нельзя считать благим, но следует считать способствующим благому. Слышите? Способствует! Ну, и выходит, что Малиновский-иуда, загнавший в туруханки сотоварищей Ульянова, делал для партии Ульянова очень и очень необходимое дело. Спросите: какое именно? Он ответит: самое главное и самое важное – противодействовал единству социал-демократии, меньшевикам противодействовал, убеждал рабочих, что только партия Ульянова способна установить диктатуру. Разумеется, пролетарскую. Вот вам и стержень, на котором все вертелось.
Ага, знаю, слышу: мол, этого разъединения сил, этой разобщенности социал-демократии и требовалось охранке. Так что из того, милостивые государи? Что из того? Впервые, что ли, совпадали его, Ульянова, интересы с департаментскими? Он после минусинской ссылки за границу уехал. Так? Так. Думаете, паспорт, добытый в семействе Лениных, пособил переправе за кордоны? Полноте! Отпустили, пропустили и даже, можно сказать, благословили: пусть этот Ульянов-Ленин издает «Искру», проповедью социал-демократии, глядишь, и отвлечет от эсеровского террора.
Такова политическая диалектика. Таковы доводы теологии. Однако пойди-ка толкуй с присяжными поверенными и прокурорами, дипломированными лакеями буржуазии, заседающими в ЧеКа, куда ему надобно явиться утром, предъявив повестку в Советском подъезде.
Не скажу, ночь пошла на убыль, ночь-то была белая. Захотелось оставить в комнате все свои страхи, разбудить Наденьку да и пойти на Острова, но лучше бы пойти на Острова с Инессой (он имел в виду тов. Арманд, красавицу. Они вместе вернулись из-за границы в Россию), у Инессы, надо полагать, живот не такой дряблый, не такой серо-анемичный, как у Наденьки. Из кухни, а может, из окна пахнуло газом. Газовый завод был неподалеку, запах вызвал в памяти старый грязный цюрихский дом, где была колбасная, тухлятиной припахивало, и они с Наденькой на ночь закрывали окна. А из окна вагона Берлин казался безлюдным, полумертвым, и оттуда возник господин в штатском, выправка прусская, надо полагать, сотрудник Третьего отдела. Наденька во сне простонала. Бедняжка вконец измучена ожиданием завтрашнего, нет, уже сегодняшнего допроса в ЧеКа, а ты идиотически решаешь, в какой подъезд войти – в Советский или Комитетский, хотя это не имеет ни малейшего значения; в тот ли, который ведет в залу заседаний, где бывали те, кто в советах заседать может, но советы подавать не может. Иль в тот, который направлял господ чиновников к ристалищам разных комитетов.
Какие-нибудь пустяки, вы ж знаете, иногда переменяют настроение. Задача с двумя неизвестными подъездами воздействовала на него положительно. Ужасные опасения, словно выпровоженные за ширмы этой комнаты, где он мучился бессонницей, сменились соображениями нежданными, но очень добротворными, точнее, всегда ему необходимыми и полезными для душевного равновесия. Пусть не покажется вам странным, но он подумал о Джунковском. Том самом шефе жандармов, которого мы со свояченицей иногда встречали на Каменноостровском, и который, теперь уже «бывший», жил на Арбате… Мысль о Джунковском напрямую связывалась с мыслями о Малиновском. Его службу в охранке генерал Джунковский счел неприличием, ибо Малиновский был депутатом Государственной думы. (Экая, однако, щепетильность, не правда ли?!) И генерал, что называется, поставил в известность председателя Думы. Но… Но партию большевиков в известность не поставил. Хорош гусь!.. Ульянов воодушевился, ободрился. Так происходило всякий раз, когда возникала возможность заушательства, клеймения позором, выведения на чистую воду. Он хохотнул, спустил на пол голые ноги и, выпростав полу длинной ночной рубахи, обратился в муравьевскую ЧеКа: «Под суд Джунковского за укрывательство провокатора!». Склонив к плечу лобастую голову, очень похожий на бурого кота, он словно бы ждал ответа. Однако басистый бой часов, доносившийся из столовой, приблизил к нему Советский подъезд, и он проворно убрался под одеяло, к Надежде Константиновне – так жену его звали, Крупскую.
* * *
Одноразовые допросы Ульянова и прочих произвел следователь по особо важным делам Петроградского окружного суда. Сухощавая фигура Александрова П. А. отсутствует в высокохудожественной лениниане эпохи Советов. В моей памяти Павел Александрович присутствует. Жил на Б. Московской, 13. Помню потому, что на одной площадке была квартира доброго моего приятеля, потомка декабриста и будущего белогвардейца, офицера лейб-гвартии Московского полка.
Следственные материалы передал Александров прокурору Колоколову. Передавая, приватно делился впечатлениями. На тонких бледных губах следователя то возникала, то гасла полуулыбка. Он был не то чтобы участлив и не то чтобы безучастен. В его замечаниях сквозил интерес завтрашнего контрразведчика.
Ульянов, говорил Павел Андреевич, был очень бледен, очень напряжен. Ульянов оправдывался в своем доверии к Малиновскому, старался объяснить это доверие. А Зиновьев… Общее впечатление: нахальство, разнузданность. Развалился, колыхался, точно без костей. И орал: я вам никакой не Радомысльский! Меня партия знает как Зиновьева, меня пресса знает как Зиновьева. Так и пишите в ваших протоколах – Зи-но-вьев!.. Господи, Павел Андреевич даже и не предполагал, что евреи столь щекотливы к раскрытию собственных псевдонимов. На языке у Александрова вертелось: «Жидовская наглость!», – но с языка не сорвалось.
Кроме Ульянова и Зиновьева подверглись допросам и Рыков Алексей Иванович, 36 лет, из крестьян Вятской губ.; и Бухарин Николай Иванович, 28 лет, сын надворного советника; и Трояновский, весьма и весьма заслуживающий внимания, – см. ниже… И совсем к ним не примыкавший Давид Иосифович Заславский, 37 лет, вероисповедания иудейского, журналист. Тогда он жил в Петрограде, кажется, в Заячьем пер. А под конец своей долгой жизни, осложненной простатой, жил в Москве, поблизости от редакции «Правды».