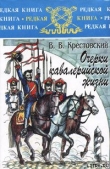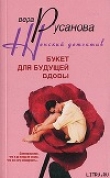Текст книги "Бестселлер"
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
* * *
Он сорок лет прожил, не зная власть Советов. И двадцать лет – под властью рабочих и крестьян. Социализм, как известно, есть учет. Учет особо пристально учитывал прослойку, то бишь интеллигенцию, не забывали ленинский завет: держите-ка ее в ежовых рукавицах. По требованию отделов кадров (филиалы ГПУ) прослойка наслоила пласты анкет и автобиографий. К тому и Бруно Германович Лопатин руку приложил.
Насколько мне известно, а романист все знать обязан, не то какой-нибудь щенок его облает постмодернистом или русофобом. Так вот, последнюю из биографий Лопатин-младший писал зимой Тридцать Восьмого, в Царском Селе:
«Я родился 5 февраля 1877 года в Лондоне. Мой отец Герман Александрович Лопатин (шлиссербуржец), мать – доктор медицины Зинаида Степановна Горская. При рождении я был записан в метрике под фамилией Барт, как английский подданный, так как отец мой в это время по конспиративным соображениям проживал по документу английского подданного Барта. Я продолжал жить под этой фамилией. Вследствие состоявшегося приговора над моим отцом и содержания его в Шлиссельбурге восстановить мое происхождение при царском режиме не представлялось возможным.
После Февральской революции 1917 года особым постановлением Временного правительства, на основании совместного заявления мне разрешено было именоваться Лопатин-Барт.
Раннее детство я провел преимущественно за границей, так как отец мой в то время был эмигрантом, а мать училась медицине в Парижском университете. В Россию я вернулся уже вскоре после осуждения отца, в 1888 году, и учился в Петербурге, в немецком Екатерининском училище, а затем в 1892 году в Москве, в немецком Петропаловском училище.
Затем я поступил на юридический факультет Московского университета, который и окончил в 1901 году с дипломом 1-й степени. За участие в студенческой забастовке 1899 года я был уволен из университета и выслан из Москвы, но возвращен и принят обратно в университет на основании общего постановления комиссии Ванновского.
По окончании университета я принял русское подданство и с 1902 года был зачислен в число помощников присяжных поверенных Округа Петербургской палаты, затем был принят в число присяжных поверенных.
Укажу некоторые политические процессы, в которых я участвовал…[16]16
Далее перечислены судебные процессы 1902–1915 гг. Лопатин-Барт, защищал рабочих-забастовщиков, крестьян, участников «аграрных беспорядков», боевиков-эсеров, членов большевистской Боевой организации. Бывал в Сибири, на Алтае и Кавказе. В жандармских сводках указывалось: активный защитник рабочих.
Б. Г., и не только он, не внял вразумлению министра просвещения Боголепова, обращенному к интеллигенции: «Помяните мое слово, вас первых они и вздернут на фонарный столб».
Профессор римского права, сдавший в рекруты студентов-крамольников, не знал, однако, что для него лично «фонарь» уже готов. В феврале 1901 министра порешил эсер Карпович, после чего и оказался в Шлиссельбурге, соузником Лопатина-старшего. Такая, стало быть, связь времен. А столбы, как известно, зашагали от избы до избы. Такая, стало быть, песня. – Д. Ю.
[Закрыть]
После Октябрьской революции и упразднения Советской властью старой адвокатуры поступил в Главное управление архивов, где работал инспектором. Вследствие исключительно тяжелых условий жизни в Ленинграде переехал с семьей в г. Боровичи Новгородской губернии, где работал до 1922 года юрисконсультом. В декабре 1922 года был назначен юристом акционерного общества „Аркос“ в Лондоне, где и находился до февраля 1925 года.
В течение последних двенадцати лет работал в различных учреждениях г. Ленинграда. В 1935 году одна из моих дочерей, Н. Б. Лопатина, с мужем и моим внуком высланы из г. Ленинграда в связи с убийством С. М. Кирова, то есть преступлением, к которому они не имели никакого отношения.
В настоящее время проживаю вместе с женой Екатериной Ивановной, урожденной Корсаковой, и дочерью Еленой (1912 г. рожд.), студенткой географического факультета Ленинградского государственного университета».
* * *
Жили Лопатины на дальнем-дальнем краю Выборгской стороны, в Лесном. Воздух, конечно, хороший, но дочке-то сколько времени добираться до университета. И потом, знаете ли, флигель какой-то, как у нас, в Москве, на Коптевских выселках, тоже у лесного учебного заведения, я туда еще вас затащу… Отдохнуть же Бруно Германович отправился в не дальнюю от Ленинграда сторону и по возвращении должен был рапортовать жене и сослуживцам о прибавке в весе; в те поры задавали конкретный вопрос: а на сколько граммов поправились?..
Поехал он в Царское Село. Поехал «по путевке», тоже, черт дери, неологизм. В Царское Село, да. Было Детское, переименовали в г. Пушкин. А то еще вот: в двадцатых Гатчина была г. Троцк. Пушкин, конечно, ни в какое сравнение с Троцким, тем паче Бронштейном, да ведь тоже язык сломаешь: «гости съезжались в Троцк». Или: «получил жилплощадь в Пушкине». Вы как хотите, а я по-старому: Царское Село, просто Село.
Дом отдыха принадлежал профсоюзу. Профсоюз, опять-таки по ленинскому завету, считался школой коммунизма. Так что члены профсоюза школились в коллективном проживании и коллективных прогулках по царским дворцам и паркам.
Надо вам сказать, бывший присяжный поверенный страдал отрыжками буржуазного индивидуализма. Посему заполучил отдельную комнатенку с узенькой солдатской койкой и крохотным столиком, за которым и написал автобиографию, приведенную выше. Там же читал, покуривая трубку, прямую английскую, привезенную из Лондона, табак употреблял смешанный, собственного изготовления, опять же индивидуальный. Запах трубочного табака соответствовал его походке, несколько враскачку плечами, за что средь близких знакомых Лопатин-Барт прозывался адмиралом. Что же до экскурсий, то Бруно Германович примыкал к массам, потому что членов профсоюза пускали бесплатно. В музее, совершая деликатные маневры, от масс он отставал, обретая адмиральскую обособленность.
Летняя резиденция последних Романовых, Ники и Алисы, поражала торжеством китча. Безделушки безвкуснейшие, множество фотографий в аляповатых рамах, столпотворение тумбочек, полочек, турецких диванов, туалетных столиков… «Вот жили-то, а?» – восхищались члены профсоюза. Гм, жили… Монархии, как и республики, падают не по причинам экономическим, политическим, нет, гибнут от утраты стиля.
Стиль сохранял огромный парк. Деревья были угольно-черны, а наст алмазно-бел. Бруно Германович гулял долго. Он мерно вышагивал своими длинными ногами, он не утратил гимнастическую выделку, полученную в скучно-суровой Петершулле, воспитанники которой гуляли парами, а на переменках молчали, словно воды в рот набрали.
Зажигались фонари и звезды. Он эти фонари не сопоставлял с обещанными министром просвещения. И не говорил: «Звезды смерти стояли над нами». Искал и, как ему казалось, находил предназначенную звезду. Так он когда-то находил именно эту звезду в Москве, не говоря ни слова ни маме, ни отчиму Горскому, то было его тайной. Такой он уговор придумал, уговор с папой, навечно заточенным в Шлиссельбурге, самой страшной тюрьме в России, а может, и в целом свете. Такой у них был уговор, чтобы в одиннадцатом часу вечера смотреть на эту звезду и думать друг о друге. Находил, смотрел, думал, родство ощущая в жесте, в складе губ… Метели в Царском ходили, избочась, гукали, веяли округло, метели были вальсом, еще не сочиненным вальсом к фильму, еще не снятому по роману, еще не написанному, но вальс этот, уверяю вас, слышал Лопатин в метелях Царского Села.
Февральская метель была, февральская метель играла, за ним приехали. Там, в Лесном, во флигеле 24-м, произвели обыск и ничего «такого» не нашли, правда, толстую тетрадь покойного Лопатина изъяли за то, что всех измучил переводом «Капитала». А здесь, в Царском, рассчитали точно: в домах отдыха после обеда – мертвый час. Гм, мертвый. Подожди немного, отдохнешь и ты.
Они были молодые, туго-щекастые, тройным одеколоном пахли, портупеей скрипели. Словом, те, которые «вас и повесят на фонарных столбах».
* * *
Фонарь, как и положено, горел всю ночь. А камера пустела до рассвета. Все арестанты, как и положено, искали пятый угол в кабинете следователя. Кто с детства не любил овал, тот с детства угол рисовал.
Проспект Литейный, он мне всегда казался очень уж громоздким. А на Литейном – Дом Большой. Знаток архитектуры объяснял: смотрите, прост, монументален, имеет лаконичный силуэт и вертикальный ритм; Троцкий прав– все признаки иного направленья. Услышав: «Троцкий», я, естественно, напрягся, желая уяснить, что, собственно, имеется в виду. Он, побледнев, сказал, что помянул не мерзкого иуду, нет, одного из авторов проекта, Ной Абрамыча, что, согласитесь, не тождественно со Львом Давидычем. Ну, хорошо, согласен, ритм напряженный в административном здании НКВД. Но «направление», по-моему, все то же. Ну, разве больше штат, многажды больше, не вмещал огромный двухсветный зал седьмого этажа, зал заседаний розового мрамора. Да, розового, переходящего и в красный, уж такова зависимость от разной интенсивности.
О, эта разность степеней. Лопатин-младший, явный враг народа, кипуче возмущался беспардонным отношением к законности. Нельзя сыскать получше места, где столь уместно толковать об устроении правового государства, о конституции, правах гражданских. Ох, проповеди целомудрия в собраньи патентованных блядей. К тому же враг народа раздражал: с рожденья парижанин, он грассировал; и требовал вернуть отобранную трубку, английскую: все ясненько, презент за шпионаж.
Ему разбили губы, скулы, подбородок. Ему ломали ребра сапогами. И сажали в ящик, и это, несомненно, было «новым направленьем». Судите сами. Объем– метр кубический. Утыкан весь гвоздями острием вовнутрь, верх вполовину забран проволочной сеткой. Швыряют на пол, орут: а ну-ка, сука, ноги подбери, и накрывают ящиком. Раз в сутки доктор, заботливо склонясь, определял небрежно-визуально, курилка, окровавленный гвоздями, дышит или нет? И отправлялся чай пить. В столовой заварка завсегда крепка, свежа, бодрила персонал, глаза-то воспаленные, дух переводят тяжело. Чай разносил им перестарок-вертухай, он семенил, как такса барсуковая.
Соседом Бруно Германовича был молодой Амусин, универсант. Он не горячился юридически, а тихо осознавал, что соцзаконность реальна так же, как и социализм научный. Для Бруно Германовича он делал все, что мог. Прикладывал к лицу мокренькое полотенце, тихонько-осторожно поворачивал на койке, подбивал подушку и самокруточку сворачивал, и молча сострадал. И понял все, когда Лопатину сказали: «Соберись с вещами».
Амусин, тот вернулся. Спустя десятилетия нашел Елену Бруновну Лопатину. Ему Шаламов подсказал, поэт, прозаик, колымчанин. А я, я сам к Амусину пришел. Не верите? Готов вам предъявить свидетельство за номером 1017.
* * *
Вы знаете, конечно, что это такое – зачетка? Да, студенческая книжка. Ее во оны времена вручили мне на факультете Ленинградского университета. И там отмечено лиловыми чернилами – ваш автор курс Древнего Востока сдал не кому-нибудь, а именно Амусину, доценту.
Сдавал экстерном и другие курсы, покамест ангел мой хранитель из Большого Дома не решил дать укорот. Посредством «тройки» – не отметки, сами понимаете, – он перевел меня на специальный факультет: лесоповальный. Такой вот выдался Восток – отнюдь не древний. А впрочем, могло бы быть и хуже. Ну, скажем, на факультете геологии, в штольнях с урановой рудой. И нечего тужить, чтоб не смешить студентов нынешнего Литинститута. Они, мне говорили, саркастически гогочут, когда им повествуют о муках сталинской эпохи. Я не о муках – о другом. Сдал курс Амусину, да и успел в Тавриду, как говорится, к боевым друзьям. И залетел довольно далеко в пространстве и во времени.
* * *
Я приземлился в Симферополе. Меня встречали Медведев Боря и Орлов Виктор. Мои однокорытники достигли чинов больших, по-старому сказать, штаб-офицерских. Меня, давно уж отставного, они сажали о бок с водителем-матросом. И резвый «козлик» скакал в приморский Коктебель.
Садилось солнце. Полынью пахло. Особенной, таврической, когда-то загубившей полтысячи голов из конницы Петра Великого. А в «козлике» ставридой пахло, на можжевельнике копченной. Ах, братцы, как я был доволен! Мы учинили краткий роздых. Из тех, которые имеют свой пароль: «Ну, со свиданьицем!». Остановились мы у Мертвой бухты. Окрест бурели скалы, изволоки, взгорбки. Как выломки большой каменоломни. Ландшафт звучал аккордом местности близ моря Мертвого. Но мы-то, повторяя: «Живем, курилки!», – занимались делом.
Стояла в карауле уже, наверно, третья, весьма початая, когда залопотали колокольчики; из-за кустов, румяно-розовеющих, как в городке Иерихоне, и появился дед-пастух: белобородый, в высоких крепких сапогах, в поддевке.
Мы пригласили скотопаса к шалашу. Он не дичился, мы разговорились. Старик, узнали мы, служил солдатом при последнем государе. Отщелкнув крышку, протянул карманные часы. Читайте, дескать, и завидуйте – он победитель в стрелковых состязаниях такого-то гвардейского полка… Коснулись неизбежного сюжета – мол, каково жилось вам при царе? Потом клубничного коснулись – как, дескать, дедушка, насчет бабца? Ответил строго: «Баловство!».
Мои приятели смеялись. А мне подумалось всерьез о жизни пастухов. И здесь, и там, где местность в архаических разломах, желто-бурых красках и бухта Мертвая в глубоком штиле, как море Мертвое, и эти запахи помета, овец, пастушьей сумки, а запыленный «козлик» в розовеющих кустах существовал, он мыслил – зачем же в Палестине козлов пускали в Иудейскую пустыню, а не пускали в огород? Пойди-ка объясни автомобилю хотя б одну из аллегорий Библии. Да вот хоть тот же дед-пастух. Он, может, понимал, но ум-то… имел критическое направленье. Не помню повод, но помню точно, наш гость оспаривал Матфея.
Мол, так и так, евангелист сулит: Сын Человеческий отделит на суде овец от козлищ. Да ведь козел производитель коз, а овцы возникают от баранов. Скажите-ка, ребята, зачем же суд, коль жизнь давно уж развела овец и козлищ?
В святом Писаньи иносказаний нам не счесть. Их объясняли и старые раввины, и яснополянский гений, а дед-то, практик скотоводства, на этот счет был слабоват. Да взять и нас – моих приятелей, меня – ну, вздумай мы потолковать о гласе вопиющего в пустыне иль о козле для отпущений, ей-ей, заврались бы. Но каждому, я полагаю, доступен реализм сопоставлений пейзажей Коктебля с библейскими.
Блаженство созерцать мерцание созвездий на глади Мертвой бухты, слышать будто б шелест серебряной фольги. А суша отвечает бронзой вразнобой, и в этом звуке мирная обыденность – отару к дому погнал наш собутыльник. Осклабился: «За угощение спасибо». Потом сказал: «Служите Господу с весельем». Не мне решить, что в этом – аллегория иль никаких затей? А тень его, сиреневая тень, все удлиняясь, коснувшись Мертвой бухты, достигла, уверяю вас, и моря Мертвого. Всходило солнце в Палестине. Пастушину свою уж начинал Иосиф, сын Давидов.
* * *
Он жил у моря Мертвого, столь соленого, что органическая жизнь – не в жизнь. Отсутствие ее возмещено присутствием развитья жизни духа.
Он жил в Кумране. Неподалеку стоял Иерихон; подальше Иерусалим. А на путях к ним – в оазисах – так пировала Флора. А что до Фауны, она, позвольте доложить, существовала в условиях сауны. Газели не бегут козлом. А горные похотливы, как фавны. Недаром ведьмы любого из гусаров променяют на козла. Да и верхом, верхом; такие скачки двух двуногих увидишь нынче на экране. А вот и кабаны. Конечно, тоже дикие. Они ограды огородов валят, все жрут и топчут, урчанье сладострастное. А в водоемах рыбам переводу нет.
Из всех даров природы всего дороже финики. Они дарили водку. Конечно, талмуд дал приказ всем талмудистам: вино извольте разбавлять водой. Ну, что ни говори, не каждому под силу губить арак какой-то аквой.
Осталось указать вам базис. Вот направленья, в которых развивалась кумранская община: добыча соли и асфальта из моря Мертвого; зерно в долине Хлебной; и скотоводство, и ремесла.
Все, как у всех? Так, да не так.
Однако прежде: каков он был, Иосиф, сын Давидов? Искал, искал, нашел насилу. Как раз в оазисе, что на пути в Иерихон, неподалеку от селения Кумран.
Смеркалось. Небо млело топленым молоком. На горизонте холмы лежали сизыми китами, и это было чудо-юдо. Весь день всем володал широкий южный ветер. Теперь, ломая крылья, свалился под откосы. Коряво маслилась вечнозеленость древа, оцепенели жесткие кустарники, изломы кратких черных веток изображали выкрик преисподни. И в этот день, и в это предвечерье было Появленье. Или, как сказал художник, Явление.
Натурщиков он на пленэре расположил пленительно. Но в их натуру, прошу прощенья, не проник. Гляжу на иудеев кисти Александра Иванова, а всей ладонью чую гипс и мрамор в холодных классах петербургской Академии художеств. И говорю: дистанция. Ведь эллин чувством чтил всю святость красоты. А иудей умом – суровые красоты святости.
Натурщикам, я полагаю, все это невдомек. Они уж нарисованы, могли бы расходиться. Но Иоанн Креститель зовет всех ждать Явленья. Сказать здесь очень, очень кстати: Иоанн Креститель из селения Кумран. Оттуда и пастух Иосиф, сын Давидов.
Он не натурщик, уверяю вас. Он дело делал – мыл овечью шерсть в потоке вод. Пастух Иосиф – труженик. Но Александр Иванов не передвижник. И посему пастух лишь на обочине его вниманья. Не то ваш автор. Во-первых, он любитель производственных романов и потому отметит: в источнике имелась глина, а глина издревле служила средством избавленья от шерстяного жира. Во-вторых, ваш автор напитан русскою литературой состраданьем к рабочим и крестьянам и потому тотчас заметил, что пастух Иосиф скособочен – в крестец вступило. А ведь еще отару надо гнать в овчарню. Гм, Александр Иванов не обозначил животину. Она вот там, за деревом, за жесткими кустами, лежит врастяжку, дожидаясь пастуха.
Иосиф, сын Давидов, насквозь прожженный палестинским зноем, худ и жилист, кожа да мездра, живот ввалился. Череп голый, а бороденочка седатая, как соль на валуне у моря Мертвого.
Он вдруг вперед подался и оперся на длинный шест.
Под изволок спускался Учитель Справедливости. Внезапно углубилась тишина, и стало слышно, как шуршит дресва и осыпаются каменья.
* * *
Художник нам изобразил явление Христа: светился кротостью и был немножечко застенчив; противоречил он пейзажу, принадлежал непалестинской широте и долготе; под изволок спускался не каменистый, нет, будто б травянистый, а там, за поворотом, позади, звенел пречистый березняк. А вот Учитель Справедливости – пастух Иосиф не раз его видал и слушал, – Учитель был вблизи серьезен, строг, черняв. Конечно, автор субъективен, но облик, схожий с ликом, – см. болгарские иконы.
Он пастуху Иосифу был первым после Б-га. А Б-г желал, чтоб не было ни первых, ни последних. И потому Учитель Справедливости идейно вдохновлял всех раббим. Быть путеводною звездой дано тому, кто отучает считать звезды, то бишь бить баклуши, и приучает к душевному труду. Но вот уже над Иудейскою пустыней зажигались звезды.
Домой, в Кумран, ушел Иосиф вместе с Иоанном. Нам Иванов его изобразил в одеянии из грубой шерсти, неутомимым коренастым пешеходом с широкими и твердыми ступнями. Известно, Иоанн в пустыне акридами питался, саранчой. Не только сухой и хрусткой, но и вареною, и жареной. Вообще, осмелюсь я предположить, что не одной акридой жил Креститель. Ведь не отшельник-старец, а молодой, лет тридцати, пропагандист и агитатор.
Его родители, Захарий и Елизавета, когда-то переселились с нагорной стороны в Кумран. И поселились соседями Иосифа и Лии. Мариам из Назарета была им родственницей и посетила их однажды с Младенцем на руках, рожденным в Вифлееме. Ужасно трудно нам установить, был ли пастух Иосиф сын Давидов, тем, кого в России называют конем леченым, или до самой смерти так и остался всего-то-навсего обрезанным евреем. Одно могу свидетельствовать: Иосиф и Креститель, встречаясь, друг другу говорили: «Радуйся!». И это было общим, повседневным: «Здравствуй!».
Итак, они держали путь к селению Кумран. Пастух Иосиф хватался за крестец. Креститель за день притомился. Идут, молчат. Пустыня внемлет Богу. В глубоком небе роятся зодиаки.
Пришли. Сказали стражнику при Южной Башне: «Радуйся!». Борясь с дремотой, стражник отвечал: «Шолом» иль что-то в этом роде.
Прихлынул запах, всегда отрадный, откуда б ты ни воротился, с далекого пути или с большой путины. Пованивало местом без отхожих мест, пекарней и красильней, печами для обжига глины, верблюжьею мочой и чем-то кислым. И обласкала слух вода – ее однообразный шорох, воркотня движенья в акведуках, направленных к семи бассейнам.
Вблизи одной из них под легкой кровлей ждала Иосифа жена, она звалась Лией, дочь Менделя, давно покойного. Они уж состояли в браке, пожалуй, сорок лет. И столько же пастух Иосиф, сын Давидов, состоял в общине.
Полноправным членом – раббим – определяли добровольцев отнюдь не в день, не в одночасье. Всяк доброволец имел двухлетний искус. Все это, как и многое другое, предписывал «Устав».
Неохота толковать об исключительности иудеев. Но как же не сказать о том, что сей «Устав» сработан в два столбца на меди две тыщи лет тому. А положения и указания его досель имеют отраженье в головах, материализацию имеют в деле.
Учитель Справедливости, его ученики-отличники не уставали славить и коллективность производства, и коллективность потребления. А в параллель клеймить пристрастье к частной собственности.
Как нам не вспомнить новозаветных Анания с Сапфирой? Продали землю и выручку апостолу вручили. Но Петр, очевидно, не вчуже был знаком с земельным рынком. Спросил он подозрительно: и это – все? Чета частила: все, все, все. Однако надо вам сказать, они, бедняги, припрятали на черный день. Но ложь, известно, убивает. День черный не замедлил: Ананий и Сапфира упали замертво.
В общине, к которой некогда примкнул пастух Иосиф, случалась «утайка относительно имущества». Но за нее Сын Света не карался скоропостижной смертью. Карался голодухой: брат наш, затяни ремень потуже. Ты отлучен от общепита, от совместных трапез, и выдача харчей тебе уменьшена на четверть.
Учитель Справедливости определил, за что и что положено любому Сыну Света. Скажу-ка наперед – плеть не гуляла, а высшей мерою был остракизм, изгнанье из общины. А вот за что они платились: за брань, пусть невзначай, при чтении священных текстов или гимнов, помещенных в «Свитке Хвалений». За оскорбленье товарища-собрата каким-нибудь наветом, а также чувством злобы. Или – какая прелесть! – за сон на сонмищах общинников. Сонливец отлучался от собраний-сходок на срок, конечно, краткий, короче воробьиного хвоста, да ведь в хвосте у коллектива быть обидно… Но это все второстепенно. Шаткость духа, инакомыслие – тут оборот серьезный. Покаялся? Сиди два года… нет-нет, не за решеткой, а позади всей братии на трапезах. Два года – не долго ли? Поймите, покаянье-тушва, да это же не фигли-мигли, а длительность отчаянья от собственного окаянства. А если ты, брат, ветеран с десятилетним стажем пребывания в Совете, если ты впал в шаткость духа, в инакомыслие, – ты будешь изгнан навсегда. Общественная монолитность всего превыше.
Пастух Иосиф, сын Давидов, был наказуем дважды – он на собраньях, где слушали витию, засыпал. Когда же сообща решали хоздела, он был, как говорится, весь вниманье. Он был работник, скотопас и плотник. И семьянин исправный. Соврать не даст нам Лия, дочь Менделя, давно покойного. Ее наморщенные руки в оплетке синеватых жил уже готовы к утренним заботам.
Был слышен важный шаг верблюда. Какой-то раббим имеет порученье отправиться в Иерусалим, туда полдня пути. Проведав стариков-родителей, Иоанн Креститель уходит к ниспаденью Иордана, он знает эту реку, как гидрограф. Алел Восток, луч солнца крался к кувшину с козьим молоком. Опарой пахло из общественной пекарни, а из загонов – острее и сильнее тянуло круглым запахом овечьего помета.
Пора старухе Лие подниматься, пора ей снаряжать Иосифа.
* * *
Восток алеет и на нашем Севере. Но подниматься ль спозаранку? Смеялась Лия Менделевна: «Иосиф не пасет овец».
Он пас студентов исторического факультета. Однако именно овца, заблудшая овца и навела доцента на опыты общенья со свитками из древних кувшинов.
Амусин, речь о нем, Иосифе Давидовиче, недавно поселился на ул. Орбели. Хоть академик и востоковед Орбели, боюсь, ни разу не бывал на бывшей Объездной, но есть, предполагаю, глубокий смысл в том, что тезка академика-востоковеда, сотрудник академического института, получил двухкомнатную как раз на ул. Орбели.
Окраина окраины. Здесь Выборгская сторона еще хранила приметы небогатой дачной старины. Ее теснили новостройки. И новоселы. Средь них уже немолодые Иосиф с Лией. Ах, извините, ордер дороже ордена. Конечно, ордер на жилье, не на арест. Арест уж был, но до войны. И орден был, но за войну. И вот – двухкомнатная! И в тишине, в уединеньи, избавленный от суеты жильцов-соседей, он продолжает опыты общения со свитками пустыни Иудейской, прибрежий моря Мертвого.
Овца, заблудшая овца. И никакой иносказательности. И никакой символики. Или, избави Бог, клонирования. А попросту из тех парнокопытных и полорогих, которых пас Иосиф, сын Давидов, кумранский житель и… Сказал бы он, мол, старший современник Крестителя евреев, когда бы не чурался голой умозрительности: Предтечи храм хоть есть на Выборгской, но не видать его из окон на ул. Орбели, а благовест давненько под запретом… Овца ведь заблудилась не на Выборгской, а в палестинской широте и долготе, – как не услышать благовестника: «Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?».
Пастух искал. Нашел ли, неизвестно, поскольку, как известно, овца не блудный сын. Но в этих поисках и сотворилось чудо: вышло из пещеры. Потом другой и третьей, и вот пещер-то дюжина. Сокровища обрел и разыскатель, имевший жительство в Хирбет-Кумране, обрел и новосел на ул. Орбели. Восток алел. Пустыня Иудейская, обогащая чутких спекуляторов, ниспосылала миру свитки-тексты. Тому две тыщи лет, как их упрятали евреи от оккупантов-римлян.
Восток алеет и на нашем Севере. Есть упоение в общении с фрагментами, исполненными красоты и смысла. Есть опыт, нажитой ошибками. Есть одоления лакун и напряжением ума, и по наитью чувств, казалось бы, давно исчезнувших. Амусин, помню, не без смущения их называл «бобруйскими».
* * *
Местечко по-над реченькой Бобруйкой, впадающей в Березину. Все ветры, независимо от направления, носили над уездом печали бездорожья и влажность мхов. Случалось, и нередко, – дым. Хоть цвет жемчужный, но свет тяжелый: горят иль тлеют коренники, где добывают-нарезают торф. Географическая точка вмещала вонь кожевень и мягкое тепло от производства кирпича. Вмещала крупорушки, лесопилку, а также и кредитные товарищества. Возможно, что Амусин-старший служил там счетоводом.
Все это вмещалось в понятие «бобруйск». Однако Амусин-младший в своем «бобруйстве» усматривал иное. Иудейскую религиозность. Нет, не формальную, не ритуальную, а детскую, отроческую. Поэтика ветхозаветного дарила поэтические впечатления. Потом они погибли – казалось, навсегда, – окостенил их атеизм, развеял суховей марксизма. И вдруг «бобруйское» очнулось в том высоком напряженьи, с каким вникал Амусин в смысл кумранских свитков. Тех, что сохранили кувшины древнееврейских гончаров. А мама нашего Иосифа произносила: «кукшины»– с базара глиняные, эмалированные из посудной лавки, где продавщицей тетя Рая. И улыбнувшись несколько застенчиво, Амусин определял свое терпение в разборе рукописей с прибрежья моря Мертвого: терпение неистовое.
Случалось, он пугался: вкушая, вкусив мало меду, и се аз умираю. То не был липкий, потливый полуобморок тридцать восьмого, когда Иосиф Давидович сидел в тюрьме Большого дома на Литейном. И это не было вжиманьем в снег и перехват его из горсти жарким ртом, когда сержант кричит: «Вперед!». Нет, нет, другое. Мгновенный страх утратить счастье, благо, полноту вот этих будней, ниспосланных заблудшею овцой и палестинским пастухом.
В своем неистовом терпении писал он докторскую диссертацию столь истово, что неприметно бросил давние обязанности в житейщине устойчивой, как и моногамный брак Иосифа и Лии. Не он теперь таскал белье на постирушку в приемный пункт; не он, а Менделевна залучала в дом сантехника; она же зажигала газ в духовке, что прежде храбро делал он, свернув жгутом газету, и руку вытянув, и подогнув колена, как заряжающий пушкарь.
Но жить анахоретом он не умел, хотя и сознавал: не смей даже и в мыслях хулить царя, бо и птица небесная донесет на тебя. Царя он не хулил, а «птице» все равно, она снесла яичко. Вдруг царь сместил псаря. А сменщик выпустил немножко пар. А капелькою пара был Амусин. Прелюбопытно – вот: он не утратил изначальное доверье к жизни. Сохранил общительность, благожелательность. Бывало, это уж в народном ополчении, взводный удивляется: «Ты, Осип, больно прост», – к бойцу Амусину он относился хорошо. И даже малость сострадал: «Э, не тушуйся, в родителях ты, брат, не виноват…» Еще прелюбопытно – вот: послевоенная борьба с космополитами (тогдашний псевдоним жидовства, как нынче – сионизм), борьба сия не минула Иосифа Давидыча: его щипали, и весьма прибольно, за то, что он не «по-советски, не по-русски» отнесся к еврейским рукописям из пещер, он пожимал плечами – что это значит не по-советски, не по-русски, коль речь идет о величайшем из открытий века?
Средь тех, кто знал, ценил, любил Амусина, была вдова поэта Мандельштама, был и Шаламов, поэт, прозаик, колымчанин. И дочь Лопатина-Барта. Мы с ней были дружны и вместе бывали у Амусина.
Его домашние общенья не блистали критикой режима. На кухоньке мы не теснились вкруг гитары. Водку лучше пить не в тесноте и не в обиде, и не надо в пиве обнаруживать ячменность горя, а лучше ощущать всю прелесть пивной ячменной горечи. А под гитару песни? Да это же морская пересылка у Северной Двины; там в дни войны сколачивали экипажи флота – «Прости, прощай, Маруся, подруга дней моих суровых…». Или землянка зеков, пришедших в глубину хреновенькой тайги, чтобы самим себе устроить 31-й лагерь, – «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут холода…». Иль, наконец, тот полустанок, где белобрысый опер Л., подслушав нашу песню – «Я прошел Сибирь, в лаптях обутый…», – напился и заплакал. А в кухоньках, московских или питерских, там песня и гитара казались нам искусственным надрывом. Несправедливо? Да. Несправедливо же вдвойне и чувство собственного превосходства: «Эх, фраера, вы фраеришки».
А вот на улице Орбели, 27… В двенадцатой квартире, в квартире доктора наук Иосифа Давидыча Амусина, мы протирали мутность окон, и открывался вид на Иудейскую пустыню, где дьявол искушал Христа; а из пустыни Иудейской не в храм вела дорога, а к Левашовской пустоши, что к северу от Ленинграда, невдалеке от ул. Орбели.
Неистовым терпением Амусин проник и вник и в бытие, и в быт общины, к которой, вспомните, принадлежал пастух Иосиф, сын Давидов. Но соискатель докторской не уместился мыслью в диссертации. Обретшим он не стал; он оставался ищущим. Мы были вместе. В разной степени, но вместе, то есть те, кто собирался под абажуром в двенадцатой кв. на ул. Орбели. От диссертации ушли, пришли на путь диверсии. Идеологической, конечно. Отказ от частной собственности в пользу коллектива, «Устав», и общая казна, и общепит в Кумране. Учитель-Вождь и проч. В селении Кумран ваш автор скалил зубы. Какая легкость в мыслях. А между тем… Лежала мина замедленного действия: молчала две тысячи лет. И вот, извольте радоваться, она взрывается, черт ее возьми. Кто дал нам первый опыт строительства социализма в отдельно взятом городишке? Евреи! О, ужас! О, позор! Святых всех вон! Спокойней, ребятишки. Теперь уж им не отвертеться: они всех русских мужиков в колхоз загнали? Гм! Во-первых, милые мои, в Кумране правил принцип добровольности, как нынче в кибуцах Израиля. А во-вторых, жиды, конечно, энергично-прагматичны, да вот, скажите, достало б их на то, чтоб совершился всероссийский великий перелом костей с проломом черепных коробок? Ой, нет, ребятушки. И не было б утраты генофонда, когда бы не остервененье бедняков на кулаков. Оно ведь давнего происхожденья. Еще Бакунин утверждал, что наш мужик жаждет не только помещичьей земли, но и кулацкого добра. Да-да, он так и говорил: кулак, кулацкого. Но слышу ритурнель: а все ж жиды, жиды, жиды. Иосиф же Давидыч, на то историк, повторял задумчиво: «Узлы ты не развяжешь, не зная, как их завязали».