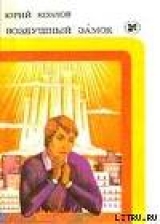
Текст книги "Воздушный замок"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Как раньше он прочитывал за ночь толстый том, так теперь не только прочитывал, но ещё и делал к нему рисунки. Рисование и Анюта заменяли Андрею в тот счастливый период всё.
– …Ты правильно делаешь, что много рисуешь, – заметил отец.
– Что-что? – Андрею показалось нелепым, что о его рисовании можно сказать «правильно» или «неправильно». Это было всё равно что сказать: «Правильно делаешь, что дышишь».
– Кстати, – добавил отец, – в твоём возрасте многие уже знают, где будут дальше учиться, чем будут заниматься в жизни.
– А… – И вопрос показался Андрею нелепым. Как можно думать о таких пустяках, когда человек не нашёл спасения от своего ближнего, когда мир так же далёк от совершенства, как во времена финикийского бога Молоха, в жертву которому сжигали детей.
– Что означает твоё равнодушное «а…»?
– Год – целая вечность. И потом не так уж важно, чем я буду заниматься. Что я смогу изменить?
– Скорее всего ничего, – ответил отец, – но тем не менее для тебя нет ничего в данный момент более важного. Хотя подожди… Да ты, наверное, влюбился! Вот в чём дело!
– Нет! – крикнул Андрей. – Какой смысл влюбляться, когда каждое мгновение, каждое мгновение… – И не договорил, потому что любовь, Анюта имели для него в данный момент всеобъемлющий смысл. Такой, что собственное будущее впервые показалось не главным и жизни. Андрей смутился: – Я… Я знаю, чем буду заниматься!
– Тогда откройся.
– Попозже, ладно?
– Ну-ну. – Отец посмотрел на часы, вздохнул.
Хлопнула в коридоре дверь лифта. Последнее время Андрей чувствовал себя свободно, только когда отца не было дома. Андрея почему-то угнетало его присутствие. Отец резко изменился буквально за последний год. Раньше он был молчаливым, угрюмым. Тяжёлая морщина рассекала надвое лоб, отчего казалось, постоянно мрачной думой одолеваем отец. Тому отцу было не до Андрея. Раз в месяц он равнодушно листал уставленный пятёрками дневник, смотрел подозрительно на сына. Нынешний же отец напоминал человека, очнувшегося от долгой спячки, изумившегося, сколько всего предстоит переделать. Телефон теперь звонил в квартире непрерывно. Какие-то молодые архитекторы зачастили, держа под мышками белые трубы ватманов с чертежами зданий и будущих диковинных городов. Горячие споры велись за полночь, но Андрей не очень-то вникал в их суть. Лишь кипятил и заваривал чай, когда они просили. Отец даже как будто помолодел в этот год. Разгладилась тяжкая морщина, в глазах словно прибавилось синевы. Краем уха Андрей слышал, что молодые архитекторы вели с отцом речь о какой-то церкви, снесённой сколько-то лет назад, а отец отвечал, что, мол, полезнее не лить слёзы по старине, а думать о новом, то есть созидать. Но был там один вредный юноша, упорно гнувший свою линию, не слишком согласный с оптимизмом отца. Он начинал издалека, например, говорил, что когда Эйнштейн употребил выражение «образ мира», то он, конечно, имел в виду не художественный, а физический образ. Помним ли мы сейчас о существовавших некогда художественно-образных системах, можем ли противопоставить тем, старым, свои, новые? Ведь ещё в понимании византийских, а потом и древнерусских мыслителей и художников вся структура мироздания пронизана идеей единого образа. Отсюда у них и понятие единой вселенской церкви, сравнение церкви со вселенной, а применительно к архитектуре идея, что храм есть образ мира, храм – есть космос. Это воплотилось уже в константинопольской Софии, хотя там, конечно же, ощутимо античное влияние. Но древнерусские архитекторы в отличие от византийских соединили в понятии «храм» макрокосм и микрокосм. У них храм не только образ мира, но и образ человека! Они, эти архитекторы, архитектурными и скульптурными средствами воссоздавали некий всеобщий образ мира, одинаково воздействующий как на молящегося внутри храма, так и на лицезреющего храм со стороны. Какова вообще пластика древнерусского храма? Нижний ярус символизирует собственно землю, заполнен изображениями деревьев, образами растительного мира. Второй ярус отождествляется с миром божества в его единстве с людьми, здесь действующими лицами выступают и само божество, и люди, звери, и различные фантастические существа. Третий ярус – собственно небо. Таким образом, даётся законченный образ мира, единицей символа которого выступает архитектурно-скульптурная система. Следовательно, можно ли, вопрошал вредный юноша, говоря об отдельной церкви, забывать, что вместе с ней рухнул в пыль некий образ мира, обрушилось земное небо? И возможно ли созидать лишь из желания созидать, а не по велению нового исторически выстраданного, художественно законченного единого образа? Вредный юноша брал с полки синий камень со звёздочкой – осколок церковного купола и передавал его другим архитекторам. Кто смотрел на осколок равнодушно, кто сожалеюще, а у кого и слёзы выступали на глазах. Отец резко отвечал юноше, что нравственный его максимализм похвален лишь в том случае, если юноша знает, что противопоставить прежнему разрушению! Если нравственный максимализм его обеспечивается талантом, волей и верой в новый единый образ, в готовность его выстрадать. Ибо лишь из готовности выстрадать рождается положительный идеал искусства. Следовательно, сам того не замечая, отец начинал говорить директивным тоном – кредо всякого честного художника – увы! не все художники борцы! – должно быть таким: что бы ни происходило, надо жить и работать! Жить – и работать! Не надо позволять слезам по минувшему застилать глаза, такими глазами не увидеть будущего! Если же юноша этого не понимает, то его красивые слова – пустая болтовня, таких болтунов отец перевидал на своём веку множество…
Полуночные споры не знали исхода…
И всё равно отец раздражал Андрея. Раздражали его привычки, оставшиеся прежними. Например, барабанить пальцами по столу. В результате многолетнего барабанничества пальцы у отца уподобились сухим барабанным палочкам. Тревожный рассыпчатый стук вдруг разносился по квартире, и Андрей каждый раз вздрагивал. Не правилось ему и то, что отец каждое утро делает зарядку и каждое утро стыдит его, Андрея, за то, что тот зарядки не делает. Не нравились ему и задумчивые взгляды, которые отец время от времени бросал на него, когда, как ему казалось, Андрей этого не замечает. Андрей же замечал всё. Затаённая грусть сквозила во взглядах отца и некоторое даже любопытство. А иногда он принимался расспрашивать Андрея, что за ребята с ним учатся, чем вообще нынче интересуются молодые люди, чувствуют ли, какие широчайшие перспективы открываются перед ними, ведь всё недоброе осталось позади и теперь им жить и строить новую жизнь? Как хочется, говорил отец, сбросить годков тридцать и начать жизнь заново! Неужели вы, молодые, не чувствуете, спрашивал отец, что ветер перемен наполняет паруса? Что, поймав этот ветер, можно нестись к звёздам… Андрей молчал, потому что не желал и не мог доверить отцу то, чем жил, – иное. Для отца с его прямолинейными, обнажающими голую суть мыслями иное попросту не существовало – Андрей это чувствовал. Если он резко обрывал вредного юношу, так убедительно и тонко философствующего об архитектуре, сводил всё к примитиву – необходимости жить и работать, то что для него иное? Дурь, блажь, галиматья! Андрей ненавидел отцовскую прямолинейность, бежал от неё, как от разящего меча. Именно с подобной прямолинейностью иное вело незримый бой, накапливало силы, и Андрей верил, что его иное рано или поздно окажется сильнее своего антипода – отцовской прямолинейности. Пока же Андрей уходил от разговоров с отцом, не желал думать о ветре перемен. Две страсти – к Анюте и к рисованию – переполняли его. Пусть себе ветер перемен гуляет где-то там, за горизонтом. Андрея несёт к звёздам не этот сомнительный ветер, а иное!
Пока же прочь уносились последние майские дни. Светило солнце, и так быстро летело время, что Андрею казалось, сквозь глаза, сквозь пальцы скользит солнечная пряжа дней. Набегало лето, а значит, разлука с Анютой…
Чем дальше, тем своеобразнее становились их отношения. По-прежнему спокойна была Анюта, по-прежнему неистов был Андрей. Поцеловав Анюту два раза в тёмном прохладном подъезде, он решил, что отныне это станет правилом, однако жестоко ошибся. Анюта всячески избегала поцелуев, демонстрировала чудесную гибкость и ловкость, в совершенстве овладела мастерством грациозного выскальзывания и неожиданного исчезновения. И всё равно, какое наслаждение было общаться с Анютой, видеть её в движении, просто надеяться на поцелуи! За один только поворот её плеча, за рассеянно блуждающий в ресницах золотистый взгляд Андрей отдал бы всё на свете. Идя на свидание с Анютой, он как бы приподнимался над собой, становился выше ростом, сильнее. Приступы страха, овладевавшие им поначалу у белой беседки, больше не повторялись. Иное, иное шепнуло Андрею, что ничто отныне не угрожает ему со стороны беседки. Это было, естественно, необъяснимо, но всё, к чему прикасалось иное, уходило из-под власти логики.
Поначалу, правда, Андрея слегка смущало упорное молчание Анюты, но потом перестало смущать, Андрей вскоре привык, что говорит всегда он, а Анюта лишь смотрит на него золотистыми глазами и слушает. Никогда ещё не было у Андрея такого благодарного слушателя. До донышка, почти до самого иного открывал Андрей Анюте свою душу. Белый волк, гениальный старец Леонардо, книги в тяжёлых, пахнущих временем переплётах, горький и сладкий дым над свечой под стеклянным потолочным окном, созерцание небесных звёзд, наконец, внезапное рисование – обо всём, обо всём поведал он Анюте. И странное дело: казалось бы, неизбежную опустошённость должен был он чувствовать после этих откровений, а не чувствовал! Вроде бы правду говорил Андрей, но одновременно творил, придумывал, возносил очередные воздушные замки, и наступал момент, когда фантазия, процесс творения заменяли правду. Уже тогда начала закрадываться мысль, что не всем людям дано мучиться правдой, есть счастливцы, свободные от правды, возносящие воздушные замки, сами возносящиеся в воздушных замках, сами сотворяющие правду. Но вот загадка: казалось бы, ближе должны были становиться они с Анютой после этих вдохновенных откровений, а не становились. Более того, некоторую даже скованность в движениях Анюты замечал Андрей, что было почти что признаком отчуждения. «Уж не изначально ли она прямолинейна? – пугался Андрей. – Видит ли она что-нибудь, кроме того, что видят её золотистые глаза? Что мешает ей меня понимать?»
– Я неприятен тебе? – спросил однажды Андрей, прервав очередной монолог.
Анюта покачала головой.
– Тогда почему ты всё время молчишь? О чём думаешь? Почему… ничего о себе не рассказываешь?
– Но ты же всё время сам говоришь, – улыбнулась Анюта. – И потом, что я могу тебе рассказать?
– Хорошо, – сказал Андрей, – я сейчас закончу, а ты начнёшь, ладно?
– Я не знаю, о чём говорить, – ответила Анюта. – Не бывает, чтобы сразу два человека одинаково интересно говорили. Всегда кто-то один говорит, а другой слушает. Так вот, лучше уж буду слушать я… А говорить… Я не знаю, что тебе говорить.
– Но почему?
– Не хочу – и всё! – раздражённо сказала Анюта. Потом смягчилась: – Может быть, когда-нибудь потом… Попозже. Видно будет.
Андрей обещал себе, что со следующего раза начнёт вести себя по-другому. Но… всё почему-то продолжалось по-старому. Анюта оказалась права: ей как будто свыше была предназначена роль слушательницы.
С мыслями об Анюте Андрей засыпал, с мыслями об Анюте просыпался. И снилась ему тоже Анюта. Это напоминало детство, когда отец однажды привёз восьмилетнему Андрюше заграничный кольт-пугач – произведение игрушечного искусства. Во-первых, тяжёлый, как настоящий кольт. Во-вторых, никелированный, с воронёной ручкой и красным пощёлкивающим барабаном. О, каким восторгом отзывались в маленьком сердце эти тугие фиксирующиеся щелчки! В-третьих, прилагалась к кольту мягкая замшевая кобура, на которой был вышит чёрной строчкой крадущийся индеец с перьями на голове. Андрей засыпал, ощущая щекой лежащий под подушкой кольт, просыпался – и сразу же нашаривал его, стискивал в руке…
Теперь же хотелось стиснуть Анюту в объятиях, чтобы она пискнула, изогнулась как змея, почувствовала наконец его силу, уронила бы ему на руки свои тяжёлые волосы, прикрыла золотистые глаза, позволила бы себя поцеловать… «Да… Но как можно сравнивать живую Анюту и какую-то никелированную болванку?» – испугался было Андрей, но… тут же успокоился, потому что чувство собственной неправоты было ему неведомо. Точнее, он был знаком с ним по книгам, там бесконечно мучились, а то и кончали жизнь самоубийством герои, однако Андрея как-то не очень трогали их страдания, он в них не верил. Все теоретически допустимые переживания насчёт неправоты Андрей безоговорочно занёс в разряд книжных, наколол как красивую бабочку на булавку. В жизни Андрею почти не доводилось принимать решений, брать на себя ответственность, то есть оказываться правым или неправым. Он, как по воздуху, перемахнул через этот первый в жизни человека камень преткновения, даже его не заметив. Андрей просто-напросто не знал, что побуждает человека мучиться: прав он или не прав, а посему жил и мыслил, как если бы всегда был прав…
«Неужели Анюта… игрушка? Пусть! Она сама виновата, что я так её воспринимаю. Я хотел бы по-другому, но она сама виновата!» – Андрей вздохнул, смиряясь с новыми мыслями. Вот во что вылилось её необъяснимое, упрямое молчание, нежелание целоваться и откровенничать! Кому, кому поверял он самые сокровенные свои мысли? Кому открывал до донышка, почти до самого иного душу? Неужели игрушке, кукле, способной лишь двигаться с нечеловеческой грацией, хлопать золотистыми глазами, но не способной ничего понять?
«Так почему она всё-таки молчит? – рассуждал, бестолково слоняясь по комнате, совсем как подсмотренная некогда в бинокль женщина, Андрей. – Почему она слушает, что я говорю, а сама молчит? Или же её душа чиста, как белый лист, и ей просто нечего мне рассказать, или же… она молчит, потому что ей неинтересно, что я рассказываю? Вдруг ей кажется, что мои волнения и страсти смехотворны, что они бушуют в некой вымышленной пустоте, то есть никоим образом не связаны с реальностью, а для неё реальность, сиюминутное бытие – всё… Другого ей не дано! Или же… она боится, что если разоткровенничается, то я узнаю нечто такое, что… Что мне лучше не узнавать, нельзя узнавать! – Андрей гнал эти мысли. Слишком уж нелепым выглядел он при таком раскладе со своими воздушными замками. Но сомнения закрадывались. – Какого чёрта… – Андрей грозил кулаком кожаным корешкам книг, рисункам, гипсовой голове античного мыслителя. – Вы меня напрасно терзаете, обманываете, подсовываете какую-то несуществующую жизнь, когда вон он, настоящий мир! – кивал за окно. – Когда всё происходит там, а не в этой дурацкой комнате, – стучал себя по голове, – не в этой дурацкой башке! Да к чёрту всё! Надо затащить Анюту домой и… Ну что, что ты на меня уставился! – Взгляд падал на голову античного мыслителя. – В том, что происходит там, – опять кивал за окно, – ты уже не можешь разобраться! «Всё едино суть! Всё едино суть!» – бубнишь как попугай. А суть не едина! У меня одна суть, а у Анюты какая-то другая. Анюта, Анюта… Боже мой, каким, должно быть, идиотом ты меня считаешь?! Наверное, думаешь, что же такое плетёт этот идиот, какие такие Леонардо да Винчи, белые волки? Как можно говорить с ним о чём-нибудь серьёзном?» – Андрей сгорал со стыда.
Так, в чередовании самовозвеличивания и самоуничижения, летели его дни…
Но был ещё брат Анюты – смешной круглоголовый Володя, который в тяжёлую минуту бросился на помощь Андрею, размахивая дубиной. В общем-то, благодаря ему Андрей как бы вышел из драки победителем. Но вопиющей этой очевидности Володя почему-то не заметил. С того дня прошло некоторое время, но всякий раз, когда Володя смотрел на Андрея, восхищение светилось в его добрых серых, как туманное лесное утро, глазах. Володя, наверное, думал, что Андрей каждый день совершает подвиги. Андрей поначалу этого восхищения не понимал и всё ждал какого-нибудь подвоха. Но потом перестал ждать, привык и уже удивлялся, если Володино восхищение было недостаточно энергичным. На следующее же утро после драки в парке Андрей ощутил на себе уважительные взгляды одноклассников. Миф о его неслыханной ловкости носился в воздухе. Володя в красках живописал, как Андрей обратил в бегство орду хулиганов. Многие одноклассники изъявляли желание познакомиться с Андреем поближе. Бледный незаметный отличник превратился в героя. Прежняя тихая незаметность Андрея засияла. В её тени угадывались другие подвиги, неизвестные одноклассникам. И Володя неожиданно засиял в лучах Андреевой славы. Он и раньше был всем хорош, лишь в одном качестве как-то не проявился – в качестве преданного друга. Володя сразу же повёл себя так, словно их с Андреем давно уже что-то объединяло, сразу же стал другом номер один, сразу же стал чуть-чуть смешным в этом новом для себя качестве – следил ревниво, чтобы другие одноклассники не претендовали на дружбу с Андреем. Андрей, до сих пор ни с кем ещё не друживший, не привыкший к подобному отношению, слегка растерялся.
– Давай сидеть за одной партой? – предложил Володя.
Андрей согласился, потому что прекрасно понимал – недолгой будет его популярность в классе, а вот Володя – настоящий друг, он – надолго. Но пока популярность ещё была, Андрей небрежно смахнул на пол портфель своего прежнего соседа, расчистил место для Володи.
– Садись!
Это был один из самых счастливых дней Андрея, даже Анюта отошла на второй план.
Вернувшись после уроков домой, Андрей попробовал повторить знаменитый удар ногами в грудь, прыгал до изнеможения, пытаясь попасть в обитую дерматином дверь, но ничегошеньки не получалось. Смешон был вспотевший, уставший Андрей. Гордо высилась коричневая дверь, так и не испробовавшая силы его удара.
Тогда Андрей порылся в отцовском письменном столе, похитил пачку сигарет в золочёной коробке. На перемене Андрей угостил ими одноклассников. Потянулись к коробке уважительные пальцы. Андрей закурил вместе со всеми и почувствовал, как сам взмывает куда-то с ароматным синим дымом. Уважения, почитания, признания – вот чего ему не хватало! Вот о чём тосковала душа!
Когда выходили из туалета, неожиданно встретили директора.
– Вы… вы курили? – воскликнул директор.
Все остановились, опустив взоры долу.
– Курили?
– Нет, что вы… Мы не курили… Нет.
– Как же нет? От вас табаком пахнет!
– Товарищ директор! – неожиданно произнёс Андрей. Ещё не знал, что скажет, но уверенность, что так надо, вела вперёд, иное руководило, а иному он доверял всецело. – Товарищ директор, мы не затягивались… – спокойно, уверенно смотрел Андрей прямо в директорские зрачки. И вместе с тем с победительной наглостью, как бы предсказывая директору, в какое глупое положение он попадёт, начни кричать, строжить, грозить…
– Ладно… – махнул рукой директор, – идите на урок, но если ещё раз замечу…
Синий дым, синий дым!
– Дружба? – спросил на уроке Володя Захаров и протянул Андрею руку.
– Дружба, – ответил Андрей, чуть помедлив.
– Ты за меня, я за тебя?
– Я за тебя, ты за меня, – повторил Андрей, прекрасно сознавая, что, независимо от того, будет ли он за Володю, Володя всегда будет за него.
Да, непохож был Володя Захаров на свою сестру Анюту! Анюта завораживала движением, небесные светила могли сверять ритм по её походке, Володина же походка напоминала движения подвыпившего возбуждённого человека. «Ну что ты, Захаров, ей-богу… – частенько говаривал раздосадованный физкультурник, так и не уяснивший до конца: прикидывается Володя, чтобы его позлить, или же в самом деле такой, – как снежный человек, ей-богу…» Класс хохотал, Володя не обижался. Действительно, причудлив и неповторим был его бег – животом вперёд, руки как на шарнирах, ноги, кажется, вот-вот подломятся, и упадёт, рухнет Володя, но нет! – круглая, тяжёлая, как гиря, голова держит тело в равновесии. Примерно такой же была и его походка. Ноги сами собой припрыгивали, словно Володя шёл по кочкам, а руки молотили воздух, словно он собирался взлететь.
Учёный грач Бисмарк жил у Володи дома на подоконнике. Пятьдесят слов знал Бисмарк, употреблял их, естественно, невпопад, а когда Володя разваливался отдыхать на диване, Бисмарк устраивался у него на груди и принимался чистить Володины ресницы. Этим Бисмарк доказывал Володе полнейшую свою преданность и расположение. «Ложись рядом, – как-то предложил Володя Андрею, – он, может, и тебе почистит…» – «Нет-нет, спасибо! – воздержался Андрей, представив внушительный, похожий на плоскогубцы, клюв Бисмарка в миллиметре от своего зрачка. – А Анюте он чистит ресницы?» – спросил Андрей. «Нет, – ответил Володя, – они чего-то не ладят».
Хомяк Трофим обитал у Володи под кроватью в попахивающем деревянном ящичке. «Трофим! Трофим!» – звал Володя, и Трофим неизменно появлялся, смешно кланялся, не расставаясь, однако, с капустным листом, прижатым к груди. «Я Трофима на снегу подобрал, – рассказал Володя. – Какие-то сволочи выбросили его прямо в коробке из-под обуви. Он почти замёрз…»
Длиннющая такса Дельта с умными печальными глазами жила у Володи. Её три года назад оставил у них сосед – одинокий штурман, уходивший в дальнее плавание. Но то ли корабль затонул, то ли что-то неладное случилось со штурманом, в общем, он не вернулся. Когда Дельта залегала под кровать, ложилась поперёк, морда торчала с одной стороны, тонкий, похожий на крысиный, хвост – с другой.
Володя мог разговаривать с «братьями меньшими» как с людьми, а мог и на их языке. Что было странно: они понимали его и так и так. Володя каркал как грач; посвистывал как хомяк, томно и сладострастно мяукал – откликались с высоких крыш вожделеющие коты, взволнованно бубнил – заинтересованные голуби, склонив головы, семенили сзади. Старинный позолоченный Брем – два года Володя копил на него деньги! – теснился на полке, и ветерок из окна, словно белые волосы, перебирал торчащие из каждого тома многочисленные закладки. Последние три месяца Володя не завтракал в школе, теперь уже экономя деньги на покупку пары волнистых попугайчиков. Свет вспыхивал у него в глазах, когда Володя общался с животными, лицо становилось одухотворённым, и Андрей понимал, это Володина душа светится и трепещет. Ему даже становилось не по себе: не оборотень ли Володя, не прикидывающийся ли простачком колдун? Привыкнув мыслить книжными категориями, требующими известной изощрённости, Андрей воспринимал ближних, как если бы они были героями романа, полного страстей, интриг, соперничества. Андрей недоумевал: почему так прост Володя? Почему так однозначен – преданный друг, и всё! Почему верит всему, что он, Андрей, говорит? Почему не желает рассчитать его поведение хотя бы на два-три хода вперёд? Андрей догадывался, что простота эта вовсе не от отсутствия ума, а от какой-то иной точки его приложения. По-видимому, то, что Андрей полагал важным для себя, для Володи было совершенно неважным. Что волновало Андрея до безумия, оставляло Володю спокойным. Андрей редко чувствовал себя свободным и нескованным, всегда, каждую минуту что-то представлял, что-то изображал, Володя же был самим собой, был свободен и, как иногда казалось Андрею, смотрел на него с жалостью: «Куда ж его, сердешного, на сей-то раз качнёт?» А ещё Андрею казалось, что Володина простота и свобода, сродни ласковой улыбке их дачного сторожа. Одинаково ласково сторож улыбался всем!
Всякий раз, приезжая на дачу, Андрей не уставал дивиться этому. Никогда не замечал Андрей, чтобы хоть что-нибудь вывело старика из себя. Улыбаясь, добрым мягким голосом сторож сообщал отцу, что на даче всё в порядке и что местные хулиганы, забравшись в сад, вытоптали клубнику, поломали яблони. Одинаковыми словами разговаривал с отцом, с министром, однажды пожаловавшим к ним на дачу, с алкашом, случайно запоровшимся в сад, вздумавшим поваляться на цветах. Иногда Андрею хотелось встряхнуть сторонка за плечи, спросить: «Старик! Ты жив?» Но он не делал этого, потому что знал: ответа не будет. «Ведь дошёл до нас гипсовый античный мыслитель, – говорил себе Андрей, – дотащил своё тысячелетнее «Всё едино суть…». В конце концов это их право – старика сторожа и античного мыслителя – жить по-своему, не согласовывая свою философию со мной…» Одинаково добрым покачиванием головы сторож отвечал на всё, что ему говорили. Так же, добро качая головой, внимал солнечному свету, дождю, шелесту деревьев. Не изменилась бы, наверное, его реакция и в случае землетрясения, наводнения, конца света. Следовательно, не делал старик различия между человеческими словами и языком природы. Что те такое было ему известно о людях? Какое жуткое потрясение уравняло, причесало под одну гребёнку в его глазах человеческий мир? Сколько раз, наблюдая это доброе покачивание головой, Андрей думал, что старик вовсе не вслушивается в слова, в то, что ему говорят, а внимает чему-то иному, лишь ему известному, что, быть может, первичнее человеческих слов. Из слов можно вылепить что угодно, а это иное предстаёт каждый раз перед ним во всей своей вечной неизменности, неколебимости, и поэтому старик сторож лишь бессильно и добро покачивает головой, словно китайский болванчик. Что в сравнении с этой, известной ему, вечной неизменностью воздушные человеческие слова, какое они имеют значение, сегодня в одних и тех же устах одни, завтра совершенно другие?
Что-то похожее читал Андрей и в глазах Володи, серых, как туманное лесное утро. Читал и поражался: неужели Володя, разгадывающий души зверей и птиц, не может разгадать его, Андрея? «Что за охота Володе обманываться во мне?» – не понимал Андрей. Потом неожиданно понял: всегда, всю жизнь человек обязательно должен в чём-то обманываться. Иначе не бывает.
«Но ведь я… – повеселел Андрей, – не хочу, совершенно не хочу ни Володе, ни Анюте, ни кому бы там ни было причинять зла! Даже наоборот! Всем хочу добра! Значит, не так уж Володя во мне и обманывается…» Андрею показалось, он понял Володю. Да, тот, конечно, читает души, но совсем не так, как Андрей. Одно и то же может им открыться, но по-разному оно в них отзовётся. Андрей попытался перевоплотиться: интересно, каким увидел его Володя?
Андрей представил себя лесным всеведом, незримым обитателем соловьиных рощ и смешанных прибрежных лесов, сверяющим мысли по крику чаек, по трубному вою оленей. Окинул себя взглядом с этой Володиной вершины. Точно солнечный луч сквозь дырявые облака, прошёл взгляд сквозь прочитанные книги, воздушные замки, сквозь белую пену чужой мудрости. Лёгкой, подчиняющейся любому дуновению, плавающей без руля и без ветрил оказалась пена… А дальше, под ней, кобальтовая вода, природно-тёмная, но пока ещё ничем не омрачённая. «Это иное, иное, которое никто не может разглядеть, красит воду в кобальт», – подумал Андрей.
Но не безмятежной была вода. Сверлили её невидимые течения, волновало иное. Это они заставили Андрея впрыгнуть в чужое окно. По их воле он затеял неравный бой возле беседки. «Но ведь этого мало! – думал Андрей. – Что же, выходит, пока я… никто и ничто? Точнее, неизвестно что? И Володя это понимает? И… дружит со мной, потому что только лишь надеется, что я настоящий? Подчиняется мне лишь из одной этой веры-надежды? Так что за охота ему во мне обманываться?
Андрей вдруг ощутил себя весами, находящимися в состоянии абсолютного равновесия. Пуста чаша добра. Пуста чаша зла. А над чашами бьются невидимые демоны. И Володя верит, что добрые одолеют… – Володя, Володя… – вздохнул Андрей, ощущая уже некоторое своё превосходство над другом, над необъяснимой его зависимостью от этой веры-надежды. – Ах, Володя… Да, ты свободен, но ты слишком прост, увы, Володя, ты прямолинеен! Ну почему я не знаю языка зверей и птиц? Может, тогда мне что-то бы в тебе открылось… Такое, что… ну смогло бы поставить нас рядом… Почему лишь язык мечтаний да неутолённых страстей мне понятен? Я не различаю, где мои собственные страсти, а где придуманные? Где я, а где не я? Володя, Володя… Неужели ты не чувствуешь, воздух полон страсти?! Воздух жжёт, воздух холодит, воздух возвышает и повергает в отчаянье! И всё это воздух, воздух… Пустой воздух, но он мне дороже реальности! Володя, Володя…»
Андрей понял и ещё одно своё различие с Володей. Тот жил спокойно, не впадал в трансы, принимал всё как есть, то есть созерцал житейскую мудрую истину как некую сумму правил бытия, повседневно. Она, должно быть, уже примелькалась ему в серенькой своей одежонке. Лишь звери да птицы выводили Володю за круг житейской истины.
Андрею же житейская истина никак не давалась. А если изредка и давалась, то обязательно как противоречие, обязательно в виде откровения – в громе и сверкании молний. Повергала ниц или же, наоборот, возносила, заставляла переосмыслить всё сразу. Каждый раз Андрей как бы начинал жизнь заново. Но это длилось недолго. Вскоре он снова оказывался в плену чужой мудрости, несуществующего белого волка, прочитанных книг.
В Андрее не было ясности.
Володя же всегда был прост и ясен.
Какое удовольствие доставляли Андрею их вечерние и ночные беседы у него дома! Книги на высоких стеллажах сливались в сплошную тёмную массу, напоминали отвесные прибрежные скалы, от которых отчаливает на утлом судёнышке отважный мореход. Темны, смутны были поначалу мысли Андрея. Но как изощрённо, вдохновенно он врал! И всё вдруг прояснялось! Отвратительный и пленительный демон лжи охотно подставлял свои скользкие крылья… Дикий буйный плющ вранья вплетался в каждую фразу, в каждую историю, рассказываемую Андреем.
– Видишь эту бутылку, Володя? – спрашивал Андрей, показывая облепленную землёй и опилками бутылку рома без этикетки, которую накануне отец вытащил из дачного подвала, чтобы поддержать тонус краснодеревщика, реставрировавшего у них в квартире старые шкафы. – Это особенная бутылка, Володя! Дедушка был на Филиппинах, гулял по берегу океана, прибой вынес её ему прямо под ноги… Наверное, этому рому лет триста!
– Рому? Почему рому?
– Конечно, рому! Что ещё тогда пили моряки? И-хо-хо и бутылка рома, пятнадцать человек на сундук мертвеца! Ты посмотри, какая пробка, какой вензель…
Пробка и вензель действительно были нездешние, но, даже если бы там было написано «Росвинпром», Володя всё равно бы не усомнился в словах Андрея. Это пробка лжёт, а друг всегда говорит правду!
А обманщик-демон только расправлял крылья, только пробовал: упруг ли воздух, хорош ли ветер… Хоть и коварна, изощрённа его наука – врать, – но всё же висел бы над ним страх разоблачения, если бы… кто-то другой был на место Володи! Андрея выручало сомнительное вдохновение, почерпнутое из чтения непонятных книг, рисования мистических парусников. Достовернее правды становилась в его устах ложь, ибо правда, можно сказать, нищенствовала, жила в долг, ложь же щедро оплачивалась звонкой монетой фантазии.








