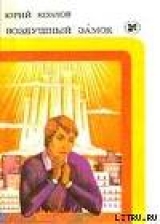
Текст книги "Воздушный замок"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Воздушный замок

…Ночью прошёл дождь, и молодые весенние листья яростно зазеленели. В каждом листике, в каждой ветке, в каждом стволе неистовствовала жизнь, отчего деревья едва не пускались в пляс. Но они были вынуждены стоять недвижно, закованные в асфальт, внимая лишь ветру, его лишь трепетно призывая. Ветер же был редким гостем в каменных городских лабиринтах. Деревьям оставалось смотреть вниз – на мокрый дымящийся асфальт, на лужи в бензиновом оперении – в них отражалось серое с редкими просветами небо, на машины, веером разбрызгивающие лужи, на людей с зонтами и без зонтов, спешащих по двору. Самым обыкновенным, дождливым, следовательно, было утро. У всех тикали на руках часы, но никто, глядя на циферблат, на шевелящуюся, подобно тараканьему усику, секундную стрелку, не скорбел по безвозвратно уходящему времени. И в этом тоже заключалась обыкновенность утра.
Один Андрей в данный момент предавался горьким, но одновременно весьма успокаивающим размышлениям, что века, культуры, эпохи и, конечно же, сами люди проходят, исчезают вместе со временем. Андрей, к примеру, не понимал тех, кто восхищался старинными развалинами. Развалины казались ему каменными шрамами на коже земли, глядя на них, он думал, сколь безнадёжно и неостановимо смертны люди. Развалины, по его мнению, уместнее было считать надгробными памятниками схлынувшим поколениям. Можно было скорбно стоять пред ними, но только не восклицать, что они прекрасны. Мысли Андрея скользили накатанным путём в глубь истории искусства, в частности архитектуры. Как этажи на лифте, как костяшки на счётах, отщёлкивались эпохи и стили. Однако же не гениально обращённый углом к зрителю Парфенон, не блистательный античный канон красоты принесли успокоение, а несколько далее отстоящая в веках крито-микенская культура, об архитектуре которой Андрей как раз писал научно-популярную статью. В ней он высказывал весьма и весьма спорную мысль о загадочной абстрактности крито-микенского искусства, его странной и удивительной для древности отрешённости от земных забот. Письмена, на каждом шагу сопровождающие памятники египетского или вавилонского искусства, здесь определяющего значения не имели. Это давало повод Андрею утверждать, что крито-микенское искусство было относительно свободно от исторических воспоминаний. Скульптуры, фрески зачастую вообще были лишены пояснительных текстов. Предпочтение отдавалось чисто изобразительным мотивам, но опять-таки изображения не передавали никаких событий, а как бы являлись выражением внутренних переживаний творца. Субъективные и, возможно, неправильные эти рассуждения породили у него некий обобщённый образ крито-микенской культуры; ему виделось дитя, резвящееся в райском саду, не помышляющее о разрушении и смерти, не задумывающееся, что есть жизнь вообще…
Мысли эти пронеслись в одну секунду, и Андрей подумал, что вряд ли его статья о крито-микенской архитектуре, даже если он её закончит, увидит свет. Он посмотрел на небо. Солнечные лучи ощупью искали дорогу сквозь небесный мрак. Некоторые прорывались, и словно в косую свето-теневую линейку был расчерчен проспект. В одних домах вдруг вспыхивали отражённым светом окна и жестяные карнизы, в других они оставались тёмными. Андрей неожиданно подумал, что не видит во всём этом единства, связующей нити, благодаря которой живая стихия природы и мёртвая металла и камня образуют окружающий мир. Это напомнило ему годы, когда он только начинал работать в архитектуре. Андрей сдавал проект, где, как ему казалось, была связующая нить, было единство. После десятикратных переделок на последнем этапе он уже не узнавал своего детища. Его идея как единое живое целое не существовала, была расчленена, лишь отдельные её частицы дёргались, словно лягушачьи лапки на лабораторном столе. Был, казалось, единственный выход – скомкать, разорвать проект, но это было бы странно, потому что все переделки, поправки, изменения вносил поэтапно сам Андрей. Таким образом, находился второй выход: не препятствуя воплощению в камень, мысленно отказаться от проекта. Получить деньги и забыть о нём.
Вот и сейчас, скажи он кому, кто не видит единства окружающего мира, потому что единство – это всегда выстраданная идея, идея же, как свидетельствует история человечества и скромный опыт любого человека, в том виде, в каком она пришла в чью-то, пусть даже гениальную, голову, существовать не может, обязательно будут поправки, переделки, так сказать, подгонка под текущий момент, его бы вновь сочли безумным. Нет, образ дитяти, играющего в райском саду, положительно нравился Андрею. Архитектурные сооружения той эпохи ему хотелось сравнить с облаками. Их причудливые очертания парят в воздухе, пронизанные светом и красками, легко движутся, не разделяясь на несущие и несомые конструкции…
…А накануне вечером темно и неуютно было за окном. Шумел ветер, швыряя в окна пригоршни капель. Сама тревога, казалось, неслышно бродит среди холодных мокрых деревьев.
За ужином жена сказала Андрею:
– Ты должен проводить завтра дочь в школу. Я поеду с утра в поликлинику, не знаю, когда вернусь.
– Дочь? В школу?
– Ты, наверное, забыл, – усмехнулась жена, – она заканчивает восьмой класс. Завтра первый экзамен, представляешь, как она волнуется?
– А чего ей волноваться?
Вопрос этот не понравился жене. Взгляд её сделался строгим, каким он делался всегда, когда речь заходила о благе дочери. Считалось, одной матери дано ведать, в чём оно, это благо.
– Ты… Ты… – Много лет уже жена каждую фразу в разговоре с ним начинала с этого утвердительного «ты». «Ты, ты, здравствуй», – произносила она, возвращаясь с работы. «Ты… до свидания», – уходя куда-нибудь. Это свидетельствовало, что всё в мире для жены начиналось с него, Андрея. Когда-то ему приятно было это сознавать, нынче же нагоняло тоску.
– Да-да, конечно, провожу, – спохватился Андрей, – обязательно провожу. Могу даже подождать, пока она сдаст экзамен.
– Не надо ждать, – с достоинством (в дочери она как бы уже видела себя: гордую, строгую) ответила жена. – Ты проводи, и всё.
– Хорошо.
Разговор, однако, ещё не закончился. Андрей понял, теперь жене не нравится, что он не смотрит ей в глаза. Подобно воспитателям прежних лет, жена полагала, что прямой, чистый взгляд свидетельствует о прямых, чистых помыслах. И наоборот. Андрей уставился жене в глаза.
«Ты. Тебе нет дела до дочери. Ты даже забыл, в каком она классе! Неужели забыл?» – горько пожаловались глаза жены, не замечая его иронии.
Андрею это казалось игрой. Когда-то интересной, необходимой, потому естественной, как определённая игра для определённого возраста. Тогда это, собственно, была даже не игра, а жизнь. Но сейчас… Игра, к которой привыкла жена – в мысленные разговоры, – была для Андрея настолько морально, что ли, устаревшей, как если бы его вдруг заставили играть в казаки-разбойники. Когда-то их мысленные разговоры действительно были общением. Сейчас Андрей только делал вид, что общается.
«Что ты! – Он постарался придать взгляду самую искреннюю заинтересованность. – Разве я мог забыть? Всё прекрасно помню. И про дочь, и про всё не свете… Да! И главное, про тебя! Про тебя! Просто что-то устал в последние дни».
«Ты устал. С чего бы это? – попыталась перейти в наступление жена. – Уж не от популяризаторских ли своих статеек об архитектуре? Вот уже год, как ты ни за что серьёзное не брался. С чего это тебе уставать? О чём ты вообще думаешь, чем занимаешься? Или… Или… я уже для тебя чужая? Мы с Машенькой для тебя чужие?»
Андрей поспешил прервать немой диалог. Одно и то же воспоминание многолетней давности преследовало его. Вот он танцует на институтском вечере с женой – тогда, впрочем, ещё не женой, а просто знакомой девушкой – стройной, в платье с воздушными рукавчиками. Андрей приглашает её и стыдится – наверняка он стеснит её своим неумением танцевать быстрый фокстрот. Но… что это? Почему у неё такая тяжёлая поступь? Она наступила Андрею на ногу, словно гиря упала! Раз, другой! Впервые, помнится, поразился он забавному противоречию: кажущейся лёгкости и тяжёлой, как у грузчика, поступи. Девушка – тогда ещё не жена – смотрела на Андрея преданно, совершенно не замечая собственной неуклюжести и отчасти даже искупая её этим взглядом.
…Сосредоточенно и тщательно Андрей намазывал масло на хлеб, словно не было на свете дела важнее. Подчёркнутое внимание к предмету, в повседневной жизни совершенно заурядному – бутерброду, – убедило жену, что общению с ней муж в данный момент предпочитает пустые механические действия.
Она вздохнула.
Этот вздох слышался Андрею к сейчас, когда он шёл с дочерью по подземному переходу – длинному темноватому туннелю. Машинально пересчитывая тускло светящиеся плошки вдоль кафельной стены, Андрей понял, почему ему слышится именно этот – вчерашний – вздох жены. Подобных – горьких, отчаянных, сожалеющих, усталых, смиренных – вздохов немало было и раньше. Но раньше ничего не рассказывать жене, не объяснять – это было совершенно естественно, не требовало ни малейших усилий. Андрей даже не думал, что держит расстояние, отстаивает какую-то свою независимость. Дитя, играющее в райском саду, попросту не помышляло о тревогах жены. Тревоги эти, следовательно, не существовали. Жена, конечно, чувствовала и пыталась прорваться сквозь необъяснимое отчуждение, но дитя, играющее в райском саду, не понимало человеческого языка, где чистота порывов частенько смазывается чем-то суетным, житейским. Лишь одно домашнее существо находилось в полном духовном контакте с Андреем – чёрная спаниелька Габи. Лишь на ней отдыхал взгляд и душа Андрея, ибо Габи ничего не выясняла, не требовала, но только беззаветно любила. Любовь к хозяину составляла сущность Габи. Всяческие наступления на ногу здесь исключались, и такую любовь дитя, играющее в райском саду, почему-то не отвергало.
Опасаясь ожесточить мужа непрерывными выяснениями отношений, жена отступила. В их отношениях будто бы установился покой. Но излишне говорить, что, как и всякая женщина, жена не могла успокоиться, не уяснив собственного значения и места в загадочной мужниной меланхолии. Стена вздохов, слёз, печальных взглядов, таким образом, опоясала райский сад.
Вчерашний вздох жены был неприятен Андрею тем, что являлся следствием некоего никчёмного холодного ветра, который в последнее время всё чаще проникал в райский сад, тревожил Андрея. Выбраться из сада значило для него окунуться в хаос, в разрушительные раздумья, вновь стать уязвимым для тоски и горя. Значило, наконец, предстать безответным перед жизнью: перед фактом, что последний год псу под хвост, последний год – странное оцепенение, совершенно не хочется работать и вообще… Значило взглянуть на себя глазами близких и испытать смятение не только за себя, но и за них – за жену и дочь – ведь он всё-таки глава семьи! Поистине это означало изгнание из рая!
Когда-то Андрей прочитал у писателя Платонова, что жизнь есть движение человеческого горя. Андрея никак не тронуло это утверждение, потому что тот, кто в раю, не думает о горе. Он подумал тогда, что жизнь, вероятно, движение чего-то другого. Быть может, неосуществлённых человеческих мечтаний. Или страха. Или стёртых, однообразных человеческих чувств. Или одновременное взаимопроникающее движение лжи и правды. Сейчас, поднимаясь с дочерью из подземного перехода, откуда до школы было рукой подать, Андрей придумал ещё одно определение жизни: движение сомнения, тотального сомнения – в себе, в окружающем мире, да в чём угодно, даже… в собственном рае! Однако он тут же почувствовал, что столь высокое обозначение сомнения к истине его никак не приблизит, ибо немедленно подвергнет сомнению не только истину, но и все предшествующие размышления. Искать тут истину всё равно что строить дом во время землетрясения.
Андрей огляделся. Они уже свернули с проспекта и шли, по едва зеленеющей аллее. Влажная после ночного дождя земля, казалось, подрагивала. Оттого, что листья на ветках были маленькими, ветки тоненькими, стволы по-весеннему прозрачными, аллея казалось худенькой и гибкой, как девочка-подросток. Над аллеей светлело небо, и солнце набирало высоту, разгоняя пелену утреннего тумана.
Неожиданно Андрею стало жаль себя, совсем как в отрочестве, когда, казалось, необъяснимая враждебность разлита в окружающем мире, всё – против, и нет места, где можно спрятаться, укрыться. Нынче же в сходной ситуации достаточно было просто переложить невидимый регистр, и всё личностное, тревожащее проецировалось на вечное и независимое, будь то историческая эпоха – какие-нибудь милые сердцу Андрея древний Крит или средневековый Прованс, будь то даже современная жизнь. Эта жизнь: Москвы, природы, окружающих людей – могла оказаться в единой тональности с мыслями Андрея, и внутреннее переживание становилось всеобъемлющим, обретало размеры галактические, некий всеобщий смысл как бы открывался Андрею. Но бывало и по-другому. Жизнь текла в упоении от своей изначальной силы, и Андрей казался себе бабочкой, прилепившейся к крыше поезда. Что может осмыслить бабочка? Теряясь перед этой, изначальной силой, Андреевы мысли растворялись, разлетались на атомы, лишались смысла. Но в любом случае наступал покой. В независимой жизни, следовательно, точно так же, как и в природе, заключались забвение и спасение. Сейчас она бесстрастно свидетельствовала, что на дворе май, весна, что грядёт тёплый и влажный день, что лёгкий ветерок будет гнать по Москве-реке рябь, что впереди свобода – пей её, сладкую, пенящуюся, пей, наслаждайся!
Однако желанный покой что-то уж слишком долго не наступал. Андрей чувствовал себя загипнотизированным, бессильным перед злой волей, выгоняющей его из рая. Никчёмный холодный ветер всё настойчивее подталкивал к краю. Творческий отпуск заканчивался у Андрея через месяц, но при желании его можно было продлить, так что приближающееся завершение отпуска причиной ветра никак быть не могло. Андрей подумал: надо выпить, и тогда мнимые причины развеются сами собой. В последнее время полюбился коньяк. Входя в винный магазин, глядя на этикетки-символы, вызывающие яркую гамму ощущений, он закрывал на секунду глаза и почти физически ощущал, как делает глоток терпкого армянского «Ани», если, конечно, сей редкий напиток имелся в наличии. Вакхическое древнее тепло, рождённое от дубовой бочки и виноградного спирта, волнами поднималось от согретого желудка к голове.
А когда-то Андрей знавал иное опьянение, куда более сильное, чем нынешнее. То опьянение, напротив, совершенно исключало спиртное, было принципиально другого свойства. Стимулировалось не извне, а изнутри. Андрей просыпался в шесть утра, и сам вид пробуждающегося города, синее небесное шевеление, истлевающая на глазах ночная паутина, но главное – разложенная на письменном столе работа, книги, утренняя чашка кофе, ощущение безграничности собственных сил, непререкаемая уверенность, что ему подвластно в этой жизни, а точнее, в работе, которую он наметил, всё, – вот что пьянило сильнее вина. Андрею казалось, он может загипнотизировать солнце, одной своей волей заставить его светить ярче. Кто был молод и у кого хватало в молодости страсти и терпения работать, тот знает, что это за опьянение.
Андрей взглянул на дочь, шагающую рядом. Как-то странно: он одновременно помнил и не помнил о ней. Губы сжаты, взгляд напряжённый. Неужели так волнуется из-за экзамена? Пожалуй, жарковато ей в длинном вязаном пальто, вон как раскраснелась. Пальто, судя по всему, было непременной частью образа, которым в настоящее время жила дочь. Сегодня она надела бы его и в тридцатиградусную жару. А через две недели, возможно не наденет больше никогда. Дочь шагала рядом в очаровательном несовершенстве пятнадцати лет. Андрей казался себе ослом, потому что если и было что-то подчёркивающее несовершенство, так это его присутствие. Жена, как и всякая мать, наивно идеализировала дочь. В проводах на экзамен необходимости не было.
Она шла чуть впереди. Со спины это была божественная девушка: золотистые пышные волосы, едва колеблемые ветром, лежали на плечах, и талия, и переход к едва наметившимся бёдрам, и жёлтые сапожки с посверкивающими декоративными шпорами. А если смотреть в профиль, то прежде всего в глаза бросался локон, такой спешной, такой неизъяснимо детский, что невольно возникала мысль: а давно ли, собственно, обладательница локона перестала играть в куклы? Давно ли задвинула ногой под кровать ящик с игрушками? Золотистая трепетная подковка на нежной щеке выдавала девочку, капризничающую по утрам, шуршащую по пути в школу шоколадными обёртками, стыдливо скрывающую страсть к сказкам и мультфильмам. Спереди же локон был не так заметен. Главенствовали глаза – непроглядно синие, какими иногда бывают тучи перед сильнейшей грозой. Вот-вот заблещут молнии, гром расколет небо. Предсказуемая, но неуправляемая стихия.
Андрей вспомнил, как однажды оказался с дочерью на концерте какого-то английского певца – худого длинноволосого маньяка, которому, как явствовало из программки, было шестьдесят лет, но который скакал по сцене словно мальчик. Певец неистовствовал, пытаясь расшевелить зал, однако какая-то робкая публика собралась на том концерте – ему лишь слабо подхлопывали. Отчаявшись, певец, крича и танцуя, бросился между рядами. От него испуганно отворачивались, в лучшем случае натянуто и недоверчиво улыбались. Андрей и дочь сидели как раз в начале ряда, и певец, прыгающий по красному ковровому проходу, оказался прямо перед ними. Андрею сделалось неловко, когда тот, наклонившись, запел им в лицо. «От возраста на убежишь», – рассеянно подумал Андрей. Глубокие морщины, склеротические узоры вокруг глаз свидетельствовали, что певец – дедушка. Вдоль морщин катились капли пота. Андрею даже стало жаль певца. Дочь же, напротив, не испытывала ни малейшего стеснения. К изумлению Андрея и к бешеному восторгу певца, она вдруг стала подпевать в микрофон, а когда песня закончилась и зал зааплодировал, вытащила из отцовского портфеля бутылку рислинга, купленную Андреем час назад, и вручила певцу. Необычный этот подарок привёл певца в совершеннейший восторг.
«Маша, Маша…» – только и успел прошептать Андрей. Дочь была представительницей нового неведомого племени, не знающего изначального испуга, необъяснимого внутреннего запрета, живущего в согласии с собственными эмоциями и не задающего себе в каждом конкретном случае вечного вопроса: «А можно ли?»
Смотреть на шагающую рядом дочь было, конечно, приятно. Мысли о крае, к которому подталкивал никчёмный холодный ветер, отступали. Однако Андрей вдруг осознал, что и Маша, и её внутренний мир, синий, предгрозовой, – всё это ему неведомо. Ясность их отношений была миражной. Заглянув в глаза дочери, он почувствовал зависть и некоторую печаль. Какими, должно быть, свежими, тугими виделись ей образы весны. Молодые глаза, молодое время года. Андрею показалось, её зрение передалось и ему… Мокрая трава на газонах, суета голубей, ранние голубые цветы у бетонной ограды, крохотные прозрачные капельки на листьях, на асфальте, на жёлтых сапожках, на вязаном пальто дочери. Даже на декоративных латунных шпорах увидел Андрей капельки внезапно обострившимся зрением. Всё было натянуто как струна, готовая запеть. И хотя Андрей понимал, что натянуто не для него, всё равно ощутил себя очень молодым, в воздухе почудилось дыхание земли, пока ещё голодной и нежной, только-только изготовившейся к цветению. Запах был знакомым до головной боли, Андрей вдыхал его когда-то давно, в детстве, когда сам существовал в синем предгрозовом мире. Но тогда к чистому запаху земли примешивалось что-то ещё. Но вот что? Андрей не мог вспомнить.
Зато вспомнил, как несколько дней назад, возвращаясь домой, увидел два силуэта на скамейке в скверике. Худой весенний месяц робко выглядывал из-за туч. Некая вековечная игра шла между силуэтами. Парень всё наклонялся к девушке, девушка всё отстранялась от парня. Андрей замедлил шаги, Ещё до очередного наступления парня понял, что поцелуй состоится. Но… теперь решительность читалась в силуэте девушки. В парне же, напротив, смятение. Не чувство уже вело парня, но воля, железная нацеленность. Андрей подумал: вот сидят они на скамейке и сами толком не знают, как всё получится. Он же просто идёт мимо и уже всё знает. Горечь прожитых лет внезапно ощутил Андрей, словно дымом пахнуло в глаза. Но удивительно: не мимолётной была горечь, не просто возраст напомнил о себе. Странное посетило чувство, что ведь это тогда давно, в том возрасте, произошло нечто, предопределившее как рай, так и намечающееся изгнание из рая, предопределившее всю его жизнь. Тугие, свежие образы весны вдруг куда-то исчезли.
Тогда он не ошибся. Два тёмных силуэта слились в один, потом резко разделились. Девушка отошла от парня. Парень остался сидеть. Черкнула спичка, осветила его умиротворённое лицо. Походка удаляющейся девушки показалась слишком уж знакомой. Андрей приостановился. Худенький месяц мелькнул в тучах. «Да это же Маша! Моя дочь!» – заволновался Андрей, испытывая внезапную растерянность, нежелание верить собственным глазам, собственную невластность над происходящим. «Не она… Мне показалось…» – успокаивал себя, шагая к дому. С Машей Андрей столкнулся возле лифта. Конечно же, в скверике на скамейке была она.
– Я думал, – сказал ей тогда Андрей, – у меня ещё впереди годика два спокойной жизни.
– У тебя? – внимательно посмотрела на него Маша. – Двести двадцать два! И разве… – заговорщически наклонилась, – что-то намечается, что может нарушить твой покой?
– Вроде бы, – ответил Андрей, – кое-что кое-кем намечается… по вечерам на скамейках.
– Ну, папа! – воскликнула Маша. – Ты меня разочаровываешь. Я не вижу здесь ничего, что могло бы угрожать твоему покою.
– А что ты здесь видишь?
– Так… Ничего. Чепуху.
– Да, но я…
– А вот это уж нет! – неожиданно твёрдо ответила Маша. – Нет! И всё.
– Как ты со мной…
– Вот так! И не делай вид, что обиделся. Нет, нет и нет!
Кроме всего прочего, жену и дочь роднило упрямство. Жена упрямо стремилась к Андрею, дочь упорно, стремилась прочь.
В тот вечер они больше не разговаривали.
– Маша, – тронул он её за руку сейчас.
– А? Что? – Взгляд дочери метнулся в сторону газона, где росла одинокая липа с иссечённым чёрным стволом. Под липой стоял парень. Заметив Андрея, он сначала отступил за ствол, потом выглянул с другой стороны.
Вот она, главная причина предэкзаменационного волнения! Конечно же, это был другой парень, не тот, который умиротворённо покуривал в скверике.
– Папа, ты можешь меня дальше не провожать…
Не было стеснения в синих глазах дочери, лишь нетерпение и удовлетворение, что нестриженый голубчик томится, выглядывает из-за дерева. У Андрея сжалось сердце в предчувствии грядущих тягостных объяснений – не с дочерью, с женой! – когда она будет внушать, что его отцовский долг уберечь дочь от сомнительных соблазнов, пресечь эти поздние возвращения, эти легкомысленные телефонные разговорчики… «А ты сама? – по-видимому, спросит Андрей у жены. – Береглась в её возрасте сомнительных соблазнов?» – «Да. И тебе это известно лучше, чем кому-либо другому», – с достоинством ответит жена и, уходя из комнаты, непременно наступит Андрею на ногу.
«А вот я не берёгся, – подумал Андрей, – мне тогда вся жизнь казалась сплошным соблазном. Как бы я хохотал, если кто-то посоветовал мне беречься сомнительных соблазнов…»
– Послушай, Маша, – сказал дочери, – ты…
– Да-да, – ответила она, – я всё знаю.
– Хорошо, – вздохнул Андрей, потрепал по руке дочь. – Возможно, в последнее время я… как-то мало уделял тебе внимания и всё такое, но всё же… Хотя бы потому, что я твой отец, что я старше, я… должен, должен сказать, прошу тебя, будь умнее…
Дочь смотрела на него с любопытством.
– Я тебя дальше провожать не буду, – остановился Андрей. – Собственно, ты и… не хочешь… Ну, ни пуха ни пера!
– К чёрту! – немедленно ответила дочь. – И ещё это… спасибо.
«Меня – к чёрту!» – усмехнулся про себя Андрей. Пошёл обратно. Не выдержал, оглянулся. Однако же парочка словно в воздухе растворилась. Вдали белело здание школы, куда стекались экзаменуемые, Заливистый звонок потревожил голубей и воробьёв. Хлопая крыльями, бешено чирикая, пронеслись они над аллеей, будто тоже опаздывали на какой-то экзамен. Андрей задумчиво смотрел вслед птицам. Прежде из райского сада дочь была почти что неразличима, а сейчас и вовсе пропала – независимая, неподвластная и, видимо… потерянная.
…И вновь он одновременно помнил и не помнил о дочери. Было печально сознавать, что он уже никогда не будет стоять за деревом, пряча в рукаве сигарету. И сердце у него не забьётся при виде одноклассницы в вязаном или каком-нибудь другом пальто. Андрей вообще не помнил, когда последний раз резво билось у него сердце, когда чувство пересиливало мысль, когда хотелось безумствовать. Но странной была печаль! Не по юной свежести чувств, не по первым неловким поцелуям печалился Андрей, а по чему-то иному, куда более существенному – не то упущенному, не то отвергнутому в далёком славном возрасте, по тому самому загадочному нечто, столь удивительно повлиявшему на всю его последующую жизнь. Если и можно было предотвратить нечто, то только тогда, давно… Не умом, но памятью души – внутренним переживанием – Андрей вспоминал, каким сам был в возрасте дочери, одновременно чувствуя, как истаивает сладкий райский сад, как концентрируется у затылка ледяная пустота. Из прошлого, из прошлого, следовательно, веял никчёмный ветер, и Андрей вспоминал сказку, где во имя победы добра над злом герой забирался на высокий-высокий утёс, отыскивал волшебное яйцо, разбивал его, доставал иголку, ломал иголку – и только тогда погибал какой-нибудь Кащей Бессмертный или Змей Горыныч. Андрей давно рассудил, что подобная иголочка имеется в каждом человеке. Приходит час, и человек пытается отыскать её в самом себе, сломать. Но вот нужно ли это ему, Андрею? Что изменится? Время не обернётся вспять, жизнь заново не начнётся. После изгнания из рая придётся вернуться: к жене, постоянно наступающей на ноги, не понимающей, почему это её высокая добродетель не спасает мира в семье; к дочери, готовой драться за абсолютную свою независимость; к работе как средству прокормить семью, позолотить жизнь. Андрей едва удержался от соблазна горько посожалеть, что что-то когда-то его согнуло, какая-то, скажем, сделка с совестью, трусливое примирение с действительностью, в результате чего на весь оставшийся век – конформизм, внутренний надлом, перерождение таланта. Но ничего этого не было: никакие привходящие обстоятельства не трансформировали его волю, всё в жизни Андрей делал сознательно, всегда поступал, как сам считал нужным. Иголку следовало искать не здесь…
Живя спокойной, размеренной жизнью, Андрей как-то не думал о прошлом, понятия не имел о загадочном нечто. Однако двойственное впечатление от сегодняшнего утра: с одной стороны, намечающееся изгнание из рая, а с другой – неистово синие глаза дочери, золотистая подковка на щеке, смелое нетерпение, парень, прячущийся за липой, – всё это пробило брешь в невидимой броне. Краешком ума Андрей постиг ещё одно – сотое, тысячное? – свойство времени: насмешливую зеркальность – видеть, чувствовать, как другие переживают то, что с тобой уже никогда не случится. И необъяснимое его коварство – для чего искать иголку, когда в принципе всё хорошо, спокойно, налажено? Подобно чистому дыму струилась бы печаль, если не проклятое нечто. Раньше (даже вполне искренне), сетуя на жизнь – ох, в какой, мол, век живём, на волоске подвешено человечество, а следовательно, и вечные добродетели человеческие обветшали: всё нынче обрело материальное измерение, жив гнусный принцип «ты – мне, я – тебе», – трудно, ох, трудно! – Андрей в глубине души был спокоен: да-да, всё плохо, ну а ему-то… лично ему… хорошо, всё есть, всё в порядке, и не надо, совершенно не надо ему другой жизни…
Андрей подумал, что последние годы живёт в гармонии со временем.
Чужие страсти не трогали Андрея, волновались где-то там, за горизонтом.
– Андрюша, тебе скоро сорок, – сказала однажды жена, – посмотри на себя в зеркало.
– Зачем?
– Время баюкает тебя, как любимое дитя. Ты уже лет десять совершенно не меняешься. Кстати, в солнечный день… а? Обрати внимание…
– На что? На что я должен обратить внимание в солнечный день?
– На тень. Может быть, у тебя уже нет тени? – засмеялась жена. – Ты заложил душу? Почему ты не стареешь?
Андрей пошевелил пальцами в свете лампы. Словно два огромных таракана поползли по обоям тени!
– Я шучу, – сказала жена.
– Тень, – пробормотал Андрей, – тень…
Слово было мягким, как воск, бессильным, как лопнувшая тетива, одним лишь слогом «те» жила в нём память о былом напряжении. «На первый взгляд странно, – подумал Андрей, – что заложившие душу лишались именно тени, куда резоннее было лишать их телесной оболочки, то есть превращать в тень… Хотя кому тогда бы пришла охота уступать бессмертную душу? Какая радость быть бесплотной тенью? Наверное, здесь, как и во всём, извечная двойственность: тело лишается тени, а душа тела, то есть утрачивает кровную связь с происходящим…»
– О чём ты думаешь? – заботливо спросила жена. В глазах её читалась готовность разделить с мужем любую думу.
– Меня пугает слово «тень»… – прошептал Андрей, наблюдая, как тревога в глазах жены сменяется недоумением, а потом и недоверием, неужели муж опять её дурачит?
…А далёкие берега минувшего между тем обретали реальность, в их извивах возникали и пропадали знакомые с детства лица. Андрей подумал, что, припоминая какой-нибудь эпизод, он и понятия не имеет, какой тогда был год. Время давно утратило для него безликое календарное исчисление. Другие вехи свидетельствовали о времени. Сейчас, вглядываясь в них, Андрей дивился их произвольности, необязательности, не мог разобраться: следствие ли они проклятого нечто или же, напротив, призваны его замаскировать – отвлечь, увести Андрея по ложному следу.
Вот откуда, например, замшевая куртка?
…Ах, какая была куртка! Почти невозможной казалась она в Москве во второй половине пятидесятых, когда угрюмые серые тона доминировали в одежде, когда полосатый свитер, башмаки на толстой подошве, неведомый доселе шейный платочек казались немыслимым и угрожающим новаторством. Однако же у Андрюши куртка имелась – французская, мягкая, замшевая, цвета бискайского песка, подобная лионскому бархату на ощупь.
Не только над модой, но как бы над самим укладом тогдашней жизни приподнимала куртка, маячили за ней некое избранничество, полёт – одновременно страшноватый и сладостный. Никелированные пуговицы ловили солнце, хмурились в плохую погоду вместе с небом. Десятый класс тогда заканчивал Андрюша, и даже уроки садился делать в куртке: попишет-попишет в тетрадь, а потом зачем-то пощупает рукава куртки, почему-то именно там была самая мягкая, ласковая замша.








