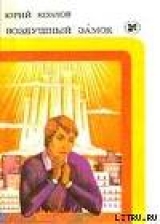
Текст книги "Воздушный замок"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Множество курток перебывало впоследствии у Андрея, однако не доводилось ему более испытывать столь страстного, почти физического наслаждения от обладания вещью. Возникла даже мысль, что определённая пустота в душе была заполнена в тот момент, ибо наслаждение, как полагал Андрей, – это именно заполнение пустоты, над которой человек не властен, утоление жажды, где каждый выбирает напиток по вкусу, и по тому, каковы наслаждения, можно судить и какова душа человека.
Сейчас, спустя много лет, постаревший, давно уже измеряющий всё на свете такой удобной и универсальной единицей, как собственное благо, Андрей подумал, что слишком, уж запомнилось ему ощущение той радости, стало как бы эталоном. Многие последующие радости по куда более достойным поводам не шли в сравнение с той курточной, потому что имели естественные человеческие пределы, в то время как курточная была беспредельна. И только сейчас Андрей понял – почему. Она была первична, с неё, как с фундамента, росло его здание, и неудивительно, что именно она стала одной из вех. Андрей даже смутился от странного этого открытия, как если бы вдруг многосложный какой-нибудь расчёт обернулся примитивной задачкой на внимательность, серьёзная шахматная партия закончилась детским матом.
В далёкий солнечный день отец, ведущий архитектор, вернулся из Франции, достал из чемодана и бросил ему через всю комнату диковинную куртку. Ещё не знал Андрей, что именно бросил ему отец, а сердце уже билось и подсказывало: «То, что надо! То, что надо!» Мгновение всё, что было до куртки, казалось несущественным, всё, что после, – ясным, осознанным. Но память сейчас не хотела ясного, осознанного, тянула туда – под фундамент. Андрей понял: там прячется загадочное нечто. Удивился предательскому свойству памяти – в чувствах, как бы и не тронутых тленом времени, в красках, в мельчайших подробностях преподносить давно минувшие, осознанно забытые картины. И не утешиться было великой строкой: «Где стол был яств, там гроб стоит…» И в мнимом гробу, и под фундаментом загадочное нечто, оказывается, лишь спало летаргическим сном, ныне же зачем-то протягивало сквозь годы бесплотные, призрачные руки.
Андрей вспоминал, что за жизнь была у него тогда. В квартире, окнами выходящей в парк. На даче из красного кирпича. Не многие его сверстники могли похвалиться такой жизнью. Дача окнами первого этажа смотрела в сад и лес, точнее, в лес сквозь сад, но Андрей тогда не замечал леса, потому что жизнь казалась ему охраняемым, ухоженным садом. Второй этаж был без окон, зато со стеклянной крышей. На втором этаже находилась отцовская мастерская. До вечера дневной свет плескался в мастерской, ночью же отец почему-то предпочитал работать при свечах, и часто, взбежав наверх, видел Андрей два трезубца со свечами на огромном, как поле, столе, отца, склонившегося над чертежами и рисунками. Едва колеблющиеся язычки огня – две жёлтые бабочки – отражались в тёмном окне-потолке. Звёзды небесные словно посылали им привет с бессмертного неба. Когда отца не было на даче, Андрей любил сидеть ночью в мастерской при свечах. Просто так, без дела. Странное родство свечи и звёзды небесной открылось тогда Андрею. Душа смутно волновалась, звала куда-то. Но не понимал Андрей – куда? Не знал, что с ним будет, кем станет. Безмолвствовало на этот счёт ночное небо…
Мечтаниями и одиночеством была тогда полна Андреева жизнь. Не было матери. Только выцветшая фотография в довоенной кожаной рамке. Коротко стриженная девушка с резкими чертами лица, в кофточке с отложным воротничком. Андрей лишь знал, что её звали Вера, она была студенткой в институте, где отец был преподавателем. Во время войны ехала на поезде, попала в бомбёжку. Погибла.
– Как же ты отпустил её одну? – спросил Андрей у отца.
– Видишь ли, – ответил отец, – к тому времени мы уже не жили вместе. Я узнал, что она погибла, только после войны.
– А почему вы уже не жили вместе? – поинтересовался Андрей.
– Мне кажется, – на лице отца появилось выражение какого-то незабытого отчаяния, – она чересчур серьёзно относилась к некоторым вопросам теории градостроительства.
– И всё?
– Её курсовая работа принципиально противоречила господствующим в те времена взглядам, я бы даже сказал, законам.
– Как же так? – удивился Андрей. – Она была студентка, а ты преподаватель и её муж. Почему она тебя не послушалась?
– Тогда была особенная молодёжь, – усмехнулся отец, – и твоя мать была типичной её представительницей. Когда её исключили, она уехала на стройку куда-то на Украину.
– А я?
– Видишь ли, тогда дети не казались чем-то таким, что… ну может, что ли, привязать женщину к мужу, к дому.
– И ты не искал её?
– Нет, – твёрдо ответил отец.
Сколько ни вглядывался Андрей в резкие черты на фотографии, не мог ощутить родства с этой девушкой, не мог поверить, что он её сын. Девушка могла быть студенткой, работницей, героем, кем угодно, но… не матерью! До школы за ним смотрели нанимаемые няни, а потом никто. Андрей не знал материнской любви, следовательно, не испытывал сыновней. Отношения же с отцом… О, это были с самого начала совершенно мужские отношения.
Жизнь без матери, вечно занятый отец, многолетнее одиночество – всё это не могло не влиять на отношения Андрея со сверстниками. Все десять классов он был отличником, но до девятого класса у него не было друзей. В школе от первого до последнего звонка жизнь вынужденная, необходимая, за стенами школы – на улице, в парке, а главным образом дома и на даче – начиналась жизнь истинная, в мечтаниях и одиночестве, среди воздушных замков и карточных домиков. Какие прихотливые зато были замки, какие домики многоэтажные. Властелином вселенной воображал себя Андрей, сидя дома в – кожаном отцовском кресле с гнутыми, точно шеи лебедей, ручками. Ночью же, на даче, в мастерской, где вместо потолка чёрное, смотрящее в небо окно, иллюзия вселенского владычества была полнейшей. Даже звёзды, казалось Андрею, вспыхивали и гасли по его желанию. От неба к книжкам метался Андрей, от книжек к небу. Так и текла его жизнь…
Однако в четырнадцать лет странный морозец начал прихватывать душу. Красочный книжный мир больше не насыщал. Мушкетёры, капитан Немо, король Артур и рыцари Круглого стола; Абенсеррахи – другие, уже мавританские рыцари, некогда отвоевавшие, а потом шаг за шагом уступившие христианам Гранаду; неизбежные Айвенго, Квентин Дорвард, Роб Рой; меланхолические, русские душою рыцари Бестужева-Марлинского – вся романтическая, бесстрашная компания прискучила. Подвластные некогда звёзды превратились в напоминание об одиночестве, теперь уже неугодном. Шагая вечером но улице, Андрей старался не смотреть в небо.
Он по-прежнему много читал. Но уже другие книги. Там было всё непонятно, и это было сродни глядению в ночное небо, где каждому различим хаос звёзд, а вот стройные хоры созвездий – единицам. Андрей читал разных философов, не зная основ философии, лишь смутно угадывая, что каждый философ хочет по-своему объяснить мир, читал эстетику Возрождения, зная из всего Возрождения лишь три имени: Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Дождь новых имён обрушился на него, но лишь звукосочетаниями да бессмысленными совпадениям удивляли имена – например, Николай Кузанский, это же почти что Колька Кузинский, который учился в параллельном классе и у которого Андрей однажды сменял сломанные настольные часы на парусничек в синей бутылке. Колька утверждал, что парусничку триста лет. А вот на бутылке Андрей потом с огорчением обнаружил трещину… Чтение непонятных книг, граничащее с безумием поглощение страниц давали неизъяснимое наслаждение прикосновения к миру титанов, гениев – миру, где – Андрей был в этом твёрдо уверен – заключено и его будущее. Ему творить и жить наравне с титанами. И хотя будущее пока было неясным, но чем больше книг он прочтёт – и в этом Андрей был уверен! – тем скорее оно прояснится, тем скорее обозначится звёздная дорога к вершинам. Это тоже была своего рода игра, но игра особенная. Из непонимания, незнания, из механического прочтения рождалось некое подобие знания, его мимолётное зеркальное отображение, ибо так горда была молодая душа и так впечатлителен молодой мозг, так жаждали они насыщения, что были готовы питаться чем угодно, в том числе самыми недоступными книгами. В кажущейся недоступности материала, в плавании по книжному морю, следовательно, и заключалась игра, когда среди застилающих горизонт волн незнания вдруг вставали дивные острова с воздушными замками, вознаграждавшие Андрея за долгий труд. В такие минуты ему казалось: одно какое-то изречение, одна выхваченная из контекста мысль дают волшебный ключ к пониманию всего; казалось, горькая стариковская мудрость как бы пронизывает, и было даже не по себе: как жить с этой мудростью, как смотреть на людей, когда ты всё про них знаешь. «Не следует умножать сущности без необходимости», – изрёк английский логик Оккам. Мудрость оказывалась одновременным движением и готовностью в любой момент остановиться. Слова англичанина запомнились Андрею. Точно так же запомнилось, что вечная природа, по Леонардо да Винчи, оказывается, бесцельно творит один и тот неё образ, а время так те бесцельно разрушает творимое. Всеразрушающему времени можно противопоставить лишь вечность искусства. Искусство, таким образом, возвышается, по Леонардо да Винчи, над философией, потому что только в искусство человек имеет возможность подчинить своей воле действительность, разрушающее время. Ночью при свете настольной лампы листал Андрей старинную книгу о Леонардо да Винчи, вглядывался в воспроизведённые на пожелтевших вкладках рисунки, чертежи, схемы, в написанные тайным зеркальным почерком строчки гения. Кровь пульсировала в висках. Нет, не знаний всё-таки искал Андрей в бесстрастных буквах авторского повествования. Знания как раз не так уж волновали Андрея. Иное рождалось для него на этом вот пергаментном листе, где раскинула руки обнажённая женщина. Груди её почему-то напоминали спелые, размягчённые снизу осенние груши… Паутина цифр, неведомых слов вокруг. А в углу в тёмный клубок сбились зеркальные строчки, как грозовая туча. Здесь же чьи-то глаза набросал гениальный Леонардо. О, как жгли Андрея эти словно вчера нарисованные глаза! Незаконорожденной сестрой знания было иное. Повторяя знание внешне, совершенно искажало его суть. Не улучшить мир трудом призывало, а возвысить, противопоставить всему на свете собственную слабую душу. Чтение, таким образом, отнюдь не являлось для Андрея средством познания. Не работы для души искал он в чтении, но наслаждения. А может ли из наслаждения родиться истинное знание? Нет, только иное! Впиваясь взглядом в жёлтую страницу, Андрей словно постигал некое изначальное, независимое от воли и желания человека значение жизни, огненно-холодной, как эти глаза, кричаще-бесстрастной, как эта страница. Словно в бездну проваливался Андрей, словно летел куда-то, надменно скрестив руки на груди.
Именно тогда впервые открылось ему сладостное чувство свободного полёта души, когда он как бы ощущал себя вне сущности, вне времени. Истинное знание воспитывает ум и душу, предполагает каторжный труд и только потом полёт. Иное дарует полёт сразу. Но не вверх – вниз! «Искусство, – бормотал в исступлении Андрей, – значит, лишь оно одно… И работа, и наслаждение, и всё сразу, и вверх, и вниз… Значит, лишь там мне будет… Что будет? Значит, лишь там я смогу… Да что? Что смогу, как и где? Лишь там, лишь там свобода… Один путь, одна возможность, альтернатива…» – вспоминал серьёзное умненькое слово.
Не зная зачем, наверное, чтобы подольше не расставаться с книгой, не менять её сладчайший яд на вековечные сновидения подростка, переписывал Андрей дрожащей рукой дневник Леонардо да Винчи: «Кажется, мне судьба с точностью писать коршуна, поскольку одно из моих первых воспоминаний детства – как мне снилось в колыбели, что коршун открыл мне рот своим хвостом и несколько раз ударил меня им по внутренней стороне губ».
Воспоминания гения, столь непохожие на воспоминания в обычном значении этого слова, покорили Андрея. «Значит, можно, можно… Вот так…» – словно в лихорадке шептал он. И грезилась белая веранда в скалах, опутанная зелёными верёвками плюща, грезилось синее, прокалённое насквозь полуденным солнцем небо, грезилась детская колыбелька, чёрный коршун над ней… Андрей в волнения бегал по комнате. Леонардо да Винчи – загадочный белый старик с густыми, словно дымящимися белыми бровями… Он был свободен, как никто не был свободен, всё было ему безразлично, потому что всё могло интересовать его в равной мере.
«А мне? А мне что за судьба?» – неистово вопрошал Андрей, вчитываясь в гениальные кокетливые строчки. И такой страсти был исполнен вопрос, такого нетерпения, такой гордыни, такой тоски, что не выдерживало воображение, и словно электричество бежало по жилам.
…Несуществующий, рождённый воображением, белый волк перелетал в прыжке на веранду дачи, где лежал в коляске маленький Андрей, заглядывал в коляску, и Андрей переживал ужас и ледяной восторг созерцания волчьих глаз. Лесная зелень переливалась в тех глазах, мерцала зимняя стужа.
«Леонардо… – шептал, отставив книгу, опустошённый Андрей. – Мы с тобой братья! Тебя просветил чёрный коршун, меня – белый волк, я чувствую, чувствую…»
…Примерно в это же время он подружился с братом и сестрой Захаровыми, Анютой и Володей – своими одноклассниками. Анюта, тоненькая, как ветка, светло-карие глаза светятся и кажутся золотистыми, тёмная лавина волос бежит по плечам, и непонятно, как эта маленькая точёная головка носит такую тяжесть? Нежный яблочный – а может, яблоневый, в нём явно присутствовали цветы! – запах сопровождал Анюту. Каждый раз вздрагивал Андрей, надкусывая яблоко, сразу же вспоминалась Анюта.
Разные таланты даруются людям. Анюте Захаровой было даровано совершенство движения. Томную плавность лебедя на воде, ловкую стремительность ласточки в небе сочетала в себе Анюта. Как не может бестолково и неразумно суетиться природа: дерево ли на ветру качается, поле ли пшеничное волнуется, лев ли грозно шествует по саванне – всё единственно, всё благородно, всё сродни солнечному свету, который не изменить и не исправить, – точно так же не совершала лишних движений и Анюта Захарова, словно вечным танцем была её жизнь. Как она поворачивала голову, сидя за партой! Как шла по школьному коридору! Как летела по улице, опаздывая на урок, обгоняя собственные волосы! Именно так, казалось, именно так и должны все люди поворачивать головы, именно так должны они ходить по коридорам и, опаздывая, лететь по улицам!
Брат же был почему-то неуклюж. Широк в плечах и круглоголов. Глаза у него были не золотистые, как у сестры, а серые, как туманное лесное утро. Рождённый и выросший в городе, он почему-то превосходно имитировал крики зверей и птиц. Таким вот редким и бесполезным для города талантом обладал Володя. Какая-то сдвинутая гармония отличала его от большинства одноклассников. Ею он как бы искупал физическую непривлекательность, которая, однако, в совокупности со сдвинутой гармонией уже и не воспринималась как непривлекательность. Всё в Володе было немного другим. Он был добр и прост, никогда не кричал, не говорил глупостей. Если что-то обещал, всегда выполнял. Ко всем, кто обращался к нему, относился с участием, какого, собственно, и ждут люди, обращающиеся к кому-либо за чем-либо. Но редко дожидаются… У Володи как бы отсутствовало личностное отношение к одноклассникам. Симпатии, антипатии, группировочки, разные мелкие подлянки – он был над этим, всем одинаково сочувствуя, всем желая добра. И выходило, что благодаря этому Володя оказывался единственной в классе личностью. И Андрей, безуспешно мечтающий о той непринуждённой свободе, с какой держал себя Володя, ревниво и быстро это понял…
Девочки дразнили Володю «уродом», однако же предпочли бы его любому из красавцев одноклассников. Так манили Володины доброта и простота запутавшихся во вранье, записках, телефонных звонках и свиданиях девочек.
Но что же Анюта? Золотистые глаза, совершенное движение, свидетельствующее о родстве с природой. Привыкнув повелевать звёздами, Андрей некоторое время мысленно повелевал и Анютой. Это ему светили золотистые глаза, для него ступали по забрызганному чернилами школьному паркету волшебные ноги Анюты. Но мысленное обладание утешало только на расстоянии, когда поблизости не было Анюты. Когда же она проходила по классу в нескольких сантиметрах от Андрея и яблочно-яблоневый запах нежно её сопровождал, или плавно, словно восковая, изгибалась на уроке физкультуры, или вдруг на улице ветер вздымал её юбку и Андрей видел высокие матово-смуглые ноги Анюты, мучение становилось нестерпимым. «Как же так? Почему Анюта не знает ничего о нём… Андрее!» Вспоминался белый волк, якобы перелетевший когда-то через перила на веранду дачи, вспоминались горящие глаза, нарисованные рукой великого Леонардо, чёрное небесное окно в отцовской мастерской, ночные отблески свечей – жёлтые земные бабочки… «Как же так? – страдал Андрей. – То вся моя жизнь! Как перенести в неё Анюту? Или… – дух захватывало – это мне надо переноситься, переселяться?» Получалось, полуночный звёздный мир совсем не влияет на реальный, где учителя ставят отметки и задают на дом задания, где происходят миллионы разных событий, где порхает между партами Анюта Захарова и нежный яблочно-яблоневый запах плывёт за ней…
Необходимо было действовать. Это угнетало Андрея. Так просто, казалось, было подойти к Анюте, заговорить с ней, но… стена, непреодолимая стена стояла между желанием и его осуществлением. Андрей понял: хватит повелевать звёздами, пора переселяться в реальный мир.
«Сохрани меня, белый волк, помоги мне, белый волк…» – шептал Андрей, шагая после уроков по парку домой. Кружным путём обычно он возвращался, дабы миновать белую беседку в центре парка, в сумрачной, нечистой глубине которой всегда наблюдалось недоброе шевеление, доносился матерный говорок, а иногда пара-тройка пацанов в надвинутых на глаза по моде тех лет кепках выскакивали из беседки, как чёртики из табакерки, после чего одинокий чистоплюй школьник, а иногда и студент-младшекурсник продолжали свой путь по парку униженные, с разбитыми физиономиями.
Всё это было Андрею известно, и он до времени берёгся ненужных испытаний. Но сегодня почему-то решительно направился в центр парка, прямо под сень зловеще белеющей беседки. Спроси кто: «Зачем идёшь туда, Андрюша? Зачем ищешь приключений?» – он бы не ответил. Шаг был твёрд, и глаза обнимали не только положенное им: парк, высокие кроны, небо в облаках, но и как бы заглядывали на несколько мгновений вперёд – в будущее, в жизнь. Там кровь струилась из ран, чернели синяки, враги скрежетали зубами. Там было страшно, там правил случай, точнее, даже крохотный осколочек случая – шанс, но сегодня Андрей верил в свой шанс, пуще всего боялся упустить его. Не здравый смысл, но иное руководило им. Иное заставило поверить в шанс, в то, что победа кажет сквозь кроны обманчивый лик.
Столь откровенно шагал Андрей на беседку, столь прямодушно напрашивался на мордобой, что одновременно скучно и тревожно стало парням в беседке. Скучно – потому что неинтересно это, удовлетворять чужие желания. Раз стремится человек получить по морде, значит, зачем-то ему это надо, но мы-то здесь при чём? Тревожно, потому что при первом взгляде на Андрея было ясно: человек решился на крайность. А такие люди всегда опасны, поскольку непредсказуемы. Так или примерно так рассуждали три бедовых головы в беседке. Тела скрывала решётка, а головы в кепках маячили над решёткой, как опята над трухлявым пнём, Только цыканье было слышно, да сплёвывание сквозь зубы, да шлепки видавших виды картишек.
Впритирку прошествовал Андрей, умышленно задев плечом одну из кепок. Кепка было вскинулась, но… поправилась аккуратно, взглянула на Андрея раздумчиво и… снова склонилась к картам.
– Ты хотел, кажется, что-то мне сказать? – остановился Андрей и, сжигая поспешно все мосты, уточнил: – Чуть не посмел что-то мне сказать, а?
– Я? – растерялась не ожидавшая подобной наглости, а главное, непривычного, почти что оскорбительного слова «посмел» кепка. – Я… – И… чуть было не струсила. Однако, вспомнив, что всё-таки их трое, успокоилась. – Я? – Нехороший огонёк засветился в её глазах. – Сказать… Толян! – немедленно подключила к беседе другую голову. – Как ты думаешь, Толян, что я хотел сказать этому… – некоторое время кепка, видимо, перебирала в уме нехитрый набор эпитетов, – этой… падле?
Вторая голова – Толян, то ли состарившийся подросток, то ли сохранивший подобие юности уродливый старичок, – сощурившись, обнажил чёрные зубы.
– Я думаю, – с исчерпывающей точностью обозначил ситуацию Толян, – ты ничего не хотел говорить падле. Падла сама тебе что-то сказала. Но теперь это уже не имеет значения…
Через секунду все трое стояли напротив Андрея и с интересом его разглядывали. Засаленные картишки остались лежать на скамеечке. Крестовая дама томно уставилась в беседочный потолок, а вокруг россыпь шестёрок, семёрок и восьмёрок, почему-то всё красных мастей, точно скамейка вокруг дамы забрызгана кровью.
Две головы были примерно одинакового с Андреем роста. В плечах, правда, несколько пошире. Одна из них, та, которая без возраста – Толян, – всё время кашляла и изощрённо поплёвывала. Андрей додумал, что и одет Толян как-то независимо от века и страны, такое всё на нём изначально мерзкое и серое. В какие угодно трущобы прежних лет и даже тысячелетий перенеси его, везде Толян окажется ко двору – вековечный представитель отрицаемого, но по каким-то причинам упорно продолжающего существовать «дна». Один плевок тем временем угодил Андрею на кончик ботинка, другой на коленку. Плевался Толян как снайпер. Третья голова пока хранила молчание. Это был высокий симпатичный парень, и чувствовалось, в данный момент он даже немного жалеет Андрея, потому что всё известно наперёд. Парень зевнул, похлопал рот ладонью, оттягивая неминуемое. Двое других, особенно Толян, бросали на него нетерпеливые взгляды. Андрей понял, этот – третий – здесь командует, и от него зависит, будут или не будут бить Андрея. А ещё, неизвестно, каким образом, Андрей понял, что власть у парня скорее внешняя, в непринципиальных вещах, когда дело касается куража. Истинная же власть, то есть направление, пружина, стратегия, – это Толян. Но по каким-то причинам Толяну выгодно, чтобы вожаком считал себя этот парень. Толян ему подчиняется, но фальшиво, держа в голове что-то своё, и как только пробьёт час этого «своего», Толян решительно возьмёт власть в свои руки, и с призрачным главенством парня будет покончено.
Красивым можно было бы назвать парня: тонкое лицо, густые тёмные волосы. Девочки по таким плачут. Вот только бешеные глаза выдавали натуру неистовую, то есть одинаково склонную к добру и злу. Смотря куда качнёт. Не различающую в момент неистовства, что есть добро, а что зло. Именно эта неистовость-то, догадался Андрей, и нужна подлому Толяну, именно на безрассудство и храбрость парня рассчитывает он в тёмных своих планах. Именно поэтому, ухмыляясь в душе, и подчиняется ему.
Андрей знал этого парня.
Как поезд, пронеслось воспоминание: недавний, совсем недавний приезд с дачи… Возвращались с отцом вечером. О, какая это была упоительная езда сквозь ночь, сквозь звёзды, сквозь огни города. Каким уютным, приспособленным для житья казался из окон мир. Совсем недавно, казалось, на даче среди тёмного сада обитал Андрей под крышей-окном, и трезубец со свечами слабо освещал контуры готических, венецианских, римских, конструктивистских и современных зданий на фотографиях и рисунках по стенам. Андрей закрывал глаза, напрягал память и вспоминал некоторые названия: церковь Сан Франческо в Римини, церковь Санта Мария делле Карчери в Прато, арка на площади Карусель в Париже, обсерватория в Потсдаме… Всё это осталось там, на даче, а сейчас – мягкая урчащая машина, огни, как кораблики, вплывают в ветровое стекло… Матовый, цвета слоновой кости руль едва скользит в руках шофёра – и машина покорна ему, как весь окружающий мир, покачивающийся на тёмных ночных волнах, в данный момент покорён Андрею. Где вы, страсти земные и боли? В подобные минуты одновременного мягкого покоя и стремительного движения Андрей ощущал всю радость и полноту бытия, невыразимую свободу, то самое чувство полёта – вольного, ни к чему не обязывающего, какое являлось следствием редкого и кратковременного душевного равновесия, частицей общего звёздного покоя и как бы ставило знак равенства между мятущейся личностью Андрея и блистающим и бессмертным ночным небом. Превыше всего в жизни ценил Андрей эти моменты. Душой становился возвышеннее и яснее.
Отец, как обычно, дремал на заднем сиденье, скрытый в тёмной глубине машины. Андрея слегка удивляла забавная отцовская странность – не сидеть важно спереди, как это делают все начальники, а мирно дремать на заднем. Рядом с шофёром всегда садился Андрей.
Вот и их двор, переходящий в парк, вот их подъезд – сплошные тёмные окна, только одно под самой крышей светится, да ещё одно на первом этаже. Возле этого окна и притормозила машина…
Бывают в жизни человека мгновения, когда, казалось бы, простейшие житейские наблюдения, эпизоды обретают вдруг глубочайший, вселенский смысл, обнаруживают неожиданно связь с тем, что вообще из века в век происходит в жизни и над чем отдельный человек не то что бы властен, но рано или поздно должен дать однозначный ответ: готов ли он всё в жизни принять, со всем примириться или нет. Уклончивость, самоустранение здесь равносильны трусости. Словно некая карта человеческого бытия в кажущемся хаосе доброго и злого разворачивается перед изумлённым одиночкой в масштабе эпизода, и в это-то горько-счастливое мгновение и надлежит одиночке занять собственное место на карте: либо пустить себе в сердце всю людскую боль, то есть вмешаться, поступить, как подсказывает совесть, либо же отвернуться, пройти мимо, промолчать – и уже начать жить по-новому. Сама жизнь, вечная, текучая, как бы смотрит в это мгновение в глаза человеку и ждёт…
Широко раскрытыми глазами смотрел Андрей в распахнутое по причине тёплого вечера окно на первом этаже. Там был круглый стол. За ним сидели: пожилой мужчина – лицо его трудно было рассмотреть из-за бутылки вина, стоявшей перед ним, женщина со скорбно поджатыми губами и, видимо, сын – этот самый скучающий тонколицый красавчик с капризным изгибом губ и бешеными глазами, друзья которого в данный момент обкладывали Андрея плевками, словно охотники волка красными флажками…
Жёлтый свет сочился из окна. Не знали, не ведали люди за столом, что кто-то их видит. Жгучее, неистребимое любопытство человека к людям вообще приклеило Андрея к окну. Всё происходящее там происходило как бы и с ним, только в другом каком-то измерении, так ему казалось. Это он, Андрей, человек, был в ответе за то, что там происходило, так ему казалось.
«Ну вот что, ублюдок, – тяжело сказал отец сыну, – надоело мне тебя бить, но, видно, ничего другого ты не понимаешь…» Дальше всё было быстро. Оплеуха сбросила сына со стула. В глазах у него вспыхнуло бешенство, и он крикнул отцу что-то такое, что отец совсем потемнел лицом, вскочил, сломал о пол стул и, держа в руке ножку, белеющую изломом, отшвырнул вцепившуюся в него мать и пошёл на сына. Первый удар пришёлся сыну в плечо. Он упал. В этот самый момент Андрей вцепился руками в карниз, ломая ногти, подтянулся, вскочил на подоконник, а оттуда прыгнул в комнату. «Не смейте! Не смейте!» – повис на занесённой руке. Воспользовавшись заминкой, сын поднялся, с ненавистью взглянул на Андрея, прошипел: «Откуда ты здесь такой взялся?» Потом крикнул по-дурному: «Задавлю! Всех задавлю!» – и выскочил из окна в ночь, в парк, равнодушно шумящий ветвями. Отец устало опустил руки. Не глядя на Андрея, подошёл к столу, налил себе вина. Мать всхлипывала. Андрей забрался на подоконник, спрыгнул во двор.
Вот этот самый, скрывшийся в ночи парень стоял сейчас перед Андреем и, к великому неудовольствию чернозубого Толяна, не спешил давать команду начинать забаву.
– Послушай, – будто бы что-то человеческое мелькнуло в глазах парня, – это ты тогда влез в окно?
Андрей молчал.
– Ты с четвёртого этажа. Твой папаша приезжает на чёрном лимузине? Чего ты молчишь?
– Так-так… – закривлялся, захихикал Толян, – начальничка, значит, сыночек… – и истерически взвизгнул, – а я вот пролетарского происхождения, у меня мама уборщица, а папанька без вести пропал! Что ж я перед тобой, падлой, на коленочки должен? Ай пожалей, ай не засади!
– А ты бы зубки почистил! – прошептал Андрей, чувствуя, как свинцовой становится кровь, как наливаются свинцом лицо, плечи, руки, кулаки. – Кто же тебя с такими зубами в лимузин-то пустит…
– Ты лучше о своих побеспокойся, – взвизгнул, чернозубый. – Тебе-то уж нечего будеть скоро чистить!
Незаметно образовали они вокруг Андрея треугольник. Двое уже с неприязнью посматривали на красавчика, которого Андрей недавно выручал в жёлтом окне. Он по-прежнему держал руки в карманах, глядя куда-то поверх деревьев, и не мог Андрей разобрать, что там у него в глазах.
Не желая, чтобы кто-нибудь из них оказался сзади, Андрей отпрыгнул, налетел спиной на беседку.
– Делай его, Толян! – крикнул красавчик, но уже было поздно.
Случился эффект пращи. Спружинив о беседку, вложив всю силу летящего тела в удар, Андрей сокрушил чернозубого кулаком, ощутив, как сдвинулась под ударом его челюсть. Сразу стало веселее. Слишком уж была отвратительна мысль, что его будет избивать именно этот чернозубый недоносок. Однако тут же две вспышки слева и справа охладили пыл, это синхронно сработали два других парня. Чернозубый скулил, путаясь под ногами, с превеликим трудом поднимаясь.
– Что же ты такое делаешь, падла? – растерянно спросил один, медленно опуская руку в карман. – Теперь же придётся тебя…
– Меня? – чуть не задохнулся от ярости Андрей, такими дикими, нелепыми показались слова. – Единственной, бесценной его жизнью будет распоряжаться гнусная кепка! – Меня… Придётся… Что же ты такое посмел сказать? – отходя, заворожённо глядя на руку, погружённую в недра кармана, Андрей было оступился. Но слово «посмел» вновь потрясло, парализовало парня. Андрей мгновенно поднялся, держа в руке обломок кирпича. – Меня… Придётся? Такое… посмел сказать? – Брошенный обломок угодил точно в локоть парня. В этот же самый момент Андрей оказался на земле. «А про красавчика-то забыл!» – мелькнула мысль и погасла, так больно вошёл в рёбра ботинок оклемавшегося чернозубого.








