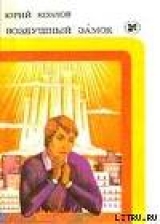
Текст книги "Воздушный замок"
Автор книги: Юрий Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Юрий Вильямович Козлов
Воздушный замок
Повести и рассказы
Любить – значит говорить правду
Вступительная статья Ю. Козлова
Мне всегда интересно писать о людях, так как нет на свете ничего интересней людей. В человеке же самое интересное – характер, то есть то, что в каждом конкретном случае заставляет его поступать так, а не иначе и в конечном итоге определяет всю его жизнь. Характер человека есть следствие развития тех или иных душевных качеств, закладываются его основы в детстве и отрочестве. Вот почему до наших дней писатели всех времён и народов не устают разгадывать загадки «пустыни отрочества». Тема эта поистине неисчерпаема.
Иногда в предисловиях и послесловиях авторы «забирают» как-то слишком уж высоко – соотносят собственные судьбу и произведения с Родиной, Россией, народом, народными заботами и чаяниями. Мне кажется, право на подобное соотношение прежде нужно заслужить. Заслужить правдой. Любви к Родине, к народу не бывает без любви к правде и к отдельному человеку. Любить человека – это значит и говорить о нём правду.
Конечно, правда, как и всё в мире, имеет разный масштаб. Но человек в литературе заслуживает высокой участи. Даже в самых серых, ничтожных персонажах всё же стóит искать вечное, духовное, прекрасное. Отсутствие такового в человеке – это и трагедия, и тема для социального исследования, и, вероятно, один из основных конфликтов истинной литературы.
Каждый пишет о том, что знает, что чувствует. Бессмысленно выбирать тему, если нет к ней внутреннего расположения, если она сама тебя не выбрала, если не можешь применить к тому, что пишешь, известные слова Твардовского:
…А я лишь смертный. За своё в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу…
Что ж, вполне возможно, «сказанное» и не окажется чем-то эпохальным. Очень важно, если оно будет твоей собственной, выстраданной правдой, которая поможет кому-нибудь, как в маленьком зеркале, увидеть правду большую, всеобщую или же побудит продолжить её поиски – а они, как известно, продолжаются всю жизнь, – обратившись к другим книгам, другим источникам.
Первый мой рассказ увидел свет десять лет назад. Все эти годы я работал корреспондентом – сначала журнала «Юность», потом «Огонька». Был на Северном полюсе, плавал с пограничниками вдоль Камчатки и Курильских островов, писал почти обо всех крупнейших комсомольско-молодёжных стройках. Узнал, как мне кажется, молодых людей наших дней. Они умеют отличать ложь от правды, фальшь от искренности, стремятся жить достойно, в мире с собственной совестью. И этого же ждут от литературы.
Хотя бы отчасти, в меру отпущенных способностей, оправдать ожидания современников – задача высокая и на всю жизнь.
Юрий КОЗЛОВ
Ледниковый период

Октябрьский день этот, поутру холодный и голубой, с льдинками в лужах, вкривь и вкось исчёрканный разноцветными листьями, потом устало-солнечный, прощально взмахивающий вслед уходящему светилу пустыми ветками, под вечер ангельски ясный, с выпуклой луной на закатном небе, вошёл в память Маши как единое воспоминание, точнее, впечатление, выделить из которого какой-либо эпизод она не могла и не хотела, настолько сокровенным, имеющим отношение исключительно к ней одной было всё случившееся. И когда Юлия-Бикулúна, ближайшая Машина подруга, подозрительно сощурившись, потребовала: «Ну расскажи, расскажи! Не таись! Где весь день шастала?», Маша пожала плечами и ничего не ответила. Смешными показались ей слова Юлии-Бикулúны. Нет, этим ключом не откроешь волшебную дверь!
– Ну что ты… – Маша хотела сказать «уставилась на меня», но неожиданно сказала по-другому: – Что ты впилась в меня своими кактусами, Бикулúна? Где была, там и была!
Юлия-Бикулúна на секунду онемела от Машиного нежелания разговаривать, от «кактусов». Оскорблённо вскинула стриженую голову и пошла по коридору. Но через несколько шагов обернулась и закричала, совершенно не беспокоясь, что услышат любопытные одноклассники:
– Ну и стой себе у окна, дура! А к нам с Рыбой больше не подходи!
Рыба – вторая Машина задушевная подруга – вздрогнула и спустилась на этаж ниже, чтобы там переждать гнев Юлии-Бикулúны.
Зазвенел звонок. Надо было идти в класс на урок географии, изучать висящую на доске карту двух полушарий Земли или смотреть в окно, за которым листья выделывали пируэты.
«Маша! Почему тебя вчера не было?» – представила Маша строгий вопрос классной руководительницы и впервые за всё время, исключая разве позорное утреннее списывание алгебры в продуваемой беседке, смутилась.
Да и было отчего смутиться! Никогда за все школьные восемь лет Маша не прогуливала, и вот на девятый это случилось… Хотя, если хорошенько припомнить, тройку-четвёрку прогулов можно насчитать, но что это за прогулы? Ранним утром мать смотрела на Машу, гремящую пеналом или скорбно шелестящую учебником, и спрашивала: «Что, Машуня, неохота в школу?» – «Ой, мама! Ой как неохота!» – вздыхала Маша, ликуя от маминой догадливости. «Ну ладно, пропусти денёк», – разрешала мама, и Маша целовала её. Утро, день, вечер – целая вечность впереди – дождливая, солнечная, ветреная, снежная, смотря на какое время года приходился согласованный с мамой прогул.
В этот раз всё было по-другому. Мама не интересовалась, охота ли Маше идти в школу. Последнее время мама вообще меньше обращала внимания на Машу и не замечала в её глазах странной тоски пополам с бесовским блеском, не замечала чередования румянца и бледности на Машином лице, а также частой смены настроений – от горьких слёз по неведомым утратам к веселью по самым незначительным причинам.
Итак, был обыкновенный осенний вечер… Маша и мама пили чай на кухне, слушая, как ветер скулит в незаклеенных рамах. Сквознячок бегал по кухне. За ноги хватал, за спину. Маша поёжилась.
– Когда папа будет окна заклеивать?
– Не знаю, – ответила мама, – скоро…
Звенели ложечками, размешивая сахар. Маша уже пила чай, а мама словно зафиксировалась на этом бесконечном размешивании.
Маша разозлилась:
– Ну что ты… Положи ложку!
– А? Что? – не поняла мама. – Какую ложку?
– Я пошутила! – Маша резко встала и ушла к себе в комнату.
Из кухни снова послышался мелодичный звон.
Маша погасила в комнате свет и раздвинула на окне занавески.
Взору её предстал тёмный двор, наполненный ветром. Что могло шевелиться – шевелилось. Хвост у кота, выгнувшего спину на помойном бачке, изогнулся. Свет в многочисленных окнах корпуса напротив, казалось, пульсировал. Сколько Маша себя помнила, она любила вот так вечером смотреть из тёмной комнаты в тёмный двор. Наступал момент, когда Машина душа (именно в этот момент Маша и чувствовала её, крылатую, трепетную) как бы выскальзывала и секунду-другую жила своей особенной жизнью. Мрачный двор душу не прельщал, и она устремлялась ввысь, к звёздам, куда, наверное, и положено устремляться душам девочек-девятиклассниц. А Маша оставалась внизу одна – пустая, беззащитная. Всякий раз после воссоединения с душой Маша чувствовала, что стала капельку мудрее, словно там, в звёздном небе, душа удостаивалась очередного кольца, как ствол дерева, когда дерево становится на год старше.
Теперь же мысль, доселе глухо бродившая вокруг да около, обретала ясность, впивалась в Машу как иголка. «Что случилось с мамой? – думала Маша. – И где отец? Почему целую неделю он приходит домой поздно ночью?»
Маша немедленно отправилась на кухню и не застала там изменений. Горела на столе лампочка под плетёным абажуром, и свет полосками лежал на потолке и стенах. Мама больше не размешивала ложечкой сахар, однако чай стоял перед ней нетронутый. Полоска света изгибалась вокруг чашек подковкой, и чай золотился, переливался. Потом вдруг чистая капелька упала в чашку, за ней вторая… Маша в недоумении посмотрела на потолок, однако потолок был чист, бел и сух. Тогда Маша посмотрела на маму и увидела на щеках у неё мокрые дорожки.
– Мама! Вы что, разводитесь? – спросила Маша.
– Бог с тобой! Какую ты чушь мелешь! – Мама отвернулась, нашарила на столе сигареты.
– Правильно… Кури, укрепляй здоровье.
– Маша, оставь меня в покое. Ничего не случилось. Просто…
– Просто папа чего-то повадился приходить в три ночи.
– Он заканчивает проект. Работает со Ставровым у него дома.
– А что же ты плачешь, раз всё так прекрасно? Раз он работает дома у Ставрова?
– Я не плачу. Я так…
– Значит, всё-таки разводитесь?
– Почему? Откуда…
– Раз ты говоришь, что не плачешь, а сама плачешь, почему же я должна верить, что вы не разводитесь?
– Да как ты можешь… Как ты можешь так спокойно об этом говорить? Этого нет… Но… Если бы… Как ты можешь так спокойно?
– Я неспокойно! Совсем я неспокойно! – быстро-быстро заговорила Маша. – Мне страшно-страшно, мамочка… Когда ты вот так сидишь на кухне, звенишь целый час ложечкой, плачешь… Ты такая чужая, мамочка… А я… Я не люблю тебя чужую! Ты моя, моя, моя! Ну почему, почему ты плачешь?
– Боишься, да? – вытерла слёзы мама. – Раз мама плачет, значит, мир ломается, так?
– Раньше, – ответила Маша, – а теперь… Теперь не знаю… Жалко теперь, вот!
– Всё в порядке, – попробовала улыбнуться мама, – просто осень… Дождик идёт… Представляешь, шла из магазина, а на газоне три бездомные собачки сидят. Прижались друг к дружке, несчастные. Холодно, страшно… А мимо люди идут… Вспомню, плакать хочется. Так бывает… Какое мне дело до собак? А всё равно плачу.
– Мама! Слёз не хватит!
– Хватит. Я тоже молодая была – думала, не хватит. А сейчас… Сейчас думаю: на всё на свете слёз хватит и даже… – мама снова всхлипнула, – для себя немножечко останется…
– Ну что ты говоришь! Что ты говоришь! – не выдержала Маша.
– Так. Ничего. Сидим болтаем…
Маша вздохнула и ушла из кухни.
Наступил тягостный час, когда ложиться спать рано, а браться за какое-нибудь серьёзное дело поздно. Телевизор в доме не работал уже несколько дней, с тех пор, как Машин отец хватил по нему кулаком, и этот мёртвый сероэкранный телевизор усугублял состояние тревоги, совсем как перед грозой – тучи собрались, а гром ещё не грянул. Всякий раз, когда становилось грустно, Маша смотрела на висящую на стене застеклённую репродукцию гравюры Дюрера «Меланхолия». Репродукция осталась на степе после «великого переселения народов» – так отец называл собственное переселение из этой комнаты в большую, а Машино – из большой в маленькую. Теперь Маша была хозяйкой отцовского кабинета и «Меланхолии».
Маша вспомнила, как они три года назад переезжали в эту квартиру. Грузчики внесли мебель, расставили по углам, и отец позвал их на кухню пить водку. Потом грузчики ушли, а отец ходил в расстёгнутой рубашке по комнатам, стучал согнутым пальцем по стенам, определяя, где капитальная стена, а где сухая штукатурка. Именно тогда, в самый первый день, он прибил к стене «Меланхолию».
– Гляди-ка! – воскликнул он. – Гвоздь вошёл в бетон! Евгения! – позвал маму. – Ты видела когда-нибудь, чтобы гвоздь входил в бетон как в масло? Неужели «Меланхолия» размягчает стены? Что там: радость, счастье, любовь? Меланхолия – вот самое сильное чувство! Разве радость загонит в бетон гвоздь?
– Зачем ты повесил эту гравюру?
– Не нравится? – усмехнулся отец.
– Не в этом дело. Почему она должна висеть именно здесь? Вдруг…
– Она будет висеть здесь вечно! – оборвал отец. – Машенька! Посмотри, хорошая?
Маша пожала плечами.
– Ты не находишь, – спросил отец, – что эта средневековая дама похожа на нашу мамочку? У них одинаковое выражение лица! «Меланхолия», то есть грусть, печаль… Видишь ли, Маша, – продолжал он почему-то шёпотом, – жизнь так устроена, что всегда есть причины для грусти. Правда? Но грусть бывает сиюминутной, а бывает вечной, как солнце, точнее, как луна… Но нельзя же всё время в грусти бубнить: «Луна, луна, луна…» Большинство людей и не твердит, но наша мама не такая! Её меланхолия всеобъемлюща, неизбывна! Все печали мира свили гнездо в сердце нашей мамы, более того… – Отец нагнулся и прошептал: – Они, как кукушата, выкинули оттуда все прочие чувства! Остались одни оперившиеся меланхолята! – подмигнул, погладил репродукцию. – Без меланхолии мамы нет! А разве можно любить то, чего нет? Значит, надо любить меланхолию! Вот почему картинка будет здесь висеть вечно!
Так, незаметно прошёл ещё час, и настало время телефонных переговоров с подругами. Юлия-Бикулúна, должно быть, уже лежала в ванной, заткнув дырку пяткой – так она регулировала уровень воды, а на полу стоял телефон. Каждый вечер, беседуя с Бикулиной, Маша слышала всплески водяных струй, какие-то странные шлепки. Голос Юлии-Бикулины звучал как из подводного царства.
– Скажи, Бикулина, – спросила однажды Маша, – ты из ванной только со мной разговариваешь или…
– Что «или»? – нахально уточнила Бикулина.
– Или с мальчишками тоже? – Тишина на секунду установилась в трубке, потом лёгкое волнение прошло по воде – рукой или ногой пошевелила Бикулина.
– Странные вопросы задаёшь…
– И всё-таки?
– Ну… они же меня не видят, – засмеялась Юлия.
– А ты сама? Что ты сама чувствуешь?
– Почему ты думаешь, что я должна что-то чувствовать?
Маша растерялась. Этого она объяснить не могла.
– Если такая любопытная, – назидательно продолжала между тем Бикулина, – разденься, залезь в ванну, возьми с собой телефон и позвони, скажем… Семёркину… Да! Непременно Семёркину!
На миг у Маши перехватило дыхание.
– Почему же именно Семёркину? – спросила она деревянным голосом.
Бикулина ехидно молчала.
– Спасибо за совет, – как можно спокойнее сказала Маша, – только знаешь, Бикулина, у нашего телефона шнур короткий. Не дотянется до ванной.
Маша вспомнила этот недавний разговор, и ей расхотелось звонить Юлии-Бикулине. Можно было позвонить Рыбе, но телефон стоял у Рыбы в прихожей, где вечно суетились младшие Рыбины братья, мешали разговаривать, В прихожую доносились телевизионные выстрелы и крики, и мама Рыбы громко спрашивала из кухни: где сахар, почему никто не сходил за картошкой, проверила ли Рыба, как сделали уроки младшие братья. Всё это затрудняло телефонный разговор. Каждую фразу надо было повторять трижды, и всё равно Рыба ничего не слышала.
Маша всё-таки позвонила Рыбе, но у той было занято. А мама тем временем ушла из кухни и сидела за столом в большой комнате, раскладывала пасьянс, и каждый раз, когда выпадала не та карта, лицо её омрачалось.
– На что гадаешь, мама? На папочку? – спросила Маша.
– Иди спать, Маша, поздно уже. – Мама даже не обернулась.
Маша прекрасно сознавала, что причиняет маме боль, и сама была не рада своей жестокости. Но странное равнодушие и жуткий интерес овладевали ею. Примерно такую же – так казалось Маше – боль аналогичными по смыслу вопросами ежедневно причиняла ей Юлия-Бикулина, и Маше было хорошо знакомо чувство растерянности и тоскливого стыда, когда грубо вторгались в мир её сокровенных чувств, где каждая птичка сидела на своей хрустальной ветке, каждый овощ знал своё время, где всё было пусть болезненно, но гармонично, а любое вторжение убивало гармонию и усугубляло боль. «Как легко, – думала Маша, – бить по больным точкам, когда человек на глазах, когда знаешь о нём всё! Но кто… Кто даёт право?» Всякий раз после очередного вопроса о Семёркине Маша смотрела в мучении на Юлию-Бикулину. «Ну что? Что я ей сделала? – думала она. – Обидела? Оскорбила?» И незаметно приходила мысль, что самые утончённые, жестокие мучения доставляют именно те, кому никогда ничего плохого не делаешь. Один мучает, другой терпит, местами им не поменяться! И неизвестно, кто установил такой порядок… Обычно Маша старалась прогнать эту мысль, а сейчас она вдруг предстала перед ней в безобразной последовательности: Юлия-Бикулина обижает Машу, Маша обижает маму. «А мама? – подумала Маша. – Ей кого обижать? Ей… некого обижать! Потому что она не умеет и не может…» С непривычной ясностью Маша поняла, что, наблюдая нынешние мамины страдания, сама она как бы готовится к своим завтрашним страданиям, закаляется перед; ними. «Так и надо… Неужели так и надо?» – подумала в изумлении Маша, и ей захотелось немедленно разрушить, разбить эту очевиднейшую последовательность зла. И вот уже слёзы задрожали в глазах. «Мама! Мамочка, единственная моя!» – всхлипнула Маша, но мама по-прежнему раскладывала пасьянс, переживая, когда выпадала не та карта.
О, как хорошо были знакомы Маше эти старинные карты! Жёлтые, как воск, крепкие, как кость, давно потерявшие представление о времени.
И вот уже мама целовала Машу, и сама всхлипывала, и спрашивала:
– Ну что с тобой? Что с тобой, девочка?
– Ничего, – ответила Маша, – просто сегодня я поняла, что очень, очень тебя люблю! – И счастливо засмеялась. – Мамочка, рассказывай мне теперь всё-всё, ладно? – потребовала Маша. – И я всё-всё тебе буду рассказывать!
– Хорошо. А сейчас ложись спать. – Мама поцеловала Машу и ушла.
– Пасьянс получился? – крикнула Маша.
Молчание.
– Получился?
– Получился, получился. Ложись спать, – повторила мама.
Настала ночь. Луна сквозь незашторенные окна вычерпывала серебристым ковшиком из комнаты темноту. Маша не знала, спит она или нет. Но откуда тогда серебристый ковшик, откуда звёздное мерцание? И мысли, подобные маятнику, что завтра будет приятный, приятный, приятный день… Но будет он только завтра, завтра, завтра, и чтобы он побыстрее настал, надо заснуть, заснуть, заснуть… А почему, собственно, приятным будет день? А потому, что есть Семёркин, Семёркин, Семёркин…
Среди ночи Маша проснулась. В прихожей горел свет.
– Где ты был? – услышала она мамин голос.
– У Ставрова, – ответил отец.
Никогда Маша не слышала, чтобы отец разговаривал таким тусклым, равнодушным голосом. «Ему неинтересно, – подумала Маша, – ему совершенно здесь неинтересно! Ему всё равно!»
– Ты… пьяный?
– Сложный вопрос, – усмехнулся отец.
– Столько дней подряд… Ты же не работаешь! Этот Ставров…
– Не поверишь, – сказал отец, – Ставров на моих глазах проглотил живого рака. Как думаешь, не схватит он его клешнёй за желудок? Хотя… Столько водки. Бедный рак…
И всё. И тишина. Ушли в большую комнату. Потом осторожные мамины шаги в прихожей. Погас свет.
Маша снова заснула.
…Октябрьское утро, с которого, собственно, и пошёл отсчёт новой Машиной жизни, началось как самое обыкновенное. В половине восьмого яростно зазвонил будильник. Маша птицей вспорхнула с постели. Потом снова улеглась. Без пятнадцати восемь она осторожно раздвинула занавески, выглянула в окно. По асфальту ходили голуби. Небо голубело. Ветер срывал листья с деревьев, а потом словно в насмешку возносил их вверх, и листья отчаянно цеплялись за родные ветки, но снова падали. Короткие тени чертили двор.
Маша вдруг вспомнила, как совсем недавно она, Рыба и Юлия-Бикулина шли по улице. Дело было вечером, солнце садилось, и три их длинные тени как бы летели в солнечном ореоле.
– Красиво идём! – Юлия-Бикулина кивнула на тени.
Шли действительно красиво.
– Ай-яй-яй, Рыба, – как всегда, ни с того ни с сего заявила Бикулина, – и не стыдно тебе с такими кривыми ногами ходить?!
– Чего-чего? – изумилась Рыба.
– Ноги у тебя кривые, вот чего, – сказала Бикулина. – Гляди, мы все трое в штанах. У кого больше всего солнца между ног? У тебя, Рыба. Не веришь? Я давно смотрю…
– Давай-ка остановимся, – предложила Рыба.
– Зачем? – насторожилась Бикулина.
Остановились.
– Сдвинули-ка все ноги! – скомандовала Рыба. – Ну, у кого между ног больше солнца, а?
У Рыбы ноги превратились в одну тёмную линию. У Маши тоже. И только длинные ноги Бикулины остались разделёнными солнечной полосой.
– Это у меня просто джинсы в обтяжку! – нагло заявила Бикулина. – Клянусь своим вторым именем! А ты, Рыба, халтуришь! Шьёшь себе штаны на вырост!
– Я? – Рыба, казалось, потеряла дар речи. – Я… халтурю? Как это халтурю? Каким образом?
– Халтуришь, халтуришь… – не стала объяснять Бикулина. Она была по-прежнему весела.
Бедная же Рыба опечалилась, потому что не было у неё ни второго имени, ни дивных джинсов, как у Бикулины. Да и вообще в присутствии Бикулины система ценностей почему-то менялась. Высшую, безусловную ценность представляло только то, что было у Бикулины. Остальное не в счёт. Поэтому в любом случае Бикулина оказывалась на пьедестале, а Маша с Рыбой сражались за серебряные и бронзовые медали. Иногда Бикулина лишь снисходительно наблюдала за борьбой, иногда желала быть судьёй. Почему так происходило, почему они принимали на веру оценки Бикулины, Маша и Рыба не знали… Итак, Рыба опечалилась. Не могло у неё быть второго имени, потому что Юлия стала Юлией-Бикулиной семь лет назад, во втором классе, когда приписала на всех тетрадках к своему имени: «Бикулина». Целый год новоявленная Юлия-Бикулина терпеливо сносила насмешки. А потом все привыкли к странному второму имени, словно Юлия с ним и родилась. Даже разгневанные учителя теперь произносили: «Выйди вон из класса, Бикулина!» Так что повторять Юлию-Бикулину, заводить себе второе имя было нелепо и поздно. Джинсы Бикулине привозил из-за границы отец – тренер сборной молодёжной футбольной команды. Значит, и здесь Рыбе, у которой отец работал инженером в типографии, надеяться было не на что.
– Папаша скоро полетит в Копенгаген, – продолжала между тем Юлия-Бикулина, совершенно забыв про солнечный конфуз, – а в команду насовали новичков. Ему сейчас необходимо разобраться, кто есть кто… – Бикулина загадочно умолкла, как и всегда, когда хотела, чтобы её поощрили к дальнейшему повествованию.
– Что значит «кто есть кто»? – не выдержала Маша.
– Кто защитник, кто полузащитник, кто нападающий…
– Что же, они только вчера начали играть в футбол? – усомнилась Рыба. – И сразу в сборную?
– В том-то и дело, что нет! Они играли в разных командах. Но как сам игрок может определить, кто он: защитник, полузащитник или нападающий?
Маша и Рыба молчали. Они не знали.
– У отца на этот счёт есть теория, – значительно произнесла Бикулина, – она распространяется не только на игровые качества, но и вообще… на всю жизнь человека… Отец задаёт каждому новичку вопрос: «Вы проснулись в чужом городе, в зашторенной комнате. Что вы сначала делаете?»
Маша и Рыба слушали очередной бред Бикулины заинтригованные.
– Если человек отвечает: «Распахиваю шторы!», значит, он нападающий. Таланты его по-настоящему раскроются только в нападении, даже если раньше он играл вратарём! Если человек одновременно открывает шторы и выглядывает в окно, значит, он полузащитник. А если уж сначала выглядывает, а потом открывает – он защитник… И в жизни так!
– А вратарь? – поинтересовалась Рыба. – Он что, вообще не открывает шторы?
– Ничего подобного! В том-то и дело, что истинный вратарь спит с незашторенными окнами! Понятно?
Рыба и Маша испуганно кивнули.
– Вот ты, Маша, – строго указала пальцем на Машу Бикулина, – ты как просыпаешься?
– Я… – Маша совершенно отчётливо вспомнила, что всегда выглядывает из окошка, а уже потом открывает шторы. – Я… сначала выглядываю…
– Ну и дура! – быстро ответила Бикулина. – А ты, Рыба?
– Я… тоже выглядываю… – прошептала Рыба.
– И с тобой всё ясно. А я раздвигаю шторы! Я нападающая! – закричала Бикулина. – Всегда, всегда, всегда!
Вот что вспомнила Маша октябрьским утром.
Однако же время шло. Яркий пятипалый лист ворвался через форточку в кухню, накрыл чашку с кофе. Поблагодарив осень за заботу, Маша допила кофе и вышла на улицу, воткнув в волосы пятипалого красавца. Именно на улице, а точнее, уже во дворе начались загадочные превращения, буквально за один день изменившие робкий Машин характер.
Лист в волосах, серое замшевое пальто, портфель в руке – такой она вышла из дома. Маша видела всё вокруг своими и не своими – какими именно, понять не могла, – глазами, видела саму себя с высоты полёта пятипалого листа, идущую, спешащую по двору… Но не нынешнюю! А ту, никому не знакомую, только-только переехавшую на эту улицу, в этот двор. А может, совсем не Маша это с её тогдашней тоской по старой школе, подругам, а вообще девочка, переехавшая в новый дом? Вот она идёт, пугливая, пристально вглядывается в лица встречных: «Где вы, где вы, будущие подруги?» Ещё одна особенность появилась у странного зрения – видеть не только сквозь время, но и сквозь стены. Маша увидела себя в новом классе, лицом к лицу стоящую перед тридцатью незнакомцами. Тридцать пар любопытных глаз изучали её, а заинтересованнее всех зелёные, как листья фикуса, глаза Юлии-Бикулины. А может, совсем не Маша это стоит перед тридцатью незнакомцами, а вообще девочка, пришедшая в новую школу? Вот она, пугливая, садится на отведённое место, украдкой изучая лица вокруг.
Так, незаметно, Маша миновала двор, перешла улицу и двигалась теперь в сторону Филёвского парка, краснеющего и желтеющего вдали. И не Маша это шла в осенний парк, а вообще девятиклассница уходила со своими неразгаданными чувствами в осень, в лес, в голубое небо, в усталое солнце, утомлённо поглаживающее верхушки деревьев. Однако же странное вообще, когда собственные деяния кажутся ничего не значащими, когда собственная жизнь легче одуванчикового пуха, продолжаться вечно не могло, и Маша ойкнула, когда увидела, что ей уже пятнадцать минут как пора сидеть на уроке географии. Но Филёвский парк… Но листья… Но небо… Маша решила на некоторое время забыть про школу. Она по-прежнему не понимала, что с ней происходит. Не шла – летела не чуя ног. Листья шептали что-то сухими губами. На утренней луне, как на матовом блюдце, проступили синие узоры. Маша догадывалась, что это мёртвые лунные моря и материки. А сторонний взгляд сверху вдруг съёживал всю пятнадцатилетнюю Машину жизнь до иголки, до какого-нибудь эпизода и преподносил этот эпизод с мельчайшими подробностями, заставляя переживать то, что давно пережито, плакать над тем, что давно оплакано, сожалеть о том, что невозвратимо.
«Зачем? Зачем?» – пугалась Маша, вспоминая случаи трёхлетней давности…
…В первую же свою прогулку в новом дворе Маша стала свидетельницей и участницей событий удивительных. Едва только гвоздь успел войти в бетонную стену как в масло, едва только дюреровская «Меланхолия» воцарилась в новой квартире, Маша отправилась в незнакомый, а поэтому страшноватый двор, откуда доносились чужие звонкие голоса, где мяч устало бухал, отскакивая от стен. Однако чувствовалось, что и пронзительный крик стекла мячу привычен.
Маша вышла во двор и показалась сама себе мышкой, забравшейся в гигантский амбар. Так величествен был дом, так могуче опоясывал он двор. Голубой столб воздуха стоял между двумя несоприкасающимися корпусами.
Был май. Молодые женщины несли букеты сирени. Редкие для города вишня и яблоня безнадёжно и яростно цвели в сквере, словно предчувствовали, что ни одна вишенка не успеет покраснеть, ни одно яблочко не засветит сквозь листья спелым боком. А в самом центре сквера царственно шелестел ветками огромный дуб неведомого возраста. Под дубом стояла белобрысая девочка с голубыми застенчивыми глазами и что-то рисовала. Маша тихонько взглянула из-за её спины и увидела, что девочка рисует яблоню и вишню. Маша сделала ещё один круг, чтобы попасться на глаза рисовальщице и таким образом познакомиться, но та её не заметила. Или сделала вид. Маша обратила внимание, что взгляд у девочки был только тогда застенчивым и мягким, когда она смотрела на яблоню с вишней. Когда же она переводила взгляд на рисунок, взгляд суровел, появлялась в нём некоторая даже резкость, и, казалось, девочка недовольна тем, что нарисовала. Маша ещё раз взглянула на рисунок и увидела, что рисует девочка не два случайных дерева, а какой-то сплошной цветущий лес, где всё перепуталось – белые лепестки, небо, солнце.
– Не мешай! – попросила девочка, бросив нежный взгляд на деревья.
– Я только посмотрю… – сказала Маша.
– Не мешай, а то не успею. – Девочка резко посмотрела на рисунок и решительно взялась за белый карандаш, усугубляя всеобщее цветенье.
– Что ты рисуешь? – удивилась Маша. – Здесь всего два дерева!
– Бикулине на память, – ответила девочка. – Бикулина любит, когда всего много.
– Кому на память?
– Ты откуда взялась? – Девочка внимательно оглядела Машу. – А… Новенькая? Только переехала?
Маша кивнула.
– Ну не мешай! – Девочка ещё энергичнее заработала карандашами, потеряв, по-видимому, к Маше всякий интерес.
Вечернее солнце тем временем обрядило низкие белые облака в розовые юбки. Во двор въехал белый автобус с розовой крышей. «Надо же, – удивилась Маша, – на облако похож…» Молодые атлеты в иностранных тренировочных костюмах вышли из автобуса, исчезли в подъезде, а потом угрюмо принялись заносить в автобус чемоданы и кое-какие пожитки. Вещей, однако, было немного, видать, переезжали не насовсем. В завершение хмурый атлет осторожно вынес бронзовый футбольный мяч на длинной, похожей на шпагу подставке. Мяч тускло заблестел, ловя уходящее солнце. Потом из подъезда пружинисто вышел седовласый мужчина, за ним маленькая стройная женщина, а следом девочка в зелёном, как трава, платье.
– Бикулина! Бикулина! – закричала рисовальщица. – На, возьми на память! – Протянула рисунок. – Ты пиши мне! Каждый день пиши мне!
Девочка в зелёном платье взяла рисунок, пристально в него всмотрелась. Зелёные глаза её вдруг полыхнули, как у кошки в темноте.
– Эх вы! – закричала она атлетам, топчущимся около автобуса. – Сапожники! О, какие же… Так глупо проиграть! Из-за вас мы теперь уезжаем в Одессу! – И, не в силах сдерживать слёзы, разрыдалась.
– Юля! Прекрати! С ума сошла! – Седовласый мужчина огляделся. Никого, к счастью, не считая Маши и рисовальщицы, поблизости не было. – Успокойся, мы же не насовсем уезжаем.
– А вдруг тебя никогда не переведут в Москву? – истерически закричала Юля.
– Переведут… Я тебе обещаю, – с трудом улыбнулся мужчина.
– А я… – Юля тянула это «я», как ведро из колодца. Рождённое из шёпота «я» набирало страшную силу и уже гремело эхом, колотило по окнам, неистовствовало в пространстве, опоясанном домом. – Я не хочу! Я не хочу… Я… не хочу!
Столько страсти, энергии, воли было в этом «я», что даже у бывалых атлетов-пораженцев лица изменились. А Юля, вторично полыхнув глазами, порывисто обняла рисовальщицу. – До свидания, Рыбочка! До свидания, подружка! Ты меня не забудешь?
– Я тебя не забуду! – всхлипнула рисовальщица. – Я тебя буду ждать. Возвращайся быстрей!
– Только если проклятые одесситы возьмут кубок! – горько сказала Юля. – Медалей им сезона три не видать… – Она снова посмотрела на рисунок, чуть приоткрыла рот. Маша испугалась, что ещё одно громогласное «я» расколотит тишину, но этого не случилось.
– Юля! – позвал отец. Шофёр коротко просигналил. – Самолёт через полтора часа. Надо ехать.
Глаза у Юлии сузились и ещё пуще зазеленели.






