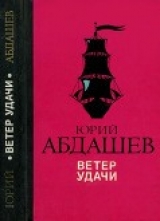
Текст книги "Ветер удачи (Повести)"
Автор книги: Юрий Абдашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
14. САМОВОЛКА
Над городом кружились розовые лепестки отцветающего урюка. В стеклянно-прозрачном воздухе распространялась терпкая горечь проснувшихся тополей. А клены на улице Великого акына были сплошь усыпаны карминными шариками лопающихся почек. Весна, пробуждающая все живое, вызвала бурное сокодвижение и в наших сосудах. Мы подолгу не могли уснуть, ворочаясь с боку на бок.
Неудивительно, что днем многих клонило ко сну. Теперь нас не очень контролировали, и кое-кому удавалось пофилонить даже в часы занятий. Прибывших новичков распределили по стрелковым батальонам. У нас пополнения до сих пор не было.
Та часть казармы, где прежде располагалась вторая рота, была чуть ли не до половины завалена стянутыми с коек матрасами. Иногда в них зарывался Сеня Голубь и, спеша воспользоваться последней возможностью, изо всех сил накапливал энергию. Как-то за этим занятием застал его старший сержант Басалаев, тот самый, что таскал на себе плиту полкового миномета. Сначала он хотел разбудить Сеньку и устроить ему хорошую накачку, но вид у того был настолько безмятежный, что Басалаев не выдержал, невольно зевнул, потянулся до хруста в суставах, зайдя с другой стороны, залез в самую кучу матрасов и уснул богатырским сном.
А тут, как назло, со всей своей свитой заявился подполковник Лисский. Дежурный доложил по форме, что рота находится на занятиях. Начальник училища с обычной придирчивостью стал осматривать казарму, как вдруг увидел неимоверной величины ботинки, торчащие из-под матрасов где-то под самым потолком.
– Что это? – спросил подполковник. – А ну-ка, давайте сюда эти скороходы.
Дежурный полез наверх и потянул Басалаева за ногу, но тот только лягнул его, всем своим поведением показывая, чтобы его не беспокоили. И тут подполковник так рявкнул, что старший сержант скатился вниз, словно на салазках. Он стоял перед начальником училища в натянутой на уши пилотке, в опавших обмотках, в наброшенной на плечи шинели с отстегнутым хлястиком и очумело таращил глаза.
– Разгильдяй! – бушевал подполковник. – Филон, чертов лацюга! – Жаль, что мы так и не узнали истинного смысла этого слова. – На фронт дармоеда! Марш с моих глаз!
Мы как раз выходили из класса на перекур и видели, как здоровенный Басалаев, пригнув голову, точно собираясь кого-то забодать, кинулся прочь, и только топот раздавался в мертвой тишине казармы…
Именно в эти дни по училищу распространился слух, будто наконец пришел приказ о присвоении нам воинских званий. Откуда могли просочиться подобные сведения, сказать трудно, но в их достоверности никто не сомневался.
Все понимали, что у командования есть серьезные причины скрывать от нас до поры этот знаменательный факт. Если приказ был, но не было разнарядки для отправки нас в действующую армию, это грозило нежелательными последствиями. Попробуй удержать на казарменном положении сотню молодых, изнывающих от безделья лейтенантов. Ведь программа практически была исчерпана, и занятия проводились уже чисто формально по принципу: повторение – мать учения. Все в этих слухах было правдоподобно и убедительно.
За восемь месяцев нас буквально нашпиговали знаниями. Хоть буди среди ночи. Многое мы не только знали, но и умели применять на практике. От будущих командиров требовали военной грамотности и профессионализма. Конечно же, это не могло не утвердить в нас чувства самоуважения, тем более что достигнуто все было нелегким трудом…
Впоследствии я нередко задавал себе вопрос: что дало мне время, проведенное в училище? Как оно отразилось на моей фронтовой судьбе, на моем характере? Казалось бы, каким только влияниям не подвергался я позже, но то, что было заложено в течение тех восьми месяцев, сохранилось на всю жизнь. И все-таки из качеств, унаследованных мною от бывших моих командиров, я выше всего ставлю умение подчиняться слову «надо» и в нужный момент выкладываться до предела.
На фронте мне повезло – я попал в артиллерию, о которой в шутку говорили: ствол длинный – жизнь короткая. Гвардейский истребительный противотанковый полк, где мне поначалу довелось командовать взводом, считался отдельной армейской частью. Командование попеременно придавало его то одному, то другому соединению. Чаще же всего полк «разбирали» подивизионно.
Те, кому пришлось воевать на Кубани весной сорок третьего, наверняка помнят, какие дожди лили в течение апреля, когда развернулось наше наступление по всему фронту. Поймы рек Абин, Адагум и их притоков превратились в непроходимые болота. Колеса орудий и повозок со снарядами вязли в липкой, раскисшей глине. О машинах и говорить нечего.
Батареи наши были вооружены в основном 76-миллиметровыми дивизионными пушками ЗИС-3, которые для артиллеристов были столь же дороги, как для сердца танкиста прославленная «тридцатьчетверка».
Незадолго до этого полк перешел на механическую тягу, и многие не без сожаления вспоминали верных лошадок, которые не единожды выручали людей в самых сложных ситуациях. Теперь же, когда тягачи увязали в раскисшем грунте, расчетам приходилось впрягаться в лямки и буквально на себе тянуть по грязи орудия весом в тысячу двести килограммов. Иногда нам помогала пехота, но чаще обходились своими силами…
В тот день, как и накануне, погода продолжала оставаться нелетной, немецкая авиация нас не тревожила. Однако мы были настолько измотаны, что совершенно не думали о ней. А командир дивизиона все торопил: давай-давай! Надо было догонять ушедшую вперед пехоту. В ход шли ветки кустарника и доски, кое-где уцелевшие на крышах токов и амбаров. Все это бросалось под колеса, чтобы протащить пушку вперед еще на десять-пятнадцать метров. Шинели набухли от влаги и стали тяжелыми, как средневековые доспехи.
Положение наше было нелегким. Общевойсковые части требовали поддержки огнем, а гаубичная артиллерия безнадежно отстала из-за бездорожья. Мы были единственными, кто оказался под рукой и на кого в трудный момент могли рассчитывать.
Второй дивизион гвардии капитана Русинова наступал в полосе вероятного появления вражеских танков. Наш боекомплект состоял главным образом из бронебойных и подкалиберных снарядов, и поддержать наступление стрелковых частей артиллеристы практически были не в силах.
Во второй половине дня мы выбрались наконец из низины. Колеса уже не вязли так сильно, но люди дошли до такого состояния, что, казалось, не смогут сделать больше ни одного шага. Мною начало овладевать тихое отчаяние. Колени дрожали от напряжения, спину разламывало, а кожу на ладонях саднило от жестких лямок. И вдруг в эту минуту мне представился мой бывший командир, идущий впереди колонны курсантов. Я вскочил с мокрой кочки, даже не догадываясь, откуда взялись силы, и схватился за ремни:
– А ну, навались дружно, с горки она сама пойдет…
Командиры орудий с сомнением качали головами, но, видя мое рвение, молча первыми впрягались в орудия.
К вечеру мы получили приказ окапываться. Стало известно, что соседей справа контратаковало около двадцати танков. Там грохотал бой. Трескотня автоматов, взрывы гранат и снарядов сливались с громом орудийной стрельбы. Судя по всему, на соседнем участке вовсю работал первый дивизион нашего полка.
Мы заняли оборону на танкоопасном направлении, и поэтому от нас требовалась хорошая маскировка. Сквозь кисею дождя невдалеке виднелись какие-то постройки, похожие на колхозную ферму. Там запоздало, но буйно цвела раскидистая груша. Казалось, опустилось и стало на прикол легкое белое облако.
Мы намечали ориентиры и расчищали секторы обстрелов, а потом вгрызались в землю весь остаток дня до глубокой ночи. К этому времени опустился настолько густой туман, что в двух шагах ничего не было видно. Когда в первом часу ночи капитан Русинов вызвал к себе командиров батарей и взводов, мы добирались на командный пункт чуть ли не ощупью.
В наскоро оборудованном блиндаже чадила коптилка из сплющенной гильзы 57-миллиметрового снаряда. По необшитым стенкам с шорохом осыпалась земля. Капитан был кадровым командиром довоенной школы. Невысокий и сухощавый, он в любой обстановке умудрялся сохранять хладнокровие и умение лаконично излагать свои мысли.
– Товарищи командиры, к утру нас обеспечат осколочно-фугасной гранатой. Будем поддерживать матушку-пехоту.
– А как же маскировка? – спросил кто-то.
– Раньше десяти утра туман не поднимется.
– Но ведь наводчик не увидит даже дульного тормоза, а фонарей у нас нет, – заметил мой командир батареи. – Да и расчеты наши плохо подготовлены для стрельбы из закрытых позиций.
– Это не разговор. Стреляем по карте с сокращенной подготовкой. Укатала вас, братцы, прямая наводка, как я погляжу. Вам не из пушек, а из рогаток впору стрелять. До утра есть время. – Он обвел нас усталым взглядом из-под нахмуренных бровей и остановился на мне: – Тут у нас недавние выпускники. Лейтенант Абросимов, например. У него все свежо в памяти. Пусть соберет наводчиков и командиров орудий да позанимается с буссолью и панорамой часика три-четыре… А сейчас, комбат-один, слушайте боевую задачу. Как только поднесут снаряды, сразу же выдвигайтесь вперед для корректировки огня. Возьмете с собой слепую карту из новых…
Под «слепой» Русинов подразумевал полукилометровку, на которой не были нанесены наши боевые порядки и огневые позиции дивизиона.
Из-за переутомления голова была тяжелой. Где он, тот передний край, где свои, где немцы? Поди разберись в такой туман.
– Прошу развернуть карты, – продолжал Русинов. – Наиболее вероятно скопление противника в квадратах десять и одиннадцать. Для пристрелки необходимо выбрать надежные ориентиры. – Он снял наручные часы и положил на снарядный ящик. – А теперь, если нет вопросов, прошу сверить время.
Мне безумно хотелось спать. Все тело ныло от усталости. Но было слово «надо», великое слово, обретавшее на фронте силу закона. Скромный опыт, полученный в училище, подсказывал мне, что израсходован лишь основной запас сил, а внутренние резервы, которыми располагает любой человек, еще не тронуты. Надо пересилить, надо заставить себя…
Занятия пришлось проводить в полумраке блиндажа, куда набилась уйма народу. Мне хотелось говорить недлинно и толково. И вдруг я понял, что помимо воли пользуюсь теми же приемами для объяснения и даже оборотами речи, какие слышал в свое время от лейтенанта Абубакирова.
– Сейчас все зависит от точности, – убеждал я ребят. – Точно расставить вехи, точно установить угломер и прицел, устранить влияние «мертвого хода» прицельных приспособлений и деления подводить к указателю всегда с одной и той же стороны. А командирам орудий проверить надежность крепления сошников, чтобы пушки не прыгали и не сдавали назад после каждого выстрела…
В пятом часу утра я вышел из блиндажа на воздух. Светало, туман заметно поредел. От духоты и напряжения меня слегка покачивало – кружилась голова, а глаза, казалось, были засыпаны песком.
Невдалеке слышались приглушенные туманом голоса и позвякивание металла. Я пошел на шум. Навстречу мне по мокрой тропинке двигались странные бесплотные тени с тяжелой поклажей. У одних мешки были заброшены за спину, другие несли их перед собой. Сейчас люди казались серыми, все на одно лицо.
Когда шедшие впереди поравнялись со мной, я с ужасом обнаружил, что это просто усталые женщины – старые и молодые, обутые в разбитые, облепленные грязью сапоги, закутанные в платки и ветхие полушалки. В мешках каждая из них тащила по два снаряда. Наверное, это были работницы расположенного поблизости табаксовхоза, на днях освобожденного нашими войсками. До совхоза еще можно было добраться машинами, а дальше дорог просто не существовало. Вот и вызвались женщины подносить снаряды на огневую. Надо!
В начале восьмого мой командир батареи и старший сержант из связи, еще не успевший сменить треугольнички в петлицах на погоны, прихватив автоматы и одну из недавно полученных портативных радиостанций РБС, пошли на запад и тут же растворились в тумане. Через сорок минут они сообщили, что поднимаются на какую-то возвышенность. Нашей передовой не заметили. Либо не дошли, либо уже проскочили. При такой видимости – ничего хитрого.
Потом связь с ними надолго прервалась. Напряжение росло, хотя и тревожиться всерьез мы не имели оснований. Это были знающие, испытанные люди. Кроме того, их трофейные маскировочные костюмы с капюшонами, камуфлированные зелеными и бурыми разводами, удачно подходили под общий тон местности. Заметив наблюдателей на расстоянии, немцы свободно могли принять их за своих.
К тому времени туман начал окончательно рассеиваться, моросью оседая на землю. Наконец в трубке радиотелефона послышался голос комбата:
– Мы в десятом квадрате на высоте двести тридцать пять. Сидим в какой-то яме. Старая воронка, что ли. Воды по колено. Здесь, на возвышенности, тумана нет. Видимость полкилометра. В северо-западном углу квадрата посадки. Оттуда слышен шум прогреваемых моторов. Основного ориентира, который нам указали, в натуре не существует. Сохранились остатки ветряка, отмеченного на карте. Триста метров восточнее – скопление пехоты. Похоже, выдают завтрак. Тут поблизости стрелковые ячейки. И ход сообщения…
– Слушайте приказ, – ответил Русинов. – Будете корректировать огонь своей батареи. Сначала дадим сосредоточенный по посадке, потом перенесем его к центру квадрата по пехоте. В паузе постарайтесь уйти. – И передав трубку связисту, капитан поглядел на меня: – Ну, Абросимов, не подведи! Ты старший на батарее…
В девять двадцать после недолгой пристрелки пушки открыли огонь по лесопосадке. Корректировщики работали четко. Я держал постоянную связь с комбатом и по всему чувствовал, что наши снаряды нащупывают цель. Наблюдателям было видно, как в воздух вместе с землей летели доски и обломки блиндажного наката, как что-то горело там и рвалось, как, ломая молоденькие деревья, из зоны артналета удирали бронетранспортеры.
Неожиданно комбат резко изменил прицел. Я посмотрел на карту и все понял: они вызывали огонь на высоту 235.
– Повторите данные! – закричал я в трубку.
– Все правильно, – ответил командир батареи. – Эти сволочи заметили нас. Прут – головы не подымешь. Да ты не сомневайся, свои снаряды нас не возьмут. Не зря наши бабы их на руках таскали.
Вероятно, нет командира, который бы внутренне не сопротивлялся такому решению, но в силу вступало железное слово «надо», и отвертеться от него не было никакой возможности. Теперь все зависело от наводчиков и старшего на батарее.
Не давая противнику прийти в себя, орудия перенесли беглый огонь к подножию высоты.
– Не нравится! – хрипел в трубке голос комбата. – Полезли по норам. Как крысы…
Я испытывал такое чувство, будто стреляю по самому себе. Это продолжалось до тех пор, пока огонь не был перенесен в центр квадрата.
Теперь в дело вступил весь дивизион. Заговорил бог войны! Дрожала земля, в ушах звенело, сладковатый пороховой дым щекотал ноздри, и от мокрых стволов пушек шел пар…
…Но все это случилось потом. Тогда же, в училище, в последние дни марта мы были озабочены исключительно вопросами личной свободы. Хотя бы на один-единственный денек.
– Никто не имеет права держать нас под замком, – кипятился Юрка Васильев. – Пусть немедленно дают увольнительные!
Но увольнительных не давали. И тогда первым по-настоящему взорвался тот, от кого мы этого меньше всего ожидали – наш помкомвзвода.
– Да гори оно все синим огнем! – стукнул кулаком по стене Сашка Блинков. – Я что, не человек? Мне что, в город не надо? Или, может, я набивался в помкомвзвода? В самоволку надо идти всем.
– Тогда вперед! – подхватился Витька Заклепенко.
– Посадить на губу могут одного-двух, – развивал свою мысль Сашка. – Троих от силы. Весь взвод, однако, не посадят. Места не хватит.
– Точно! – поддержал его Юрка Васильев. – Да и какая же это самоволка, если приказом наркома нам присвоены командирские звания…
Невдалеке от казармы глинобитная стена под колючей проволокой имела удобную седловинку. Ею, надо думать, пользовалось не одно поколение курсантов, потому что глина в этом месте была отполирована до блеска. Однако сейчас этот путь был для нас неприемлемым, через него могли уйти незамеченными один, от силы двое. Кто-то предложил отодрать фанеру на окне, которое выходило на боковую улицу. Попробовали – получилось. И даже не бросалось в глаза, если потом поставить фанеру на место. Эту операцию поручили дежурному по роте Боре Соломонику. Обратно уже по одному можно было возвращаться и старым, испытанным способом.
В самоволку пошли даже те, у кого в городе не было ни дел, ни знакомых. Я очень хотел встретиться с Таней, но совсем не был уверен, что она обрадуется мне. Вот уже две недели, как я не заглядывал в санчасть.
Все получилось глупо до смешного. Когда вечером меня вызвала Валя Румянцева, и мы стояли, беседуя под деревом, возле проходной появилась Таня. Она шла на дежурство и, проходя мимо, сделала вид, что не заметила меня. Но я-то знал, что заметила. Возможно, не так все было бы обидно, если бы между мною и Валей и в самом деле существовал тайный сговор. Я уже с первых слов догадался: меня она вызвала только потому, что вот так, прямо и откровенно пригласить Сашку ей было неудобно. Ох, уж эта логика влюбленных! Ставить меня в дурацкое положение удобно, а позвать того, кто ей действительно нужен, – извините, нет. Но чего не сделаешь ради близкого человека!
– Все беру на себя, милая Валя, – пообещал я. – Вы завтра же встретитесь с моим другом Сашей Блинковым.
– Получается как-то нехорошо, – с сомнением покачала она головой, и ее теплые глаза все с той же растерянностью поглядели на меня. – Неудобно, что он обо мне подумает?
– Неудобно курсанту становиться в строй С зонтиком, – ответил я. – А все, что естественно, то удобно. Ведь только что, вызывая меня, вы совсем не думали об этом. А тут…
К моему неожиданному посредничеству Сашка отнесся снисходительно. Он засмеялся, по обыкновению вытянув трубочкой губы:
– Я это, однако, знал еще тогда…
– Когда тогда?
– А когда ты мчался к проходной, как спущенный со сворки гончак. Только что голос не подавал…
Таня вообще не захотела объясняться на эту тему.
– Что ты, Женечка, переживаешь? – сказала она, глядя куда-то в пространство. – Рано или поздно это должно было случиться. Просто я не думала, что все кончится так быстро.
– Таня, Таня, о чем ты говоришь! Все это не имеет к нам никакого отношения, – взывал я к ее благоразумию. – Это все из-за Сашки Блинкова.
– Да, я не думала, что все пройдет так скоро, – твердила она, не в силах избавиться от своей навязчивой мысли. – Я не виню тебя. Ты совсем мальчик. Просто ты еще не дорос до настоящей любви. Об одном прошу, не приходи больше. Никогда…
И все-таки я не мог не пойти к ней в тот вечер. Если слухи верны, может случиться, что мы больше никогда не встретимся.
После поверки, когда старшина Пронженко удалился в свою каптерку, мы развернули скатки и уложили шинели под одеяла, по возможности, придав им очертания человеческой фигуры. Потом, переодевшись в чистое обмундирование, по одному попрыгали через открытое окно на улицу, а Соломоник быстренько замел следы – закрыл створки и поставил крашеную фанеру в оконный проем.
Опасаясь встречи с патрулями, я пробирался темными переулками. Из открытых дворов накатывал оглушающий аромат цветущих гиацинтов, и первые ночные бабочки роились возле редких уличных фонарей.
На мой стук Таня открыла не сразу. Наконец я услышал, как звякнула цепочка.
– Кто там?
– Телеграмма, – тоненьким женским голосом пропел я.
Она быстро отворила дверь и замерла на пороге все в том же своем халатике и шлепанцах на босу ногу. И все та же лампа, затененная абажуром, горела на столе. Какую-то секунду она колебалась, но потом лицо ее просветлело, она обняла меня и прижалась прямо на порожках всем своим сильным горячим телом.
– Ты сделал подкоп? – тихо спросила она и засмеялась.
– Нет, я пошел по другому пути – выломал окно.
– Дурачок, я сразу узнала твой голос.
Мы входим в комнату, и Таня усаживает меня рядом с собой. Ее чуть вздрагивающие пальцы касаются моего лба, моих бровей.
– Темно, – вздыхает она. – А я ведь так и не знаю, какого цвета у тебя глаза. Иногда мне кажется, что они карие, иногда – зеленые.
– Зеленые глаза у русалок.
– Вот пишут: глаза – зеркало души. А если меняется их цвет, то, значит, и душа меняется?
– Ничего это не значит, – виновато улыбаюсь я. – Меняться может только настроение.
– Хорошо, если бы так…
В этот вечер все повторилось как в первый раз, и в то же время все было по-другому. Я никак не мог простить себе, что за все эти недели не сумел ни разу вырваться к ней. Все хорошее, что. дремало во мне, вновь проснулось с невероятной силой. И лишь горечь при мысли о предстоящей разлуке слегка приглушала радость встречи.
Уже после полуночи мы пили настоящий чай, который Таня на что-то выменяла на базаре. Здесь он был большой редкостью. А настольная лампа накладывала деликатную ретушь на Танино помолодевшее лицо. Маленькая Наташка так и не проснулась опять, и я вдруг подумал, что мне уже, возможно, никогда не придется ее увидеть. Оба раза я заставал ее спящей…
Обратно в училище я пробирался через тот знаменитый лаз. Зацепился за колючую проволоку и слегка порвал на спине гимнастерку. При моем приближении Антабка зашевелился у себя в конуре, и я испугался, что он залает. Но пес узнал меня, и по глухому стуку я догадался, что он виляет хвостом.
Стараясь не скрипнуть дверью, я прошмыгнул в казарму. Было тихо, у столика дежурного привычно горела неяркая контрольная лампа. Но Боря Соломоник встретил меня несколько неожиданно:
– Женя, быстренько переодевайся во что похуже и беги на губу. Это распоряжение капитана Грачева. Караульный начальник сидит при часах и отмечает время явки всех, кто был в самоволке. Утром будет докладывать. Там-таки уже полвзвода насобиралось. – Боря горько вздохнул. – Мне приказано спуститься с мостика последним, хотя я совсем не капитан.
Я окончательно опешил:
– Скажи хоть, что тут произошло!
– А ничего не произошло, – уже потише стал объяснять Соломоник. – Пришел капитан в половине двенадцатого. Я доложил ему, сам понимаешь, шепотом, что рота отдыхает. Все благородно, курсанты спят, укрывшись с головой, и видят сны. И вдруг черт несет этого помкомвзвода Красникова. Идет на двор, таки в одних кальсонах. Только шинель набросил. Ну, посторонился, чтобы пропустить капитана, а сам за одеяло рукой – цап! Качается, вроде сонный. И потянул… Тут уж вся бутафория, как на витрине. Роту подняли по тревоге, устроили перекличку, и вот…
– Это же он нарочно, сволочь, – вырвалось у меня. – Мстит за бойкот.
– Нарочно – не нарочно, гадать нет смысла. Надо спешить.
Я быстро сменил брюки и гимнастерку на рабочие и помчался в караульное помещение. Там моему приходу не удивились и ни о чем не спрашивали. Начальник караула по-деловому отметил в списке против моей фамилии время явки, а разводящий, сняв с меня ремень, повел через коридор в камеру с зарешеченным окном, которое до сих пор я не имел удовольствия наблюдать изнутри.
Все это было ужасно глупо, разбирала досада, но обитатели гауптвахты приветствовали меня таким жизнерадостным ржанием, что от души сразу отлегло. Тут явно никто не собирался вешать голову. Вот она, сила коллектива!
Ребята как ни в чем не бывало делились своими впечатлениями о проведенном вечере. Все были возбуждены, и спать никому не хотелось. Угомонились только под утро. В довольно просторной комнате набилось столько народу, что караульные вынуждены были притащить из казармы несколько матрасов и расстелить их прямо на полу, потому что на нарах места всем не хватило.
Рано утром нас по очереди стали выдергивать на допрос к командиру батальона, который, точно в гоголевском «Ревизоре», тщетно пытался установить, кто же первый сказал «э!».
Потом нас поочередно посетили командир роты и лейтенант Абубакиров. Чижик выглядел очень расстроенным. Он все время сокрушенно качал головой:
– И как вас угораздило? Эх, дела-делишки…
Я давно заметил, что это любимое присловье в зависимости от обстоятельств могло иметь у Чижика множество всевозможных оттенков…
Абубакиров был, как всегда, непроницаем. Он выслушал наш рассказ, но искать инициаторов самоволки не пытался. Он только посмотрел на Сашку, который, потупившись, стоял у двери, и вздохнул:
– Ну и помощничка я себе выбрал…
– Так это же не его затея, – шмыгнув носом, вступился Витька.
– Виновных не ищу. Если бы мне удалось найти зачинщика, я бы считал, что вся моя наука пропала даром. За все отвечает взвод!
– Товарищ лейтенант, – обратился Соломоник, – а что же с нами дальше будет?
– Ах, это вы, – повернулся к нему Абубакиров, – в чужом пиру похмелье? Не знаю, не знаю… Будущее ваше туманно, господа…
На завтрак нам принесли бачок пустой каши. Начальник караула объяснил, что по распоряжению командира батальона мы находимся под строгим арестом и не будем получать ничего, кроме отваренной на воде пшенки и кусочка черного хлеба. На кухне уже предупреждены.
Сашка как старший по чину приготовился раскладывать по мискам кашу. Он запустил поглубже черпак, и вдруг на лице его отразилось крайнее изумление:
– Однако…
Под слоем пустой пшенной каши лежали здоровенные куски тушеной говядины, которая так и плавала в жиру.
Завтрак получился отменный, только ртов на один бачок было многовато.
К обеду караульные притащили нам шахматы и домино, а к вечеру две пачки бийской махорки. И мы могли спокойно курить, пуская дым через открытую форточку.
Все было бы ничего, если бы не мучила неизвестность. Сидим на гауптвахте и не знаем срока своего наказания. Только на третий день пришел Зеленский. Вел он себя сдержанно и сухо. По-моему, он обиделся на нас. Видимо, ему была хорошая накачка. Они вместе с начальником караула повели всех под конвоем к штабу. Вид у нас был неважнецкий. То ли пленных ведут, то ли толпу арестантов по Владимирскому тракту…
Без ремней и пилоток в окружении часовых с карабинами наперевес нас провели по плацу, с которым было связано столько всяких воспоминаний. Со всех сторон на нас глазели любопытные. Интересно, сравнивал ли Сашка в тот момент свое состояние с состоянием тех людей, которых мы еще недавно водили по городу в комендатуру?
Нас выстроили у штаба, и так мы простояли минут двадцать, не меньше, пока на крыльцо не вышел начальник училища. У него был вид человека, которого по пустякам оторвали от дела.
– Лацюги! Разгильдяи с Покровки! – крикнул он и повернулся к начальнику караула: – Зачем пригнали сюда этих арестантов? Мне говорить с ними не о чем.
На крыльце появился майор Рейзер. Кивнув в нашу сторону, подполковник сказал:
– Всех до одного выпустить сержантами. Пусть кровью и потом зарабатывают золотые погоны…
Неожиданно мною овладело полнейшее безразличие. Я не испытывал никакого страха за свою судьбу…
– А пока нечего держать их на дармовых харчах, – объявил подполковник. – Сегодня же отправить на лесозаготовки! Пусть покатают бревнышки.
Он уже совсем собрался уходить, но вдруг остановился, видимо, вспомнив о чем-то, и, повернувшись к Зеленскому, спросил:
– Что это за гривы отпустили ваши молодчики? Младшим командирам прически не положены. Давайте парикмахера, и прямо здесь, – он ткнул перед собой пальцем, – всех до одного – наголо, под Котовского!
В течение 1 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.
Из сводки Совинформбюро.







