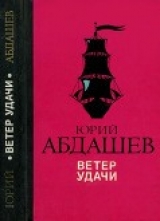
Текст книги "Ветер удачи (Повести)"
Автор книги: Юрий Абдашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Насыщенный впечатлениями день закончился последним построением роты на вечернюю поверку. От пережитых волнений нас всех клонило ко сну, а старшина, как назло, все говорил о чем-то, все читал свою бесконечную мораль. Сами собой слипались глаза. Кое-кто из наиболее нетерпеливых, стоящих во второй шеренге, начал незаметно раскручивать обмотки. Дело было далеко не простое. Для этого следовало поднять одну ногу и, соблюдая равновесие, не меняя положения корпуса, распустить тесемку и скатать обмотку в тугой рулончик. При этом глаза должны были пристально смотреть в рот старшине и выражать крайнюю степень заинтересованности. Только опыта у них еще не хватало, и Пронженко без труда разгадал нехитрый маневр.
– Спишыть? – ехидно поинтересовался он. – Шо ж, трохы поучимось порядку. Закрутыть обмотки! Оправыть гимнастерки! Провожу повторну поверку. Рота-а, смирна!
В течение 10 сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, а также в районе Моздок и уличные бои в Новороссийске.
На других фронтах существенных изменений не произошло.
Из сводки Совинформбюро.
3. КУРС ОДИНОЧНОГО БОЙЦА
Каждое утро начиналось с трубы, игравшей сигнал «повестки». Он был непродолжительным и не слишком громким, звучавшим как бы под сурдинку. Если я уже не спал в это время, то мог спокойно рассчитывать на целых пять минут полудремотного блаженства с натянутым на голову одеялом и закрытыми глазами. Это был еще не наш сигнал, он предназначался для начальства. Услышав его, дежурный должен был будить старшину, койка которого стояла прямо в каптерке. Но зато через пять минут…
В утреннем, еще не омраченном дымами воздухе сигнал подъема звучал возбуждающе-призывно, как мощный голос средневекового боевого рога. В ту же секунду полумрак казармы озарялся вспышкой электрических лампочек, звенел звонок, и голос дежурного, а за ним и старшины отрывал нас от теплых подушек и подбрасывал над койками.
– Подъем!
– Подъе-ем, – давил на барабанные перепонки металлический голос старшины Пронженко. – А Голуб досе спыть?
Спрыгнуть на пол с верхнего яруса было делом одной секунды. Тут главная задача заключалась в том, чтобы не зашибить обитателей первого этажа. Все разложено и развешано на своих местах: брюки, гимнастерка, ботинки, обмотки, ремень – именно в этом порядке. Но в проходе между койками нас четверо, а старшина стоит над душой с часами, у которых имеется секундная стрелка, и в такт ее частым рывкам стучит по полу кожемитовой подметкой: так, так, так.
Через несколько дней после прибытия нам выдавали оружие. Старшина записывал в реестр и громко объявлял номера винтовок, а вручал их сам командир взвода. Я рассчитывал, что карабин мне передадут торжественно из рук в руки, но тут было заведено по-другому.
– Абросимов!
Я делаю два шага вперед. Лейтенант берет винтовку за ложу чуть повыше разрезного кольца. Держа ее стволом вверх, он командует «лови!» и резко отбрасывает от себя. Не знаю, каким чудом мне удается поймать карабин на лету, тем более, что с такой манерой передачи оружия я совершенно незнаком – ведь по списку меня выкликнули первым. Мне остается только повторить выбитый на казеннике номер и стать в строй. Товарищи мои теперь хотя и подготовлены, но я все равно вижу, как они жмутся и краснеют, как от напряжения у них дрожат руки. Что будет, если оружие грохнется об пол?
У лейтенанта это получалось так ловко и изящно, что никто из нас карабин не упустил. Потом нам еще раз повторили правила обращения с оружием и ухода за ним, приказали каждому заготовить бирочки с номером и своей фамилией для отведенного гнезда в ружейной пирамиде.
– Товарищи курсанты, – сказал напоследок Абубакиров, – запомните: вы можете забыть свою собственную фамилию, год рождения, но номер карабина – никогда.
У входа в красный уголок висел плакат с крылатыми суворовскими словами: «Тяжело в учении – легко в бою». Надо отдать должное, наши командиры неукоснительно следовали завету великого полководца и делали все возможное и невозможное, чтобы облегчить нашу участь в предстоящих боях.
Занимались мы в среднем по четырнадцать часов в сутки.
При всей замкнутости узкого мира, в котором мы вращались, при всей нашей мальчишеской беспечности мы не могли не ощущать того, что происходило за стенами училища. В красном уголке висел черный, похожий на тарелку, репродуктор, и вечерами нам разрешали слушать оперативные сводки с фронтов. Мы видели, как все более озабоченными становятся лица наших командиров. Немцы подходили к Сталинграду, к Волге. И от нас требовали одного – быстрее, быстрее!
Строевая подготовка – вколачивание и без того утрамбованного гравия на широком плацу – тум, тум, тум. И команды: «На пле-е-чо! К но-о-ге! Шаго-ом марш! Кру-у-гом!» Обязательные занятия в штурмгородке – преодоление бума и полосы препятствий, окапывание, лазание через стенку, проделывание проходов в проволочных заграждениях…
Изучение матчасти мы воспринимали как подарок судьбы. Не надо было тратить драгоценных калорий. Сиди себе в уютном сухом классе, разбирай автомат или ручной пулемет. И солнце не печет, и за ворот не капает. Если говорить по справедливости, мы не были такими уж неоперившимися птенцами. Еще в шестнадцать лет на школьных занятиях по военному делу мы могли на спор с закрытыми глазами разобрать и собрать затвор винтовки и, когда очень хотели, умели держать строй. Многие из нас были ворошиловскими стрелками и дырявили в тирах грудные мишени, а это было не так уж мало…
Тридцать лет мне не приходилось держать в руках боевого оружия, но я уверен, что и сейчас смог бы не глядя разобрать ППШ и даже, возможно, ручной пулемет Дегтярева, хотя из названий только и помню, что боевые упоры да ромбоидальный вырез, или, может быть, наоборот, выступ, в одной из частей затвора. Почему именно– ромбоидальный? Скорее всего из-за непонятного и странного звучания этого слова, когда-то в юности поразившего мой слух и прочно оттиснутого в памяти. А у ручника, помнится, одних задержек надо было запомнить около десятка.
Невдалеке от казармы проводятся занятия по штыковому бою: «Дела-ай… раз! Дела-ай… два! Коротким коли! Прикладом отбей!» Потом мы, задыхаясь, с криком «ура!» и карабинами наперевес бежим в последнюю решительную атаку и с выпадом колем обшитые парусиной чучела. Граненый штык с хрустом входит в слежавшуюся солому, и от этого страшного звука мороз продирает по коже.
Я не знал, как погиб мой отец. А в том, что он погиб, я почти не сомневался. Иногда по ночам, уже засыпая, я пытался представить себе лицо человека, который выпустил в него пулю. И тогда меня охватывала такая лютая ненависть, что слезы наворачивались на глаза. Чтобы встретиться с ним, я, кажется, согласился бы пойти на край света. И наверное, в тот миг в этом набитом трухлявой соломой пугале мне мерещился именно он, мой кровный враг – фашист.
До тех пор чувство ненависти было мне неведомо. В мирной жизни существовало столько всего заслуживающего внимания и любви, что на ненависть не оставалось ни места, ни времени.
Я ходил в школьный музкружок, занимался в духовом оркестре. Всех нас, кто играл на альтах, называли «истаташниками», потому что, разучивая вальсы, мы постоянно отсчитывали такт: «ис-та-та, ис-та-та…».
Я, наверное, никогда не стал бы настоящим музыкантом, хотя и нотную грамоту усвоил, и слухом природа меня не обидела. В кружке я занимался оттого, что любил острый звук медной трубы, словно бы исторгаемый самой душой, и чудо превращения ничего не выражающих отрывочных колебаний воздуха и пауз самых разных инструментов в единое гармоничное звучание. Это было великолепно! Я и здесь, в училище, с волнением слушаю, как возникают и доносятся знакомые звуки из репетиционной комнаты музвзвода, и порой испытываю желание переложить на ноты любой сигнал трубы.
Были у меня и другие увлечения, как тайные, так и явные. К тайным я отношу Лидочку Сонкину. Она сидела в левом от меня ряду, возле окна. Когда на третьем уроке солнечные лучи добирались до ее парты, простреливая легкие золотые волосы, Лидочкина голова вспыхивала, как только что родившаяся звезда первой величины. Ее окружало сияние в несколько миллионов свечей, так что смотреть становилось больно. У Лидочки Сонкиной была атласно-белая кожа с легким румянцем на щеках. И, хотя Лидочка была круглой отличницей, она всегда мучительно краснела, когда ее вызывали к доске. Мне нравилось в ней все: и то, как она одевается, и то, как произносит шипящие звуки, почти не разжимая зубов, – «жук, жужелица…».
Мы проучились с ней с шестого по девятый в одном классе, и я ни разу с ней не заговорил. Ни разу! Меня считали общительным парнем, а тут при виде ее словно столбняк находил, и я терял дар речи. О Лидочке можно было только мечтать… Как это было давно!
Теперь все иначе. Часто по ночам, а иногда и под утро, когда сон особенно сладок, гремит сигнал учебной тревоги: соль-соль-соль, соль-ми-до… Топот тяжелых ботинок по казарме, недолгая толкотня возле пирамиды с оружием, и рота построена. Бывает, тут же, после короткого осмотра курсантов, их амуниции и одежды звучит отбой, и старшина, притворно тараща глаза, орет во все горло: «Воздух!» Это означает примерно то же, что команда «разойдись!». И тогда мы снова, торопясь не меньше, чем при сигнале тревоги, раздеваемся и валимся в постели. Это чем-то напоминает кино, когда механик начинает крутить ленту в обратном направлении.
Но случается и по-другому. Мы выходим с полной выкладкой из ворот училища и, где шагом, где бегом, проносимся по темным улицам спящего города, и сентябрьское солнце встречает нас далеко в поле. Мы идем долго, без привалов. От напряжения покалывает в левом боку, и во рту вместе с тягучей слюной собирается горечь. Страшно хочется пить. И хоть река пробегает где-то поблизости – иногда нам даже чудится, будто мы слышим плеск воды, – из строя никому выходить не разрешают. При таком темпе жара кажется нестерпимой. Над холмами дрожит струистое марево, и солнце, как медовые соты, истекает липким зноем. В бездонной вышине парит беркут. На концах его крыльев растопыренной пятерней торчат жесткие перья.
Впереди взвода со скаткой через плечо и противогазом на боку широко шагает неутомимый лейтенант Абубакиров. Удивительная вещь: пыль у нас оседает даже на бровях и ресницах, а он выглядит так, словно только что вышел из бани. И лишь гимнастерка на его спине чернеет от пота. Иногда лейтенант сходит с дороги и, пропуская нас, покрикивает слегка охрипшим голосом:
– Шире шаг! Подтянись!
И тогда последним шеренгам приходится снова переходить на бег, а вместе с ними рысцой догоняет голову колонны и наш командир. Сашка Блинков обычно замыкает строй. Лицо его налито кровью и обожжено солнцем. Он поторапливает отстающих.
Но наступает минута, когда кажется, что это твой последний шаг. В глазах темнеет, язык становится сухим и шершавым, как драповый напильник. И как раз в этот момент звучит команда:
– Стой!
Дистанция между взводами сокращается, постепенно подтягиваются отстающие. Старшина Пронженко, пробегая мимо по обочине, весело кричит:
– Сойти с дороги! Открыть затворы, свернуть курки!
На языке старшины эта уставная команда означает разрешение справить нужду.
– Привал вправо! – объявляет взводный. – Пять минут. Давайте сюда, поближе.
И он объясняет нам, что чувство жажды приходит к человеку не столько от недостатка воды в организме, сколько от потери солей, которые уходят вместе с потом.
– Часа через полтора подойдем к реке, и вам разрешат напиться, – говорит он. – Так вот, мой совет: хорошенько пополощите рот и горло, а пить не больше трех глотков. Иначе вам будет совсем скверно.
И снова пыль, выбиваемая из дороги сотнями пар тяжелых ботинок. А потом: «Воздух!», «Танки слева!», «Кавалерия с фронта!» В зависимости от обстоятельств нужно либо рассредоточиваться, либо залегать в цепи, либо выстраиваться соответствующим образом с карабинами на изготовку – и «Взвод, залпом пли!». На военном языке это называлось «разыграть вводную».
Рядом со мной, стиснув зубы и подавшись вперед всем телом, идет Лева Белоусов. Впалые щеки его бледны даже в такую жару, а на выгоревших бровях блестят кристаллики соли. Впрочем, соль в виде замысловатых вензелей оседает и на наших гимнастерках, делая их похожими на контурные карты.
Левка у нас на особом положении. К слишком «правильным» ребята всегда относятся настороженно, а иногда даже с опаской. Кто их знает, что они выкинут? За сравнительно короткий срок мы успели хорошо узнать этого длинного худого парня. Он был справедлив и честен. Чересчур честен даже в мелочах. Он все делал как положено, и его сразу же отнесли к разряду «правильных». Но, несмотря на это, от него не отгородились.
И лишь однажды мы смогли уличить его в плутовстве. Левка откровенно словчил на медицинской комиссии. Хирурги придирчиво ощупывали наши кости и суставы, глазники были хотя и бдительны, но уже помягче, а терапевты только слушала сердце, спрашивали о жалобах и всех без разбору направляли на рентген. И вот тут-то, еще в коридоре, где над дверью загоралась красная табличка «Не входить», он попросил Витьку Заклепенко:
– Слушай, там темно, ни черта не видно. Когда назовут мою фамилию, встань вместо меня к аппарату. – Это был единственный случай, когда в его голосе прозвучали заискивающие нотки. – К тому же нас все равно не знают в лицо…
– А зачем? – не понял Витька.
Левка замялся и покраснел:
– Видишь ли, у меня скверно с легкими. В армию брать не хотели… А тут уж наверняка зарежут.
– Ну и ловкач, – баском хихикнул Заклепенко, подтягивая локтями штаны. – Ладно, у меня шкура крепкая, выдержит.
Правда, об этом обмане быстро забыли, тем более что круг посвященных был ограничен…
По другую сторону от меня скачущей походкой шагает Володя Брильянт. Командир одного из взводов соседней роты младший лейтенант Зеленский как-то сказал о Брильянте, что он не тот – не самый крупный в короне британского короля. Тем, что Володька худой и длинный, нас не удивишь. Помнится, при первой встрече в его фигуре меня поразила вопиющая диспропорция, полнейшее неуважение к архитектуре человеческого тела. Я решил даже, что его родители не имели ни малейшего понятия об анатомии. Казалось, что ноги у него росли прямо из груди, а на маленькой, как кулачок, голове непомерно большими выглядели оттопыренные уши. К тому же он еще и заикался немного.
Однако вскоре выяснилось, что родители Володьки тут ни при чем. Виноват старшина, выдавший ему слишком глубокие штаны, из-за чего парню пришлось переместить талию почти под мышки. Остальное же, как уверял Лева Белоусов, было чепухой – немного терпения, и Володька перерастет. Дай-то бог! Во всяком случае, это безропотный и добрейший малый.
А с Андреем Огиенко происходят странные вещи. Он молчит, ни с кем не заговаривает, не отвечает на вопросы. Я вижу, как наш лейтенант то и дело поглядывает на него с любопытством, а возможно, и с затаенной тревогой.
Домой мы возвращаемся уже после обеда. В столовой на нас заявлен расход. Там наше не пропадет. В училище мы спешим, как рабочая лошадь в свое стойло, без понукания. Едва входим в город, старший лейтенант Мартынов останавливает роту, заставляет подравняться.
– А ну, запевай! – приказывает он. – Васильев, давай «От голубых Уральских гор…».
Рота дружно подхватывает песню и, лихо печатая шаг, марширует по улицам. Наша пропотевшая одежда присыпана пылью, а лица потемнели от солнца, но мы, как бы глядя на строй со стороны, втайне любуемся собой.
Но вдруг песня сначала вянет, а затем смолкает совсем. По рядам пробегает сдержанный смешок, потом и откровенный хохот. Курсант Голубь, шагавший правофланговым в четвертой шеренге, отключился. Сначала он только прикрыл глаза, на всякий случай касаясь локтем соседа слева, а потом незаметно уснул. Только неведомый сторожевой центр в мозгу, как гирокомпас, помогал ему выдерживать заданное направление. Он, видимо, уже не раз прибегал к такой уловке. Но тут его подвела улица. Она стала изгибаться влево, а Голубь как шел, так и продолжал идти прямо с закрытыми глазами. Пока не врезался в каменный бордюр тротуара…
Вечером в казарму пришли военврач второго ранга и пожилой военфельдшер. Они о чем-то долго говорили с капитаном – командиром батальона. Перед вечерней поверкой старшина Пронженко объявил нам, что сейчас будет производиться осмотр по форме двадцать. Говоря попросту, это означало, что у нас будут искать вшей. Делалось такое не первый раз, и по этой части рота уже успела накопить опыт. Нас построили в две шеренги лицом друг к другу. По команде мы скинули пояса, расстегнули гимнастерки и, сняв их через голову вместе с нательными рубахами, вывернули на левую сторону, не стаскивая рукавов. Старшина и пожилой военфельдшер шли по проходу и внимательно изучали у каждого бельевые швы, особенно на боках и под мышками.
Все шло спокойно, своим чередом, пока проверяющие не добрались до Огиенко.
– Ото, – громко сказал военфельдшер и подозвал старшину.
Все головы разом повернулись в их сторону, и шеи вытянулись.
– И дэ цэ ты цией дряни набрався? – с испугом проговорил Пронженко. – А ну, выходь з строю.
Огиенко стоял как истукан, не шевелясь, не отвечая на вопросы. И вдруг я увидел, как из его полуоткрытого рта струйкой потекла на грудь тягучая слюна. Взгляду него был совершенно идиотский.
– Так-так, – в раздумье проговорил военфельдшер, – собирайся! Товарищ старшина, продолжайте осмотр, а ему пусть помогут одеться – и быстро в изолятор.
Сашка Блинков и Лева Белоусов натянули на него одежду и, подхватив под руки, повели по коридору. Следом за ними направился и военфельдшер.
– Оде ще мэни прыдуркив нэ було в роти, – с досадой махнул рукой старшина. – Пидравняйсь! Продовжуем осмотр.
Весь следующий день мы обсуждали историю с Огиенко, благо времени для этого было достаточно, так как нас всех вне очереди повели в баню.
Каждый день нам полагается час на самоподготовку и один час свободного времени, когда можно написать письмо, пришить подворотничок или пуговицу, почистить оружие. И вот именно в этот свободный час в казарму вбежал Левка Белоусов и крикнул:
– Вы, там раненая собака!
– Ка-ак раненая? – не понял Брильянт.
– Обыкновенно. Пол-лапы нет. Как отрезал кто. Аж качается бедолага. Видать, крови много потеряла.
Человек пять выскочило во двор. Прямо возле крыльца сидел, понурив голову, небольшой лохматый пес с длинной свалявшейся шерстью. Он держал на весу правую переднюю лапу, с которой капала на землю темная кровь. Два или три пальца были оторваны и болтались на коже. Пес то и дело лизал рану и тихонько поскуливал.
– Если бы его отмыть, – сказал Левка, – он бы оказался пепельного цвета с черными крапинками. И уши тоже черные.
– А корейцы, что ли, говорят, собак едят, – ни к селу, ни к городу вставил Сорокин.
– Где, однако, Соломоник? – спросил Сашка Блинков. – Он должен разбираться в медицине. Как-никак в аптеке работал.
Но Соломоник в медицине не разбирался.
– Давайте оттащим ее в санчасть, – пришла мне в голову гениальная идея. – Там и бинты есть, и йод, и все, что угодно.
– Ну ты, Абросимов, скажешь, – засмеялся Сорокин. – Им только собак не хватало.
– Ладно, тащите в санчасть, – поддержал меня Сашка. – За спрос денег не берут.
Я хотел взять пса на руки, но побоялся причинить ему боль, да и опасался испачкаться в крови. Однако пес словно понял наше намерение. Он поднялся и, отдыхая через каждые десять шагов, с трудом прыгал за нами на трех лапах.
В перевязочной мы застали только медсестру. Она была уже не молоденькая, лет под тридцать. Но женщина эта сразу чем-то поразила меня, и я даже на какое-то время Забыл, ради чего сюда пришел. Высокая, широкобедрая, белотелая. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не следы оспы, несколько портившие лицо. Оно напоминало прекрасный плод, побитый летним градом.
– Как вас зовут? – спросил я, словно во сне.
– А у вас для меня телеграмма? – засмеялась она.
У этой медсестры не было ничего общего с Лидочкой Сонкиной, моей одноклассницей, скорее всего они были полной противоположностью, и тем не менее я испытывал знакомое состояние, близкое к остолбенению.
– Нет телеграммы. Просто так.
– Таня, ответила она удивленно. – Что там у вас стряслось?
– Раненого привели, – сказал Белоусов, вваливаясь в перевязочную следом за мной. – Нужны бинты, йод, вата…
Серые глаза медсестры испуганно округлились.
– Не стоит волноваться, – выглянул из-за Левкиного плеча Соломоник, – это собака. Правда, очень ценной породы. Новозеландский терьер.
– Это там, где кенгуру? – спросила Таня.
– Почти, – кивнул Боря. – Совсем рядом.
– Тогда пойдемте посмотрим.
Она сняла халат и вышла на улицу. Пес сидел перед дверью все в той же позе, держа лапу на весу. Казалось, он понимал, зачем его сюда привели.
– Боже, да ведь это же самая настоящая дворняжка! – воскликнула сестра.
– А мы все тут не княжеского рода, – обиделся за пса Белоусов.
– Да я не к тому вовсе, – засмеялась Таня, и голос ее прозвучал очень мелодично. – Ладно, давайте посмотрим. – Она опустилась возле собаки на корточки. – А ну, больной, покажите лапку.
Пес вздохнул, но лапу не убрал. Осмотр был недолгим.
– Вот что, ребята, никаких бинтов собаке не нужно. Йод при таком ранении тоже ни к чему. Это вам полезно знать. Она просто залижет это место, и вся история. Вы подержите песика, а я сейчас, мигом. Тут необходимо маленькое вмешательство, пока нет никого из начальства.
Через минуту Таня вернулась с ножницами и стаканом, в котором плескалась какая-то прозрачная жидкость.
– Подержите, – сказала она, передавая стакан Соломонику.
Пес даже не взвизгнул, так мгновенно Таня отхватила ему болтавшуюся на коже часть лапы. Потом она полила на рану из стаканчика, и прозрачная жидкость побелела, запузырилась с легким шипением.
– Все, до свадьбы заживет, – пообещала Таня. Сейчас ее подкормить надо. Она, наверное, голодала целую неделю.
Под деревянным крыльцом мы устроили собаке временное логово, наносив туда сухих стружек из мастерской. Я работал с интересом, но сам не переставал думать о встрече с медсестрой Таней. А Левка тем временем, пользуясь своим авторитетом, выпросил на кухне большую жестянку из-под консервов, куда ему плеснули половник обеденного супа.
Когда наша активность по оборудованию собачьего жилья достигла наивысшего накала, на пороге казармы появился командир роты. Мы вскочили, одергивая гимнастерки. Рыжая бровь старшего лейтенанта поползла вверх.
– Что это у вас там? Собака? – спросил он. – А завтра вы приведете в казарму корову. Или слона. Чтоб духу ее не было!
– Товарищ старший лейтенант, – твердым и даже каким-то непреклонным голосом начал Белоусов, – собака ранена. Если ее прогнать, она погибнет.
– Вот именно, – поддержал я Левку. – Разрешите оставить. Хотя бы на несколько дней. Жалко ведь…
– Зарубите себе, – брезгливо проговорил командир роты, – воину слюнтяйство не к лицу. Оно как ржа разъедает устои армии. В этом все. Отсюда вшивость, кража портянок и нечеткий шаг в строю. Вы заканчиваете курс одиночного бойца, а что вы о нем знаете, в чем его сила?
– В том, что он не одинок, – ответил Левка, глядя прямо в глаза командиру роты…
20 сентября. В районе Синявина продолжаются бои… Противник подтянул резервы и оказывает упорное сопротивление.
Из сводки Совинформбюро.







