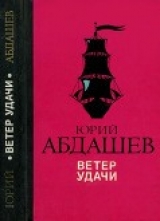
Текст книги "Ветер удачи (Повести)"
Автор книги: Юрий Абдашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
– Я тут проторговалась, – не глядя ни на кого, вздохнула пленница. – Только на билет и наскребу…
– Что за разговорчики? С нами не пропадешь, – успокоил ее дон Хуан. У него были черные усики и маленькая бородка клинышком. – А пока – за дело!
– Мясо я ем только с кончика шпаги, – сказала она, не меняя положения и даже не подняв головы.
– Будет вам и шпа-га, будет вам и проч-чее, – пропел дон Хуан.
Он достал из-под куста откупоренную бутылку, и Кешка, прятавшийся за деревьями, услышал, как громко булькает вино, разливаемое по стаканам. Потом испанец наколол на проволочный шампур кусочек шашлыка и подошел к поваленному дереву.
Чего бы Кешка, кажется, не отдал, чтобы быть сейчас на его месте!
– Вах, какой шашлык! – воскликнул испанец, поводя носом и закатывая глаза. – Тебе останется только облизать пальчики, клянусь святой инквизицией!
– Шашлык из свинины – это не шашлык, – заметил дон Диего.
– Важно не что жарят, а кто жарит, – возразил дон Хуан, подавая леди Эмме наполненный стакан. – Я поднимаю этот маленький бокал, в котором нет ни одной капли яда, за большую и почти бескорыстную дружбу…
Коварству этих людей поистине не было предела. Через два дня негодяи привязали юную леди Эмму к стволу огромного дерева, словно бы и не они поднимали тост за бескорыстную дружбу. Платье на ней было изорвано, веревки впились в хрупкие нежные плечи. Пока расставляли осветительную аппаратуру и готовили камеру, она молчала. Только один раз попросила попить.
Кешка знал, что у крайнего вагончика всегда стоит ведерко с водой и кружка. Но сейчас рабочие наверняка не пропустят его через оцепление. А Большой Генрих только отмахнулся.
– Перебьешься. – Он отстранил оператора и припал глазом к кинокамере. – Пиратам не свойственно милосердие.
Но когда полная женщина в расстегнутом на груди пляжном халате подняла деревянную хлопушку и крикнула: «Дубль второй!», леди Эмма не выдержала:
– Развяжите! Тут муравейник. Генрих Спиридонович, миленький, честное слово! Они кусаются…
– Перестань капризничать и корчить из себя примадонну! – рявкнул Большой Генрих. – Я прошу потерпеть пять минут, только пять минут. – И он поднял над головой растопыренную пятерню.
Прекрасные синие глаза леди Эммы наполнились слезами, и кончик подбородка мелко и часто задрожал.
– Мотор! – крикнул Большой Генрих, вытирая со лба пот. – Все идет как надо. Этим муравьям надо поставить памятник при жизни за счет студии. До чего же естественно, черт побери! Плачь, дитя мое, плачь! О, эти невидимые миру слезы!
Кешка отчетливо представил себе, как злые растревоженные муравьи ползут по ее ногам и впиваются маленькими челюстями в нежную кожу под коленками.
В кармане у Кешки лежал большой перочинный ножик, который он выменял на «самодур» и три новенькие закидушки у одного из рабочих киногруппы. Это был превосходный шоферский нож с одним лезвием, двумя гаечными ключиками, отверткой и пилкой, боковая сторона которой имела насечку, как у бархатного напильника. И сейчас у Кешки возникла совершенно дикая мысль. Ему захотелось незаметно подобраться к дереву, перерезать веревки и освободить наконец это нежное существо от пиратов, а заодно и от Большого Генриха.
Кешка сунул руку в карман и так сильно сжал в кулаке ножик, что грани его стали врезаться в ладонь. Он уже представил, каким взглядом одарит его прекрасная, освободившаяся от пут пленница и как, спасаясь от погони, они вдвоем помчатся напролом через заросли к морю. Там, среди скал, они спрячутся в только ему знакомой нише, похожей на неглубокую пещерку, и Кешка станет приносить туда хлеб и таскать помидоры с соседского огорода. Вот только подойдет ли ей такая простая и грубая пища?
Он крутнул головой, насильно заставив себя разжать пальцы и вытащить руку из кармана. Но от этого не стало легче. Ему уже и самому казалось, что по его ногам ползут и впиваются в них полчища муравьев, и кожа от этого горела, как от ожога.
А Большой Генрих командовал:
– Уберите к черту эти дуги! Мягче свет, мягче. Направьте слева софит.
– Генрих Спиридонович, мне больно, – по-настоящему плакала несчастная леди Эмма.
– Так. Теперь дай крупняк! – будто не слыша ее, крикнул он оператору. – Яви миру слезу!
– Прекратите! – неожиданно заорал Кешка. – Вы что, глухие? Ей же больно!
– Гоните мальчишку в шею, – не оборачиваясь, махнул рукой Большой Генрих.
Двое дюжих парней кинулись выполнять приказание режиссера. Но Кешка ловко увернулся, прошмыгнув у них между ногами. Когда он опускался на четвереньки, под руку ему попал камень. Кешка схватил его и изо всех сил швырнул в громадное стекло вспыхнувшего софита. Послышался звон рассыпающихся осколков. Все замерли, и на площадке наступила мертвая тишина…
Дома родители пороли Кешку в четыре руки. А потом заперли в кладовку. За разбитое стекло матери пришлось заплатить пятнадцать рублей. Счастье еще, что не пострадали дорогая лампа и рефлектор. Возможно, Кешка отделался бы только одной мерой наказания, если бы стал плакать и просить прощения. Но он, сцепив зубы, упрямо молчал, и это особенно бесило взрослых.
В полутемной кладовке пахло мышами и пылью. А главное, так медленно тянулось время. Однако хуже всего было то, что он не знал, когда же наконец снова ощутит привычное состояние свободы. Кешка на минуту представил себя в положении узника, приговоренного к вечному заточению, и ему стало не по себе. И все же он не раскаивался в своем поступке, хотя и был уверен, что даже близко к съемочной площадке его теперь не подпустят.
Освободили Кешку только через восемь часов. Близился вечер, на дворе было по-прежнему жарко, и он первым долгом решил искупаться.
Считается, что некая неведомая сила влечет человека на место, где он совершил преступление. Возможно, именно поэтому Кешке захотелось по пути хоть одним глазком взглянуть на площадку, где утром проходили съемки. Там, конечно, никого уже не было, и только осколки толстого зеркального стекла поблескивали в вытоптанной траве. Кешка подошел к дереву. Он вдруг снова представил себе все, как было, и со злостью пнул ногой муравейник.
– Ну а муравьи-то при чем? – послышался с тропинки голос героя Миши. Он шел с полотенцем по направлению к вагончикам и улыбался.
Кешка махнул рукой и стал спускаться к морю, где рабочие вместе с пиратами возились на захваченном корабле. В тени под скалой он увидел дона Диего и дона Хуана. Раздевшись до плавок, испанцы играли в нарды. Но странное дело, прежней неприязни к ним он почти не испытывал. Все-таки виноват во всем был Большой Генрих. Кешка неслышно подошел и скромно уселся в сторонке.
– Вот паразитство, – вздохнул дон Хуан, – до чего же пить хочется. А в термосе ни капли…
– Терпи, – отозвался его приятель. – Еще полчасика, и явится наш спаситель – Буцефал.
Кешка знал, что Буцефалом киношники окрестили старую кобылу Зорьку, которая подвозила им воду в большой дубовой бочке. Он незаметно придвинулся поближе и спросил:
– А что это – Буцефал?
Дон Диего поднял густые брови, словно бы удивившись внезапному появлению парнишки:
– Ах, это ты, бунтарь-одиночка. И ты не знаешь, кто такой Буцефал? Это боевой конь Александра Македонского.
– Но ведь она кобыла, – удивился Кешка. – Да еще старая.
– Не имеет значения, – заметил дон Хуан, встряхивая кости в сложенных горстях. – У моего дяди Сурена в Нахичевани под Ростовом был здоровенный кобель, которого он назвал Пальмой. И, представь, на кобеле это никак не отразилось. Пес прожил шестнадцать лет. Дядя вообще был веселый человек.
Неподалеку в кустах возился электрик, подвешивая на сучьях резиновый кабель.
– Эй, на барже! – крикнул он, сложив рупором ладони. – Врубите верхний прожектор! Проверить надо!
– Погодь, – отвечали с «Глори оф де сиз», – сперва плотик смайнаем по тому борту.
– Ну что, дома били? – сочувственно спросил дон Диего.
Кешка молча кивнул и шмыгнул носом. Дон Диего с сожалением покачал головой, и в такт ее движениям на волосатой груди маятником закачался золотой крестик.
– А крест зачем? – спросил Кешка. – Вы что, в бога верите?
– Ему положено, он испанец, – ответил за товарища дон Хуан, сдувая с носа капельку пота. – Это не простой крест – католический!
– К тому же подарок, – заметил дон Диего.
– От кого?
– Мне вручил его лично Филипп Анжуйский – король Испании. От имени и по поручению самого римского папы Бенедикта Тринадцатого.
– Как сейчас помню, – подтвердил дон Хуан.
На следующий день вечером к одноглазому помощнику капитана пришел в гости Генрих Карлович – осветитель. Еще в дверях летней кухни он поднял вверх указательный палец и сказал торжественным шепотом:
– Не хва-та-ет.
– Всего-то? – спросил старый пройдоха.
– Всего. Пока магазин не закрыли.
– А что, острая необходимость?
– Тоска, Василь Сергеич, тоска-а…
Помощник капитана достал из кармана кошелек и вынул из него помятый трояк:
– Не забудь принести сдачу.
– Это уж как водится. Все чин чином.
Отец, после работы плескавшийся неподалеку под умывальником, даже по отрывочным словам и намекам умудрился сообразить, к чему клонится дело, и живо откликнулся:
– А что, мужики, принимайте меня третьим. – И, метнув на стол железный рубль, прихлопнул его ладонью.
Он заметно оживился и, вытирая полотенцем загорелую шею, весело крикнул:
– А ну, Ин-нокентий, живо дуй до мамки в магазин. Возьми хлеба и консерву.
– Какую?
– А какую даст, – развел он руками.
Уже через четверть часа трое мужчин сидели за столом, позвякивая гранеными стаканами. Кешка был до смерти рад, что его не прогнали, не попрекали за вчерашнее, и примостился в уголке на табурете, делая вид, что читает книжку. Над тускловатой, засиженной мухами лампочкой роилась ночная моль.
– Спасибо тебе, Василь Сергеич, что не побрезговал компанией, – вздыхал Генрих Карлович. – Я ведь знаю: ты эту заразу не потребляешь. Тем большее мне уважение…
– Ну, это ты брось, – строго ответил одноглазый. – Я ведь не из тех. Пора бы усвоить.
– Это точно, это ты в самую копеечку, – закивал головой осветитель. – Ведь простому человеку что надо? Чтоб его уважали. А когда его при всем народе, в присутствии, простите за выражение, дамы чуть ли не по матушке – это, вы меня извините, это ни в какие ворота.
– Наплюй, – посоветовал отец. – Лишь бы получку вовремя давали.
– Получка! – вздохнул старик. – Одни слезы…
Кешка зашевелился в своем углу. Он дольше не мог выносить одиночества.
– А отчего у вас фамилия такая смешная? – спросил он. – Околелов?
– Не по делу выступаешь, Ин-нокентий! – повысил голос отец.
– Пусть себе спрашивает, – остановил его Генрих Карлович. – Только все наоборот. Фамилия у меня совсем не смешная. Имя и отчество – это да, это не спорю. Я из-за них мно-ого неприятностей имел в прежние годы, особо во время войны. Все за шпиона принимали. Думали, будто фамилию эту я подделал. Только она у меня самая настоящая, от деда и прадеда. А насчет имени, так это сперва дед отцу удружил. У нас на Волге вокруг немцы-колонисты жили, вот деду, видать, оно и понравилось. А отец уже, думаю, мне этого Генриха со зла прилепил. Не иначе.
Он достал платок и шумно высморкался.
– А вот Генриха Большого за шпиона никто не принимал, – раскуривая трубку, усмехнулся одноглазый.
– Так то ж фигура! – развел руками гость. – Одно имя – гремит! Только вот не вижу я из-за него никакой радости от работы. Ведь я кто? О-све-ти-тель! От слова «свет»! Это как солнце красное. А он все пугает, грозится на пенсию выгнать…
– Да хай ему, – махнул рукой отец. – Лучше выпьем.
– Вы разливайте, разливайте, – кивнул Генрих Карлович. – Я ведь к этому проклятому искусству, можно сказать, с детских лет стремление имел.
– А ну, Ин-нокентий, подрежь-ка нам еще помидорчиков, – потирая ладони, сказал отец. – И учись. Видишь, люди какие? Всегда говорю: читай! Сам знаешь, на книжки я денег не пожалею.
А Генрих Карлович все продолжал о своем.
– Помню, сразу после войны приняли меня пожарником в театр, – вспоминал он. – А тут как раз статист один заболел. Вот мне и предложили сыграть за него убитого. Такой случай! Тренировался, конечно, дело-то нешутейное. Попробуй не дышать, даже если муха на нос сядет. Ну, раздвинулся занавес. Я лежу. Все чин чином. Пять минут проходит, десять – я лежу. А тут, как на грех, после пива приспичило, ну прямо невмоготу. Я уж и так и эдак. Терпел-терпел, чувствую, дело плохое. Встал и ушел…
Одноглазый так и покатился со смеху, даже водку расплескал. Отец тоже смеялся, подрагивая плечами.
– Потом вахтером работал и гардеробщиком. По совместительству. Дом громадный, люди по коридорам бегают, машинки стучат. Голова с похмелья прямо раскалывается. Думаю, хотя бы кружечку пива пропустить. А тут вешалка – не бросишь. Смотрю, один толстенький в очках все тут крутится. Я к нему. Так, мол, и так, говорю, постой за меня десять минут, сбегаю в буфет похмелиться. А он как понес, как понес. Да как вы смеете, да я, простите за выражение, начальник главка… Уволили.
Отец стал разливать по последней, но квартирант решительно прикрыл свой стакан ладонью и покачал головой:
– Все.
– Как знаете, как знаете, – пожал плечами отец. – А вы закусывайте. – И он пододвинул Генриху Карловичу банку со ставридой в томатном соусе.
Старик пьянел на глазах, жалобно моргая красными веками.
– А все из-за нее, – пробормотал он, постукав ножом по пустой бутылке. – Мог бы артистом стать. Не хуже других…
Но в это время на пороге появилась мать.
– Гуляете? – спросила она и устало привалилась к дверному косяку. – С этим кином народу понаехало – тьма! А сегодня еще автобус пришел с какими-то якутами, что ли. В ларьке не протолкнешься. Жарища! Этому – то, тому – это. А тут приходит одна: «Сигареты подайте!» Я говорю, нос не дорос. Так она, понимаешь, ножкой топает, требует жалобную книгу. Ну я ей и сказала…
Мать умолкла и оглянулась по сторонам:
– А что, Антона доси дома нет? Кешка, а ну живо разыщи. Опять небось с пацанвой воюет.
– Поищи сама, – примирительно сказал отец. – Пусть парень раз в жизни умные разговоры послушает.
– Ну-ну, – ехидно усмехнулась мать, и ее светлое платье сразу же растаяло в густой темноте.
– Вот такая наша жизнь, – вздохнул Генрих Карлович.
– Ты лучше расскажи, как первый раз на студию устраивался, – обратился к нему одноглазый, почесывая рыжую бороду.
– А чего рассказывать? Пришел. В артисты проситься. К самому директору. Опыт, говорю, имеется. Отказали.
– Так ты, говорят, когда здоровался, даже в руку ему попасть не мог.
– Брехня, в руку я ему попал, – запротестовал Генрих Карлович и тут же мечтательно добавил: – А пепельница у него на столе стояла – рублей шестнадцать…
Потом все замолчали, и только слышно было, как из рукомойника капает в тазик вода да в пыльных кустах сирени и выгоревшей за лето траве ночные сверчки старательно настраивают свои скрипки.
Уже по всему чувствовалось, что натурные съемки подходят к концу. Одноглазый помощник капитана сказал, что сегодня его, слава богу, вздернут на рее, и он наконец освободится от суетных мирских дел. На берегу бухточки из тонких жердей и брусьев рабочие наспех сооружали легкие хижины на сваях, крытые камышом и сухими пальмовыми листьями, а электрики тянули проводку для осветительной аппаратуры. Но на лесной поляне у скал все еще доснимались последние кадры.
Кешка решил хотя бы из-за кустов, на расстоянии незаметно понаблюдать за съемками, однако ему не повезло. Когда он подошел к площадке, там все уже было закончено: актеры расходились, а Генрих Карлович сматывал свои кабели. Расстроенный Кешка решил снова пойти к морю, но в этот момент его окликнули:
– Эй, мелкий, поди-ка сюда!
Он обернулся и не поверил своим глазам. Под деревом, на сухой траве, подогнув под себя ноги, сидела золотоволосая леди Эмма.
На этот раз она была не в привычном платье с кружевами и оборками, а в желтой блузке без рукавов и голубых застиранных джинсах с вытертыми до белизны коленками. Выглядело это довольно дико. Ведь, кроме одного раза, там, на лужайке, он видел ее только во время съемок.
– Слушай, не в службу, смотайся быстренько в магазин и возьми пачку «Примы», – попросила юная леди. – Скажешь, кто-нибудь из мужиков послал, ясно?
Кешка растерянно кивнул, а она, порывшись в большой полиэтиленовой сумке с иностранными надписями, протянула ему монетку:
– Быстренько. Там такая стерва работает.
Кешка смутился и покраснел.
– Это моя мать, – чуть слышно проговорил он.
– Серьезно? Вот так номер, чтоб я помер. Не завидую. – И она зевнула, прикрыв рот ладошкой.
Когда Кешка вернулся, с трудом переводя дух, он застал леди Эмму все в той же скучающей позе. Увидев его, она томно потянулась и стащила с головы свой прекрасный парик. Настоящие волосы ее показались Кешке тусклыми, и даже цвет их он едва ли сумел определить с достаточной точностью. А главное, острижены они были настолько коротко, что ему невольно пришла на память прическа тетки Натальи, жившей от них через два дома, после того как ту выписали из городской больницы.
– А почему вам… это… – Он споткнулся, потому что по привычке хотел назвать ее леди Эммой, и только сейчас впервые понял, что у нее должно быть свое, настоящее имя, а какое, он, к сожалению, не знал. – Почему вам не продают сигареты, если вы курите?
– Очень умная твоя мамаша. Считает меня несовершеннолетней.
– А сколько ж вам лет? – осторожно спросил он.
– Много. Я уже старуха, – вздохнула она. – Весной перешла в девятый.
– Ну это еще не очень старая, – попробовал успокоить ее Кешка.
– Послушай, а это не ты разбил на площадке софит? – спросила она неожиданно, приглядываясь к мальчишке. – Да ты, оказывается, хулиган. Тебя, наверное, лупят мало?
Кешка поскреб затылок, словно бы собираясь с духом, и наконец сказал:
– Обидно, когда этот… Большой Генрих кричит на вас и обзывает всякими словами. Сказали бы ему один раз по-настоящему.
– Ты ничего не понимаешь, – вздохнула она. – Мы величины неравные. Ему стоит пальцем поманить, и таких, как я, набежит сотня. А потому – молчи. Я теперь как тот попугай в клетке. Искусство требует жертв, а мне, кроме себя, в жертву приносить некого.
Странное дело, Кешка уже дважды слышал это выражение. Впервые – от Василь Сергеича, когда тот объяснял, почему не снимает с глаза повязку, и вот теперь. И оба раза слова эти звучали неодинаково, в каждом случае приобретая свой особый смысл. Наверное, никогда в жизни он не испытывал столь противоречивых чувств, точно в душе его гулял сквозной ветер, выдувая все, что нужно и не нужно…
Собеседница его умело распечатала пачку, щелкнула ноготком по бумажному донышку и ловко губами подхватила сигарету:
– Терпеть не могу с фильтром…
Мимо шаркающей походкой тащился Генрих Карлович – осветитель. Возле них он остановился.
– Это не мое дело, конечно, – сказал старик, делая в воздухе неопределенный жест, точно собирался поймать на лету муху, – но курите вы зря. Вы же гордость, украшение нашей группы. Вам и нести себя надо как принцессе, и говорить, и вообще. Вы же, простите за выражение, леди! А курить в таком возрасте…
– Хватит! – вспыхнула она. – Пить плохо в любом возрасте, даже старикам.
– Что верно, то верно, – смущенно покачал головой Генрих Карлович. Он махнул рукой и, сутулясь, побрел к вагончикам…
На другой день поздно вечером почти половина жителей Каменоломни и все свободные актеры собрались на спуске к морю, с левой стороны бухты. Здесь должны были снимать пожар в туземной деревне. Наверху стояла красная машина с жирной цифрой 01 на круглом трафарете, а у самой воды – водовозная бочка, в которую был впряжен Буцефал. Старая лошадь сонно покачивала головой и машинально обмахивалась хвостом.
Повыше свайных построек была установлена какая-то штуковина, похожая на самолетный мотор, а далеко в стороне прорисовывался силуэт «Глори оф де сиз», прекрасный и величественный. Сам вид этого корабля уже способен был взволновать Кешку. Там в натянутых вантах еще свистел ветер дальних странствий.
Стоявший поблизости знакомый человек в шапочке с козырьком из зеленого плексигласа толкнул локтем своего соседа и, кивнув в сторону бригантины, спросил негромко:
– Ну что, и разули и раздели?
– Точно, – засмеялся тот.
– И цепной привод руля сняли?
– А как же, все как положено.
У самой воды двое людей привязывали к вкопанному в песок столбу несчастную Алевтину Никитичну. Рядом с ней на камне стояла клетка с попугаем. Перебирая когтистыми лапками прутья клетки, Жулик постепенно взбирался под самый купол и там замирал в неудобной позе, свесив вниз голову с распущенным желтым хохолком.
На берегу лежали наполовину вытянутые из воды пироги с балансирами на отлете, а возле них хлопотали какие-то люди. Вся одежда их состояла из некоего подобия юбок. Точнее, бедра их были обмотаны пестрой тканью, похожей на махровые полотенца. Возможно, так оно и было.
Кто-то положил Кешке на плечо руку. Он обернулся. Рядом стоял незнакомый мужчина с трубкой в зубах. На нем были светлая водолазка и резиновые вьетнамки на босу ногу. Выглядел он не слишком молодо, во всяком случае, виски его заметно серебрились.
– Давай-ка, дружок, подойдем поближе. Да ты не бойся, я ведь знаю, куда можно, – сказал незнакомец, вытащив изо рта трубку, и только по ней, и по голосу Кешка догадался, что перед ним их квартирант – бывший помощник капитана, которого только недавно повесили на рее фок-мачты.
Василь Сергеич был без бороды и повязки, и Кешка увидел, что оба глаза у него действительно целые и абсолютно одинаковые. Лицо его заметно похудело и помолодело. В нем даже появилось что-то привлекательное и мягкое, хотя и состояло оно все словно бы из света и тени: лоб, нос и скулы были бронзовыми от загара, а то место, где прежде росла борода, оставалось бледным, почти белым.
Они спустились поближе к воде и уселись на обломке скалы рядом с доном Диего и доном Хуаном.
Под ними внизу были проложены сбитые доски, по которым оператор пробовал катать тяжелую камеру, и торчал расписной столб с привязанной к нему Алевтиной Никитичной. На ней был седой парик с буклями.
– Поджигатели готовы? – зычно прозвучал в мегафон голос Большого Генриха. – Все по местам!
В свежем ночном воздухе запахло керосином. Сразу же вспыхнул целый десяток прожекторов и юпитеров.
– Начали!
И тут из-за камней и зарослей выскочили пираты в желтых косынках со старинными фитильными аркебузами и подвязанными к шестам горящими факелами. Они метались, как черти, от одной хижины к другой, поджигая камышовые кровли, которые мгновенно вспыхивали бездымным пламенем. Из свайных хижин выскакивали черноволосые женщины, некоторые с детьми. Одеты они были под стать мужчинам, только материя крепилась не у талии, а прямо под мышками. На шеях болтались раскрашенные бусы из ракушек. Женщины спускались по лестницам проворно и ловко, как пожарники на межрайонных соревнованиях, и бежали в лес, прикрыв голову руками. А пираты все мотались от хижины к хижине, забрасывая свои чадящие факелы прямо на крыши.
Огонь взлетал в самое небо. Стало заметно светлее. Старый Буцефал, немало повидавший на своем веку, нервно вздрагивал и косился на пожар настороженным блестящим глазом.
– Кретинизм! – неожиданно заорал желтохвостый какаду.
Дон Диего хмыкнул и покачал головой:
– А что, дорогой Хуанито, наш попугай не так уж прост, как может показаться.
– На родине у этого попугая сейчас зима, – как-то грустно сказал Василь Сергеич.
Кешка с интересом поглядел на своего квартиранта.
– А чего это Жулик все время висит вниз головой? – спросил он.
– Привычка, – усмехнулся Василь Сергеич. – Ведь австралийцы по отношению к нам постоянно ходят вверх ногами.
– Ветродуй! – прохрипел в мегафон Большой Генрих.
И сразу же затарахтел, заревел мотор, постепенно набирая обороты. Воздушный вихрь, подхватил пламя, наклонил его и погнал искры в сторону моря.
– Внимание, туземцы! – пытался перекричать ревущий ветродуй Большой Генрих. – Сцена прощания!
Когда мотор наконец умолк, стало отчетливо слышно, как трещат охваченные огнем щелястые, просвечивающие насквозь стены хижин, сбитые из сухих жердей, и тяжело оседают кровли.
Возле вкопанного в песок столба собралась толпа островитян. Все молчали.
– Слушайте, слушайте слова мудрости нашего вождя! – воскликнул, по всей вероятности, местный шаман в страшной клыкастой маске.
Толпа расступилась и пропустила вперед грузного, голого по пояс человека. Шею его украшало ожерелье из живых цветов. Он был очень похож на эстрадного певца Кола Бельды, которого Кешка не раз видел по телевизору в красном уголке рыбкоопа. Когда вождь поднял вверх руки, он так и подумал, что тот сейчас запоет: «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…» Но вместо этого вождь обратился к Алевтине Никитичне, беспомощно повисшей на опутывающих столб веревках.
– Спал Таароа с женой своей Хиной, богиней воздуха, таково ее имя, – торжественно заговорил вождь. – От них родилась Радуга, таково ее имя. Потом родился Лунный Свет. Мать произвела все, что есть на земле, в море и в воздухе. Твой народ причинил нам много зла, но ты мать, и потому я оставляю тебе жизнь. Развяжите ее! И верните ей птицу, которой боги вложили в уста язык ее коварного племени. Женщина, ты свободна!
Кешка затаил дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Он не видел сейчас ни оператора с камерой, ни людей, облепивших крутой склон, ни даже Большого Генриха. Все это расплылось и куда-то исчезло в ночи. Перед ним были берег океана, догорающая деревня и молчаливые туземцы, столпившиеся возле своих утлых пирог.
– Сын мой, подойди ближе, – приказал вождь, повернувшись лицом к своим соплеменникам. На лбу и щеках его багровыми бликами отражалось еще не угасшее пламя.
Из толпы вышел смуглый мускулистый юноша и остановился в почтительном отдалении.
– Мы навсегда оставляем этот остров, – продолжал вождь. – Тэренги, спускай в воду пироги. Ты будешь плыть первым, и пусть ваши паруса движет Марааму. Взойдет солнце – беги от него и смотри, куда направляется зыбь. Станет садиться – спеши за ним следом…
И вот наступил день, когда Василь Сергеич сообщил Кешке грустную новость: через двое суток вся киногруппа покидает Каменоломню. До обеда Кешка не мог найти себе места. Трудно было представить, что этот праздник души, этот веселый маскарад, длившийся так долго, уже подходит к концу, как и все другие праздники на свете. В его ушах еще гремели выстрелы, звенели шпаги и звучали слова: «Спал Таароа с женой своей Хиной, богиней воздуха, таково ее имя…»
Послонявшись вокруг дома, Кешка нашел на огороде толстый ивовый прут и тут же принялся обрабатывать его своим замечательным складным ножом с маленькой пилкой, счищать присохшую кожицу. Потом пробил дырку в жестяной крышечке от домашних консервов и надел ее на заостренный прут. Получилась тонкая и длинная рапира. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, Кешка вернулся домой и подошел к шифоньеру с зеркальной дверцей. В ней отразилось его лицо с чуть вздернутым облупленным носом, оттопыренными ушами и такими же, как у Антона, крупными рыжими веснушками. Он недовольно поморщился и постарался придать лицу выражение независимое и гордое. Потом резко выбросил вперед рапиру и стал в позицию. Его двойник в зеркале сделал то же самое. Кешка взмахнул своим самодельным клинком, отбивая оружие противника, и прут со свистом разрезал воздух.
– Ну что, не нравится? – прохрипел он каким-то чужим простуженным голосом. – Вот вы и проговорились, сударь. – И Кешка саркастически расхохотался. – На этот раз вас подвели нервы и бурный испанский темперамент. Ваше Всевидящее око – это одноглазый помощник капитана. Но, клянусь челюстью акулы, пожирательницы трупов, я позабочусь о том, чтобы еще до захода солнца он болтался на стеньге фок-мачты…
Кешка замолчал и замер на месте, потому что услышал за спиной какое-то движение и тихий смех. Он пристальнее всмотрелся в зеркало и, к ужасу своему, увидел в дверях героя Мишу рядом с квартирантом Василь Сергеичем. Миша легонько захлопал в ладоши. Его артистически выразительные серые глаза были почти скрыты под длинными выгоревшими ресницами.
– Ну и память у тебя, старик! – воскликнул он. – Блистательный монолог! Правда, насчет челюсти и трупов тут, пожалуй, хватили лишку. Но это уж не наша с тобой вина. Я думаю, это придумал сам Олег Петрович. Зато теперь-то я знаю точно: ты собираешься стать актером и сниматься в кино.
Кешка стоял смущенный, раскрасневшийся, пряча за спиной свою деревянную рапиру.
– Неужели ты действительно хочешь стать актером? – продолжал Миша, усаживаясь на старый скрипучий диван. Он забросил ногу на ногу, продолжая испытующе смотреть на Кешку.
– Не знаю…
– А что, дружок, это не так уж плохо, – заметил Василь Сергеич.
– Упаси бог, – перебил его Миша. – С искусством лучше не связываться. Я, например, кончил три курса иняза, а потом все бросил. И ради чего? Ради какой-то театральной студии. Теперь вот часто жалею.
– Я правда не знаю, – честно признался Кешка. – И тем хочется, и этим…
– Все верно, – обрадовался Василь Сергеич. – Тогда тебе одна дорога – в артисты.
– Будь лучше моряком, – посоветовал Миша. – То ли дело – романтика! Ты послушай, старик, как по-английски звучат названия парусов. Наши брамсели они называют «гэлент-сейлз», то есть доблестные. Затем идут «ройял-сейлз» – королевские паруса и на самом верху «скай-сейлз» – небесные паруса. Здорово, правда?
– Все так, – сказал Василь Сергеич, доставая из кармана свою трубку. – И все-таки театр – великая литература… Ведь не зря говорят: жизнь коротка, искусство вечно. А цель свою надо знать с детства. Вон Антон твой, он уже сейчас знает точно, кем хочет быть. Генералом!
– Антон? – переспросил Миша. – A-а, это тот самый, с автоматом. Жертва эмансипации! Женщины вообще лучше нас знают, чего хотят. Божественная леди Эмма, например…
– А вот помните, – вдруг заговорил Кешка, – когда эта леди Эмма была привязана к дереву и уже начали снимать, она закричала: «Генрих Спиридонович, мне больно!» Что же люди теперь подумают, когда в кино придут?
– Все это чепуха, – ответил Миша. – Когда станут озвучивать фильм, она скажет именно те слова, какие надо. В решительный момент мы всегда говорим то, что положено по сценарию. Этот Жулик, этот несчастный попугай, который восемьдесят лет просидел в клетке и, заметь, почти все время вниз головой, тоже молол всякий вздор, а в фильме он будет запросто насвистывать английский гимн «Правь, Британия».
– Да я не о том, – с досадой вырвалось у Кешки. – Ведь ей было больно!
– А кому не больно? Муравьям, когда их топчут, тоже больно, – возразил Миша. – Искусство – зеркало жизни, коварное отражение, с которым ты сейчас пытался вступить в поединок. Там все как в натуре и в то же время все наоборот. Правая рука становится левой, левая – правой. Разве ты не заметил, что враг твой левша. А левша очень опасный противник.







