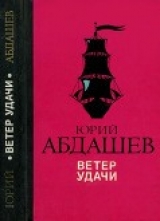
Текст книги "Ветер удачи (Повести)"
Автор книги: Юрий Абдашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Когда он был уже далековато, а старшина, соблюдая нейтралитет, ушел в помещение, Брильянт сказал:
– Все. По-моему, надо бо-ойкот объявить этому гаду. Там в третьем взводе как хотят, пусть подчиняются по службе, но ра-азговаривать – ни в коем случае…
Последние два дня стояла пасмурная погода, но первого октября снова выглянуло солнце, расцветив все щедрыми красками осени.
По-моему, это был едва ли не единственный день за все время нашего обучения, когда полностью были отменены занятия. Накануне нас сводили в баню. С утра мы чистили обмундирование, мазали рыбьим жиром ботинки, драили пуговицы на гимнастерках и подшивали свежие подворотнички.
После обеда на территорию училища стали подходить с оружием стрелковые батальоны, у своей казармы равняли шеренги наши соседи-пулеметчики.
Ким Ладейкин успел шепнуть мне:
– Если отпустят на седьмое, приходи к сестре, я там буду. По крайней мере, пообедаем по-людски.
– Так до праздников еще целый месяц. И потом мне одному несподручно. Нас тут трое, мы всегда вместе.
– Ладно, – махнул он рукой, – давайте втроем. Только запомни адрес; Дзержинского, восемнадцать…
А от наших казарм уже гремел жестью голос старшины Пронженко:
– Рота-а, становись!
С утра группа курсантов усердно махала метлами и наносила известью линии разметки. Уже занял свое место на левом фланге духовой оркестр. Четко отбивая шаг, выходили на общее построение батальоны. Посреди плаца начальник учебной части, маленький и сухощавый майор Рейзер, в щегольски заломленной серой кубанке, с синими кавалерийскими петлицами на воротнике парадной гимнастерки, при шашке и шпорах, руководил построением батальонных колонн в форме буквы П. Тут он был явно в своей стихии.
Командиры занимают свои места. Небольшая волнующая пауза, громкий шелест дыхания. Но вот майор выхватывает шашку из ножен и прижимает ее сверкающее лезвие к плечу.
– У-чи-ли-ще, сми-и-р-рно! P-равнение на середину! – ударение отчетливо слышится на последнем слоге.
Вытянув клинок перед собой и чуть склонив его острием книзу, майор Рейзер, высоко вскидывая ноги в блестящих хромовых сапогах, рубит строевым навстречу начальнику училища, который уже издали прикладывает пальцы к козырьку. Оркестр неожиданно взрывается встречным маршем и так же неожиданно умолкает, оборвав его на середине такта.
– Товарищ подполковник, – разносится в тишине удивительно молодой и сильный голос бывалого строевика, – личный состав вверенного вам училища построен для принятия воинской присяги…
– Для встречи справа под знамя, слушай, на кра-а-ул!
Нервно рассыпается барабанная дробь. Появляются знаменщик и два ассистента с винтовками на плечах. Они резко и одновременно отбрасывают правую руку назад от ременной пряжки. Тяжело колышется расчехленное красное знамя, обшитое золотой бахромой.
И вот уже мы по очереди выходим каждый перед строем своих взводов и читаем текст присяги. Слова ее звучат одновременно со всех концов плаца, и это напоминает многоголосое эхо в горной теснине. От переполняющих нас чувств становится тесно в груди:
– «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь…»
У Сашки Блинкова от волнения бледнеет кончик тонкого носа, а у Витьки Заклепенко пушок над верхней губой усыпан мелкими бисеринками пота. Боря Соломоник стоит в неестественном напряжении, словно на него надели гипсовый корсет. Его лепные ноздри вздрагивают, а в слегка выпуклых черных глазах сверкает по золотой искре – крошечному отражению усталого осеннего солнца.
Меня поражает отточенность и емкость заключенных в присяге слов. Читал я ее и прежде, но почему-то именно сейчас передо мной открывается весь ее глубинный смысл:
– «Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины, – дрожит взволнованный голос Левы Белоусова. Его немигающие глаза устремлены в открытую папку с текстом. Он бледен больше обычного. – Я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами…»
Он еще не знает, что через десять с половиной месяцев упадет у безвестных Ивановских выселок на Курской дуге, захлебнется собственной кровью, прошитый автоматной очередью в упор.
…Атакующие «тридцатьчетверки» с ходу проскочат линию вражеской обороны и устремятся на артиллерийские батареи. Наступающая за танками пехота ворвется в окопы. Приближаясь к каждому крутому излому траншеи, наши бойцы станут забрасывать его гранатами, чтобы не напороться на затаившегося врага. Но гранаты быстро кончатся, а разгоряченные боем ребята будут по-прежнему рваться вперед.
Перепрыгивая через убитых, Левка с пистолетом в руке бросится вдоль прохода. За очередным поворотом траншея упрется в грубо сколоченную дверь блиндажа. Не раздумывая, он ударит по ней ногой, и она распахнется со скрипом, дохнув на него темной сыростью подземелья. И тут Левка увидит вспышку, похожую на искрящий от замыкания провод, и, наверное, ощутит удар. Скорее всего он ни о чем не успеет подумать тогда, потому что миг этот окажется слишком коротким…
А пока:
– К торжественному маршу… Поротно, на одного линейного дистанции… Первый взвод прямо, остальные напра-а-во! Шаго-ом марш!
Левая нога под барабан, носок оттянут. Стараясь не отбрасывать ступни, вспотел Соломоник. Мы даже чуточку глохнем от веселого звона медных тарелок и пения труб духового оркестра. Пожилой сержант, как кольцами удава, обернутый трубой своего геликона, сильно раздувает красные щеки. Звучит знакомый марш Чернецкого. В паузах музыканты поспешно облизывают губы. А в ушах у меня все еще бьется собственный голос и слышатся слова, от которых холодок пробегает между лопатками:
– «Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся…»
1 октября. Получено сообщение о массовом истреблении советских военнопленных и мирных советских граждан, заключенных в концентрационном лагере близ Катовиц…
Из сводки Совинформбюро.
6. ОКОПЫ ПОЛНОГО ПРОФИЛЯ
Хотя после присяги Сашке и привесили по одному треугольничку на его курсантские петлицы, а это означало, что нашему помкомвзвода присвоили звание младшего сержанта, командовать нами ему приходится все реже и реже. Теперь каждый из нас делает это по очереди. Все мы калифы на час, точнее на день. От нас требуют не только правильно подавать команды, но и развивать зычный командный голос.
Правда, и нам особенно негде разгуляться, так как строевых занятий поубавилось, зато чаще стали ходить на стрельбище, уделять больше внимания тактике и арт-стрелковой подготовке.
Во время переходов, помимо карабина и всего прочего, я ношу на плече довольно тяжелый ствол миномета, похожий издали на самоварную трубу без колена. Соседи из пулеметного батальона острят по этому поводу: «Эй, самоварщики, чай скоро пить будем?» Но я молчу и таскаю. А легонькую коробочку с прицелом, или, как у нас говорят, угломером-квадрантом, носит на ремешке Витька. Загладить несправедливость он пытается тем, что щедро одаривает нас кусочками макухи, которые всегда находятся в его карманах.
Ясно, что щедрость эта за счет лошадок, но что делать, если ничего своего у Витьки нет. Обижаться на него вообще невозможно.
Когда мы имеем дело с минометами, нас обычно называют не отделением, а боевым расчетом. Это звучит по-артиллерийски. Пехота – это, конечно, здорово. Нам всеми силами внушают уважение к пехоте – царице полей. Общевойсковой командир! Да ему все рода войск подчинены! Одно слово – царица, но мы-то знаем, что бог войны – артиллерия и наш козырь старше.
На длительных привалах карабины по нескольку штук мы составляем в козлы. Чтобы пирамида не рассыпалась, на кончики штыков сверху надевается специальное колечко, сплетенное из тонкого шпагата. Мы все научились плести их особым способом, и каждый втайне гордится своим мастерством, носит колечки в нагрудном кармане гимнастерки и дорожит ими. Когда раздается команда «Оружие в козлы!», мы стараемся не спешить, все ждем, авось кто-нибудь самый нетерпеливый опередит остальных и произведение нашего искусства не пострадает от частого употребления.
Ночных тревог не убавилось. Вставать среди ночи так же тяжело, как и в первые недели, но у нас уже выработалось второе дыхание. Поднимая нас, старшина выкрикивает все ту же фразу, которая звучит слитно, как одно длинное слово:
– Подъемаголубдосиспыть!
Сейчас уже трудно поверить, что всего полтора года тому назад не было ни бомбежек, ни эвакопунктов, ни длинных очередей за хлебом, что жили мы с отцом в Калинине, в просторной и теплой комнате, а во время дождя надевали галоши и пользовались большим семейным зонтом, что в булочной на Урицкого продавали свободно горячий пеклеванный хлеб и сдобные булки, посыпанные маком.
Отец работал инженером на стройке, поднимал цеха нового завода. Когда он получил повестку из военкомата, тут же решил отправить меня в Джамбул к своей двоюродной сестре. Прошло, в сущности, так мало времени, а подробности лица его уже расплываются в моей памяти. Иногда я мучительно напрягаю свое воображение, пытаюсь зрительно нарисовать его сутуловатые плечи, высокий лоб с глубокими залысинами, спокойные глаза. Мы с ним по-настоящему дружили, и все свободное время он предпочитал проводить в моем обществе. Мать умерла, когда я был совсем маленьким, и отец у меня был один за двоих.
В тот день, когда началась война, мы заканчивали модель парусника. Это была маленькая копия легендарного двадцатипушечного брига «Меркурий». Я вкладывал в работу всю душу, а отец к тому же еще и большое умение. У него, как говорили знакомые, были золотые руки.
Прощаясь со мной у запасных путей, где стоял эшелон, отец положил мне на плечо тяжелую руку и, глядя куда-то поверх моей головы, сказал:
– Квартиру запри, а ключ оставь соседям. У них старики, они никуда не поедут. – Потом посмотрел мне прямо в глаза, улыбнулся и добавил: – Ты, Женька, уже совсем взрослый. Всегда оставайся настоящим мужчиной, чтобы мне не пришлось за тебя краснеть. Ну, будь…
Мы обнялись и поцеловались под лязг буферов тронувшегося состава.
Я до сих пор не могу примириться с мыслью, что отца уже нет. Иногда мне мерещится, будто он раненым попал в плен к фашистам. Ведь тогда наши отступали, и такое могло произойти запросто. Иногда я представляю, что он, изувеченный и недвижимый, лежит в каком-нибудь тыловом госпитале и не может дать о себе знать.
Тот дом в городе на Волге, где мы жили до войны, выходил окнами на бульвар, обсаженный громадными серебристыми тополями. Когда деревья отцветали, на улице бушевала белая метель из тополиного пуха. Он скапливался сугробами возле тротуаров, залетал в открытые форточки и садился на ресницы моих юных сверстниц.
Этот дом сгорел прошлой зимой. Об этом я узнал от знакомых, оставшихся в городе во время короткой двухмесячной оккупации. Я представляю, как пылали сухие оконные переплеты в нашей комнате, как лопались от жары стекла, накрест заклеенные полосками марли, как трещали, коробясь, зелено-желтые обои на стенах. Вот огонь добрался до шкафа, взметнулся оранжевым языком вверх, и вспыхнули разом легкие мачты и паруса из тончайшего батиста. Горит в жарком костре войны маленькая модель военного брига – гордости российского флота, в которую отец и я вложили столько терпения, труда и любви…
Мы все рвемся на фронт. У каждого с немцами свои счеты. И у меня, и у Сашки, и у Соломоника, и у Юрки Васильева. Командиры изо всех сил пытаются убедить нас в том, что после окончания училища мы сможем принести больше пользы. Говоря шахматным языком, нас переведут в разряд тяжелых фигур. Вполне возможно. Без этой мысли было бы труднее зубрить уставы и петь веселые песни в стронь.
Еще утром старшина объявил, что завтра нас поведут на уколы против сыпного тифа. И тут кто-то распустил слух, будто колоть нам будут не противотифозную вакцину, а какую-то дрянь, обладающую коварным свойством подавлять мужское начало, укрощать бунт молодой крови. Пошли всякие толки и пересуды. Некоторые наотрез, даже под страхом гауптвахты отказывались от уколов. Командиры сначала подшучивали над нами, а потом забеспокоились всерьез.
– Это провокационные разговорчики, – кипятился на другой день командир роты. – Такое на руку только врагу. За распространение идиотских слухов будем предавать суду военного трибунала…
– Хорошо, – сказал Абубакиров, – я пойду с вами. Пусть меня колют первым. Из тех же самых ампул.
Тут уж крыть было нечем, и мы, все еще опасаясь в душе за свое светлое будущее, потопали к санчасти. Там возбуждающе пахло спиртом. Кололи нас по конвейерной системе. В процедурной, когда привели наш взвод, кроме сестричек, был еще старый военфельдшер в глухом белом халате с тесемками на спине, но занимался он, судя по всему, только кипячением шприцев и иголок.
В нашей санчасти работают две вольнонаемные медсестры – Таня и Леночка. Именно так их все и зовут. О Тане ничего нового не скажешь. Леночку я видел только мельком, да и то два-три раза. Кто-то сказал о ней: «Как серна гор…» Может быть, так оно и есть. Во всяком случае, талию ее можно обхватить пальцами, как ствол батальонного миномета.
Моя задача заключалась в том, чтобы не попасть к Тане. Было немыслимо представить, как это я в ее присутствии начну спускать штаны и подставлять свой тощий зад.
Леночка делала уколы тут же, за другой ширмой, и я в числе первых без очереди ворвался к ней.
– Боитесь, что не хватит? – спросила она.
– Если честно, боюсь, – признался я, поспешно расстегивая брючный ремень.
– Вы не то снимаете, – остановила меня Леночка, и кукольный носик ее наморщился от смеха. – Эти уколы мы делаем под лопатку. Нужно просто поднять рубашку, и все.
Вот это промашка! Знал бы такое, без всякого пошел бы к Тане. Я на секунду представил, как ее мягкие пальцы касаются моей спины, и от волнения у меня по коже пробежала приятная дрожь.
А рядом Пронженко с солдатской прямолинейностью рассказывал Тане о том, какие сомнения еще недавно терзали его роту.
– Цэ ж надо! – восклицал он. – Такэ и натощак нэ прыдумаешь.
Таня смеялась искренне, но, как мне показалось, слишком громко. Когда я выходил из-за ширмы, она как раз заговорила:
– Дурачки! Что ж мы, бабы, враги себе, что ли. Стали бы колоть своим кавалерам такую гадость.
Поскольку я в этот момент проходил через процедурную, то получилось, будто слова ее были обращены ко мне. Я даже малость покраснел и поспешил выскочить в коридор…
В начале октября погода стала заметно портиться. Резко похолодало. Как-то сразу поржавели листья кленов на улице Великого акына, зарядили частые, нудные дожди. Антабка целыми днями не вылезал из своего блиндажа.
Девятого утром нам объявили, что после завтрака минометный батальон в полном составе выходит на тактические учения, может, на день, а может, и на два. К счастью, дождя не было, хотя тучи все мчались по небу за высокий снежный хребет. Дул сырой, пронизывающий ветер. Сразу же после завтрака батальон с полной выкладкой и минометами вышел из ворот проходной. За городом колонна разделилась. Наша рота продолжала путь прямо, а две другие свернули влево на полевую дорогу, которая уходила в сторону гор. С этой минуты мы стали условными противниками.
В поле было холодно и голо.
Совершив марш-бросок в добрых двадцать километров, наша рота вышла к небольшим увалам, где, видимо, еще недавно косили люцерну. Невдалеке виднелось наполовину перепаханное поле со скирдами почерневшей от дождей соломы…
Командиры взводов намечают места, где будут находиться траншеи и минометные окопы с круговым обстрелом. Специального шанцевого инструмента, кроме кирок, у нас нет, а потому приходится довольствоваться малыми лопатками, которые во время учений мы таскаем на поясе в брезентовых чехлах.
Блинков и Заклепенко занимаются трассировкой окопов, а мы готовим и забиваем колышки.
– Где Белоусов? – слышится простуженный басок Витьки. – Давайте сюда Белоусова!
– Ну в чем дело? – подходит Левка, вытирая со лба рукавом пот.
– Ноги твои нужны. Для дела.
– Какие ноги? Ты что мелешь?
– Круг надо чертить для минометной площадки. Диаметр два с половиной метра. А где взять такой циркуль?
– Не маленький, шнурочком обойдешься, – беззлобно отмахивается Левка. На такие шпильки он не обращает внимания.
– Значит, так, – объявляет Сашка. – Площадку копаем на метр с гаком, а глубина боковых укрытий почти два метра. И чтобы ниши для боеприпасов…
– Два метра? – хватается за голову Володька Брильянт. – Это что, бра-атская могила?
– Скажи, однако, спасибо, что перекрытий делать не заставляют.
– Смешно, ка-акие перекрытия? – отвечает Володька. – Где тут взять ма-атериал в открытом поле? На-а километр ни одного деревца.
– Понадобилось бы – нашли, – говорю я. – На что же бойцу смекалка?
Но прежде чем браться за это дело, нам приказывают в два этапа отрыть стрелковые окопы – создать линию обороны. Сначала придется копать индивидуальные ячейки, чтоб враг в случае нападения не застал нас врасплох, а уже потом строить ход сообщения, который ломаной линией соединит ячейки между собой.
Начинать работу нам разрешают лишь после того, как на месте окопов будет аккуратно срезан и сложен в сторонке весь дерн. Потом этим дерном нам придется выстелить отвал выброшенной в сторону противника земли, и тогда получится надежно замаскированный бруствер.
– Это сдохнешь – столько копать, – возмущается Гришка Сорокин.
– А ты с умом, – советует Витька. – Во всяком деле нужна высокая цель. Представь, что там, – и он тычет носком ботинка в землю, – зарыт ящик свиной тушенки.
– Все равно старшина отнимет, – безнадежно машет рукой Гришка.
– Волков бояться – в лес не ходить. Хватай лопату, и вперед!
Особенно трудно дается первый штык. Ноги скользят по сырой траве, грязь налипает на лопатку. А тут еще ветер, навылет пробивающий наши шинелишки, и нет пока укрытия, где можно было бы от него спрятаться. Наши ладони за последнее время стали твердыми, как копыто, но и они не выдерживают такого издевательства. Ближе к вечеру на них появляются водянки. Мы работаем без обеда и почти без перекуров. Несмотря на холод, лоб и спина мокрые от пота. А Мартынов все похаживает от наших позиций до ячеек выдвинутых вперед секретов и поторапливает:
– Давай-давай, сейчас артиллерия противника лупанет – все перепашет. Кухню подвезут, тогда и отдохнете.
А мы уже валимся с ног от усталости. Покончив со стрелковыми ячейками и ходом сообщения, все отделения наваливаются на минометные окопы. Короче говоря, сегодня мы отдуваемся и за пехоту и за артиллерию.
Абубакиров, скинув шинель, тоже берется за лопату.
Мы совсем недавно узнали, что он не кадровый командир, а призванный из запаса. До войны работал геологом на Урале. Копает лейтенант, как все, что он делает, энергично, в то же время экономно расходуя силы. И все-таки нудное занятие – рыть землю. Я бы, наверное, возненавидел эту лопату, если бы не лейтенант. Он постоянно внушает нам почтение к этому инструменту. Соломоник как-то пожаловался:
– Чертова лопата, на учениях мозоли набивает, в походе по заднице бьет…
– Это точно, – согласился Абубакиров. – Так ведь и мать родная, когда надо – побьет, когда надо – пожалеет. О лопатке стихи нужно слагать. Может случиться, что в бою вы лишитесь вещмешка, скатки, фляги с водой, противогаза, но упаси бог потерять лопату. Ее надо беречь пуще глаза, как автомат или винтовку. В умелых руках это и щит ваш, и оружие.
Как пользоваться лопаткой в штыковом бою, нам показывали. Но все эти окопы полного профиля… Копаешь, копаешь, а завтра изменится обстановка, и бросай все, переходи на новое место. Весь труд к чертям собачьим…
Я вспомню об этих рассуждениях через семь месяцев, тринадцатого мая, когда придется лежать на дне еще не до конца отрытого ровика северо-восточнее Новороссийска, прикрывая голову вот такой же точно лопаткой, а немецкие «стодесятки» – двухмоторные «мессеры» будут методично, один за другим заходить по кругу на бомбометание. Они засекут мой пушечный взвод и обрушатся на него всей своей огневой мощью. Я буду слышать свист ветра в плоскостях самолета и завывание сирен, вмонтированных для устрашения в стабилизаторы бомб.
Выглянув из-под этого железного щитка, я увижу, как черная капля оторвется от самолета и полетит прямо в меня. Это всегда кажется, что летит она в то самое место, откуда на нее смотришь.
И тогда я стану всем телом вжиматься в прохладную влажную глину, и ровик, к тому времени отрытый всего лишь на два штыка, покажется такой ненадежной защитой – ведь плечо мое будет на одном уровне с верхним обрезом бруствера.
Мне предстоит почувствовать, как сама земля бьется в предсмертных конвульсиях, увидеть фонтаны взметнувшейся глины и желтого ядовитого дыма, услышать сухой треск разрывов и шелест падающих на меня веток и листьев, срезанных осколками. Я открою рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, а неведомая сила оторвет меня от земли, подбросит над ровиком, и мокрый ком глины, словно кляп, застрянет у меня в глотке… И тогда, если бы я имел время задуматься, труд землекопа показался бы мне радостью…
…Уже начинало темнеть, а работа еще не была закончена. И ужина пока тоже не было. Мы только сейчас почувствовали, насколько проголодались. Даже усталость не могла притупить голода. Ведь не ели мы с самого утра, и, кроме воды, во рту у нас ничего не было. Двадцатикилометровый бросок, а потом окопы полного профиля…
Пришел старшина и вместо хлеба раздал нам патроны. По обойме холостых на брата. Да еще несколько взрывпакетов на отделение. Мы вышвыривали последние горсти земли и валились, как подстреленные, на дно укрытия. И тут пошел дождь. Без движения стал особенно донимать холод.
Через полчаса появился командир роты, как всегда свежий и подтянутый.
– Почему бруствер до сих пор не обложен дерном? – недовольно повернулся он к Абубакирову. – Ждете, пока совсем стемнеет?
– Пусть передохнут, поужинают, – ответил лейтенант. – Тут дел-то на четверть часа.
– Ужина не будет, – как-то особенно радостно объявил Мартынов. – Кухню разбомбило в пути. Ничего не поделаешь, братцы, война есть война.
Мы обалдело молчали. Даже роптать у нас не осталось сил.
Ночью с разрешения командира взвода мы по очереди небольшими группами бегали греться в расположенное неподалеку русское село.
Блинков, Заклепенко, Соломоник и я постучались в какой-то дом, где еще горел свет. Хозяйка не удивилась поздним гостям. Казалось, она специально нас поджидала. Здесь пахло домашним теплом и керосиновой лампой. На табуретке дремал старый кот, и слышно было, как в соседней комнате за перегородкой кто-то тяжело ворочался на скрипучей кровати.
Быстро растопив печку, женщина поставила на огонь котелок с картошкой. Мы все сгрудились возле огня. У нашего помкомвзвода был непривычно беспомощный вид. Он смешно вытягивал губы, будто собирался что-то сказать или улыбнуться чему-то, но из этого ничего не получалось. У Соломоника под носом висела большая мутная капля, а Витька от внутренней дрожи передергивал плечами и рассматривал стертые до мяса ладони. Сердобольная хозяйка приложила к больному месту тряпочку, смоченную в подсолнечном масле, и помогла перевязать руки.
От тепла нас немного разморило.
– Однако черт знает что, – возмущается Сашка. – На Алтае не мерз, а тут…
– На юге, как это ни смешно, всегда мерзнут сильнее, – замечает Соломоник.
– При чем тут север или юг? Одежонка, однако, другая – пимы, полушубок. Рукавицы мехом наружу шьют, чтоб морду прикрывать от ветра. В нашем селе Вострове зима во-о! – И Сашка сжимает оба кулака. – Лютая! Речка там протекает Кабаниха. Давно когда-то мужики запруду на ней сделали – стало озеро. На правобережной гриве, возле ленточного бора живут у нас коренные сибиряки – суровые, замкнутые люди. А на левой, степной, стороне – переселенцы с Украины, добродушные и общительные. Так вот на том самом озере устраивались зимой кулачные бои. Потеха! Лед на озере аж зеленцой отдает. Толщиной, однако, больше метра…
– А сам-то ты из каких будешь? – смеется Витька. – Из левых или из правых?
– Мы, однако, вятского корня. Из кержаков. До сих пор помню, как мать в детстве учила меня креститься двумя перстами.
– А зря ты те валенки не захватил с собой, – жалеет Витька. – Сгодились бы.
– А много ли ты с собой прихватил, когда тикал из своего Днепропетровска?
– Я-то? – смеется Витька. – Чемодан и коньки с ботинками. Хорошие были конечки.
– А ты? – поворачивается ко мне Сашка.
– Патефон, – отвечаю я. – Старый патефон, четыре пластинки и сто штук иголок.
Соломоник молчит, слушает, и глаза у него грустные-грустные.
Когда через полчаса картошка сварилась, есть мы ее не стали. Поблагодарили хозяйку, рассовали горячие картофелины по карманам и потащились назад.
Потом натаскали себе немного соломы в укрытие и, зарывшись в нее, проспали до четырех утра, когда наконец пришла кухня. Нам отвалили двойную порцию плова, и миски были такие горячие, что мы с трудом могли держать их в руках. Мне кажется, ни до этого, ни после я не ел ничего вкуснее.
На рассвете вторая и третья роты пошли на нас в наступление. Пока они перебегали, мы не сделали ни одного выстрела. И только когда «противник» поднялся в рост и с винтовками наперевес стал приближаться к окопам для последнего рывка, мы открыли частый огонь.
Я думаю, ребята немного растерялись, увидев направленные на них карабины и услышав выстрелы. На срезах стволов вспыхивало желтое пламя. Многие инстинктивно пригнулись. И тут полетели взрывпакеты, выполнявшие роль ручных гранат. Мы еще не успели расстрелять все патроны, а Мартынов уже поднял нас в контратаку.
Мощное «ура» прокатилось над полем. Наверное, не одна старушка перекрестилась, услышав в столь ранний час наш боевой клич.
Лейтенант с пистолетом в руке бежал в цепи своего взвода. Но наш боевой порыв пропал впустую. Так бывает с человеком, когда он размахнется, ударит, а кулак провалится в пустоту. Нам не дали сойтись с «противником» вплотную. Оставалось каких-нибудь пятнадцать-двадцать метров, и тут с двух сторон одновременно послышались команды взводных командиров: «Отставить!», «Прекратить атаку!», а трубач, взобравшись на скирду соломы, уже трубил отбой.
Потом мы сидели, свесив ноги в окопы, и командир батальона делал подробный разбор проведенных тактических учений, хвалил действия как одной, так и другой стороны. Под конец он уступил место старшему политруку Грачеву.
– Товарищи курсанты, – начал он и прокашлялся, – вчера было опубликовано важное постановление партии и правительства об отмене института военных комиссаров…
Сдержанный шепот прошел по окопам.
– Наши командиры, многие из которых коммунисты, за четверть века существования Советской власти достигли высокой политической сознательности и профессиональной зрелости. Опыт шестнадцати месяцев Великой Отечественной войны показал, насколько важным условием для успешного руководства боем и оперативного принятия решений оказывается личная ответственность командира, его единоначалие. С этого дня, товарищи, политруки и комиссары становятся заместителями по политической части командиров рот, батальонов, полков и дивизий Красной Армии… – Он помолчал некоторое время и, сняв очки, протер их чистым носовым платком. – Вопросов нет?
Вопросов не было…
10 октября. На Западном фронте происходила артиллерийская перестрелка и поиски разведчиков…
Из сводки Совинформбюро.







