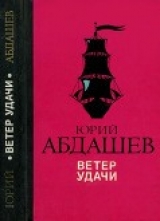
Текст книги "Ветер удачи (Повести)"
Автор книги: Юрий Абдашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)

ТРОЙНОЙ ЗАСЛОН
1
В пихтовом лесу стоял зеленоватый дымный полумрак. Солнечные лучи раскаленными спицами прожигали толщу густого лапника. Здесь было торжественно, сумрачно и пахло ладаном, как в старом кафедральном соборе.
По узкой, битой тропе шли семеро: двое уверенно шагали впереди, четверо, изрядно поотстав, вели под уздцы тяжело навьюченных лошадей, а замыкающий придерживал за ремень висевшую не по-военному, стволом вниз, самозарядную винтовку с оптическим прицелом. Кроме него да еще одного бойца, что тащил на плече ручной пулемет Дегтярева, весь отряд был вооружен автоматами. Тропа круто забирала в гору, и люди шумно дышали. Сказывались и затяжной подъем, и непривычка к высоте. К тому же все были обвешаны туго набитыми вещевыми мешками, скатками, гранатами и котелками.
Старший лейтенант Истру, невысокий, по-девичьи изящный, старавшийся идти в ногу с рослым проводником, задумался. Это не мешало ему, однако, внимательно следить за тропой, за ее замысловатыми серпантинами. Он слышал, как спотыкаются уставшие лошади, но не спешил с привалом, ждал, когда кончится этот угрюмый лес, поросший голубым лишайником. Оттуда, с опушки, можно будет наконец оглядеть местность на много километров вокруг.
На старшего лейтенанта была возложена не совсем обычная задача. Предстояло подняться на перевал, завалить обходную тропу, сделать ее недоступной даже для вьючного осла, не говоря уж о лошади. Там приказано было оставить троих наблюдателей, обеспечив тем самым надежную связь. Но как ее обеспечишь, если от заставы до перевала около десяти километров напрямик, как говорится, по птичьему следу, а в его распоряжении нет и метра телефонного кабеля? Все давно расписано и роздано. Зрительная связь на таком расстоянии да еще при туманах, которые теперь, в конце лета, наверняка участятся, тоже не внушала надежд. Неожиданно выручил инженер Радзиевский, присланный к нему из полка. Мужик оказался не просто изобретательным. Это был гений, новоявленный Эдисон! Во всяком случае, как считали в штабе, круг его интересов и познаний не имел границ.
Строго говоря, пастушью тропу там, на высоте двух тысяч семисот метров, назвать перевалом можно было лишь с определенной натяжкой. На карте-двухверстке он был обозначен как труднопроходимый и официально именовался Правым Эки-Дарским, по названию ущелья, где стояла сейчас рота. Местные охотники и пастухи окрестили его по-своему – Вислым камнем. Разведчики доносили, что там, над тропой, нависает огромная гранитная скала.
В те дни военная обстановка на Северном Кавказе складывалась как нельзя хуже. Перевалы, по сути дела, не были подготовлены к обороне. А те немногочисленные укрепления, которые в начале года сооружали в горных проходах, снесло первым же паводком. Недальновидность вышестоящего начальства раздражала Истру. Он был грамотным кадровым командиром и понимал многое из того, о чем прямо не говорилось в приказах командования и официальных сводках. Еще до вторжения гитлеровцев на Кубань все оборонительные усилия были направлены на защиту береговой линии. Опасность высадки вражеского десанта с моря казалась тогда наиболее вероятной. Но когда наши войска попятились к Ростову, разве не самое время было подумать о том, что Кавказский хребет должен стать для врага непреодолимой преградой?
Еще в конце июля им зачитали приказ Верховного Главнокомандующего, строжайший приказ – «Ни шагу назад!». Вот тогда-то из резервных частей, из строительных батальонов, из народного ополчения, черт знает из чего еще, нужно было наскрести людей и организовать по-инженерному грамотные работы. Не теряя ни одного часа! А занялись этим только теперь, почти месяц спустя, когда вверх по долинам отходят последние измотанные части, когда враг наступает на пятки, когда на подступах к главным перевалам уже завязываются бои.
Разумеется, старший лейтенант понимал и трудности, возникшие перед командованием армии.
Фронт растянулся на полтораста километров от Белореченского до Клухорского перевала. Части недоукомплектованы людьми, оружием, боеприпасами, туго с продовольствием. А тут еще того и гляди полезут турки. Один знакомый командир, вернувшийся недавно из Кутаиси, рассказывал под большим секретом, что там бродят слухи, будто на границе, за Чорохом, сконцентрировано около двух десятков турецких дивизий. Так что курок взведен, и остается только гадать, когда же современные янычары надавят на спусковой крючок.
Рота старшего лейтенанта Истру насчитывала всего тридцать семь человек. Она расположилась на лесном кордоне, как раз там, где долина одного из притоков Бзыби разделяется на два ущелья – Левую и Правую Эки-Дару. В народе это место называли метко, хотя и довольно прозаически – «Штанами». Штаб полка находился в восемнадцати километрах от кордона, в древнем полуразрушенном монастыре.
По Левой Эки-Даре, одолев два крутых отрога, можно было выйти к Цегеркеру и Туманной поляне, а оттуда тропами вдоль хребта уже оставалось рукой подать и до Санчарских перевалов. Это направление считалось наиболее опасным, и поэтому Истру вынужден был направить туда основную часть людей.
Среднему комсоставу не были известны директивы Ставки, однако «солдатский телеграф» работал исправно, и для большинства командиров не составлял особого секрета тот факт, что на ряде важнейших горных перевалов командование намеревается создать прочные узлы обороны и защищать их любой ценой, на другие выслать крупные вооруженные отряды, а все эти Науры, Анчхи, Эки-Дары взорвать, завалить возможные к ним подступы.
И вот теперь люди шли к Вислому камню, в заоблачную высь, чтобы рвать скалы, валить лес за хребтом на северном склоне и потом оставить на водораздельной седловине заслон, который мог бы сообщать вниз о любых изменениях в обстановке и на худой конец не дать вражеским разведчикам и диверсантам проникнуть в наш тыл. Для этого из штаба полка прислали взрывчатку и гения пиротехники – лейтенанта Радзиевского, мрачноватого, неразговорчивого человека, у которого на левой руке сохранилось всего два крючковатых пальца – большой и мизинец. Серые глаза его тяжело и холодно смотрели из-под сдвинутых бровей. Ранен лейтенант был, по всей видимости, давно, в начале войны. Об этом можно было судить по тому, как ловко с такой рукой он научился крутить цигарки…
Наконец впереди между стволами деревьев забрезжил свет, и отряд как-то совсем неожиданно оказался на опушке. Сержант Шония, выполнявший роль проводника, стащил через голову ремень автомата:
– Привал, товарищ старший лейтенант?
Истру утвердительно кивнул и, прислонив свой автомат к дереву, скинул вещевой мешок, расправил узкие плечи.
Впереди, врезаясь в синюю высь, четко вырисовывались снежные вершины. Их ослепительная белизна лишь кое-где была обезображена осыпями и пятнами «сколков». Слегка тронутые осенней ржавчиной простирались альпийские луга. Невдалеке от опушки отдельными купами рос горный клен, строением кроны напоминавший средиземноморскую пинию, знакомую по картинкам в школьных учебниках географии. Созревшие плоды окрашивали его верхушки ядовитой, режущей глаз киноварью. Этот неожиданный отчаянно-красный цвет порождал у Истру ощущение смутной тревоги.
Совсем рядом забряцали удила, послышались тяжелая поступь лошадей и прерывистое дыхание.
– Веселей ходи! – крикнул Шония. – Привал влево! – Он лег на спину, подложив под голову вещмешок и задрав ноги на сырую замшелую колоду.
Запахло примятой травой, кожей и влажными конскими потниками.
Истру вытащил из потертого чехла бинокль и поднес его к глазам. Торная тропа, по которой они шли все это время, сделалась менее заметной, и проследить ее даже при шестикратном увеличении было довольно трудно. Она вилась по левому берегу ручья, промывшего глубокое каменное ложе, потом перемахивала на другую сторону и начинала круто взбираться вверх по краю полей плотного фирнового снега на затененном склоне. А там, у самой седловины, где камень выпирал из земли наподобие исполинских надгробий, тропа окончательно терялась из виду. Это было дикое нагромождение скал, первородный хаос! Что-то подобное ему доводилось видеть в Крыму на Кара-Даге, когда перед началом войны они с женой ездили отдыхать в Судак. Это был его последний отпуск. Где теперь тот Судак, где милая сердцу Одесса, в которой он родился и вырос, где его жена и трехлетняя дочь Юлька? С октября прошлого года он не получил от них ни единой весточки. Удалось ли им эвакуироваться, живы ли они?..
Хотя Истру и чувствовал себя неуютно в незнакомых ему горах, но сейчас, глядя на свой маленький отряд, расположившийся на короткий привал среди дикой природы, он не мог подавить успокоенности, возникшей в его душе. Это особенно бросалось в глаза после суматошной, лихорадочной обстановки, что царила в тылу, в прибрежных городах и поселках, где днем над мастерскими не угасали молнии электросварки, а в кузницах сутки напролет стучали и звенели по наковальням тяжелые молоты…
– Харчи берегты трэба, – послышался рядом голос старшины Остапчука. – О так, хлопче.
Истру оглянулся и увидел красноармейца Силаева, который неохотно опускал кинжальный штык, жадно занесенный над банкой сгущенки.
– Рэжим экономии, – поучал старшина. – Тэрпи трохи пока…
– Пока что? – прищурился боец Другов. Это они с Силаевым и Шония входили в тройку наблюдателей, которым предстояло остаться на перевале.
Лейтенант Радзиевский бросил на парня испепеляющий взгляд.
– Пока не кончится война, – резко, с железными интонациями в голосе заметил он. – Вот так: пока не кончится.
Истру подошел к своему ординарцу со странной фамилией Повод и знаком показал, чтобы тот убрал сухари, которые боец начал было выкладывать на плащ-палатку.
– Внимание! – поднял руку старший лейтенант. – Отдыхаем четверть часа. Груз оставить на вьюках, подпруги не отпускать. Силаеву вести наблюдение за тропой. Пока можно попить. До перевала пять тысяч метров по горизонтали и около тысячи вверх. Это последний рывок. Осилим горушку – будем отдыхать, будем обедать. Все, в том числе и кони. – Он перевел взгляд с ручного пулемета на щуплую фигуру Другова и добавил: – Пулемет пристройте на вьюках. В нем добрых полпуда, а подъем слишком крут.
Другов взял маленькое брезентовое ведерко и побрел за водой. Зачерпнув из ручья, он сделал несколько глотков, мотнул головой, замычал: «Лед!» Выплеснул, снова набрал и подошел к лошади.
– Бильш однией цибарки нэ давать! – крикнул Остапчук. – Кони зморэни, аж у мыли.
Повод снова уложил продукты в мешок, нехотя поднялся и, забрав у Другова ведерко, пошел к ручью, чтобы напоить остальных лошадей. Другов тут же повалился на жесткую колючую подстилку из сухой пихтовой хвои рядом с Шония и Силаевым, который приглядывал за тропой. Так и отдыхали двумя группками, только Радзиевский уединился на отшибе. Он снял сапоги и перематывал портянки.
Истру подсел к Остапчуку и с удовольствием вытянул ноги в хромовых сапожках, служивших, кстати говоря, предметом постоянного зубоскальства. Что и говорить, тридцать седьмой размер обуви – случай далеко не обычный в солдатской среде. Таких кирзовых сапог и не подберешь. Вот и приходится щеголять в хроме.
Старший лейтенант оглянулся на Радзиевского, который старательно разглаживал складки на портянках, потом перевел взгляд на бойцов заслона и усмехнулся про себя. Разве не странно, что эти ребята, прибывшие несколько дней назад и не успевшие даже свести настоящего знакомства, уже жмутся друг к дружке. Что же их сблизило теперь? Приказ оставаться на перевале? Единство поставленной перед ними задачи? Нет, видно, сама судьба уже обособила этих людей, предчувствие того общего, что ждет их в будущем, чего не поделишь – это твое, это мое. Теперь у них все спаяно – и жизнь и смерть, все неделимо, все на троих.
2
Вчера на сторожевую заставу Истру прибыли майор – начальник штаба полка, его помощник по разведке капитан Шелест и лейтенант Радзиевский. Весь личный состав построили в одну шеренгу под разлапистым дубом. Нужно было обеспечить связь с далеко разбросанными группами, отобрать людей на Правую Эки-Дару и проследить, чтобы это ответственное задание было выполнено точно и в срок.
Майор быстрыми шагами обошел небольшую шеренгу, коротко, в упор вглядываясь в лица бойцов. Движения у него были резкими, стремительными. Потом он вскинул голову и посмотрел на командира роты:
– Товарищ старший лейтенант, как же фамилия вашего проводника?
– Шония, товарищ майор, – вытянулся Истру. – Сержант Константин Шония.
– Пусть выйдет из строя.
Шония сделал два шага вперед. Над верхней губой его темнела бархатная полоска по-юношески мягких усов.
– Шония… Грузин? – спросил начальник штаба, разглядывая классический профиль высокого загорелого сержанта. По всему чувствовалось, любит парень покрасоваться.
– Мингрел, товарищ майор.
– Ну, это все равно. Дети есть? – неожиданно спросил он.
– Двое, товарищ майор.
– Когда же ты успел? Тебе ведь, пожалуй, лет двадцать с небольшим. Так?
– Двадцать три, товарищ майор, и у меня двойня, – ослепительно улыбнулся Шония, а вместе с ним заулыбались и остальные.
– Ничего не скажешь, расцвет творческих сил! – гася усмешку, проговорил начштаба. – Горы здешние знаешь?
– Так точно! До войны инструктором по туризму работал в этих местах. – Он говорил почти без акцента, чуть нажимая на первый слог и растягивая в нем гласную. – Горы – моя родина.
– Что ж, это дело, это то самое, что нам нужно, – удовлетворенно кивнул начальник штаба. – Будешь старшим в заслоне, сержант.
– Есть, товарищ майор!
– Все инструкции получишь у моего помощника – капитана Шелеста.
…И вот теперь Константин Шония легко шагает в голове отряда, будто вовсе и не вздыбившаяся тропа перед ним, а гладкая ровненькая дорожка, будто и нет за спиной тридцатикилограммового мешка, на шее автомата, а на плече скатки. Истру, шедший за ним, видел, как уверенно и свободно ставил он ногу, словно пританцовывал: носок – пятка, носок – пятка. Врожденная походка горца.
Тропа была настолько крутой, что страшно было остановиться хотя бы на миг, особенно с лошадьми. Казалось, прерви это поступательное движение, эту инерцию взлета, и не удержишься, покатишься вниз до самой границы леса. Но сейчас и люди и животные дышали в едином ритме. Это было тяжкое, прерывистое дыхание. Пот застилал глаза, ныла спина от груза, и кровь пульсировала в висках, отдаваясь в барабанных перепонках.
Фирновые поля оставались слева от тропы. Ноздреватый, изъеденный солнцем снег сверкал кристаллической солью. На фоне синего неба надвигавшаяся на них гранитная стена вздымалась мертвым оскалом камня…
Для всех, кроме Константина Шония, это был хотя и величественный, но чуждый мир, полный враждебности, где каждый куст, каждый камень таили в себе угрозу. Только он чувствовал себя в родной стихии. Здесь парили орлы и рождались облака, здесь начинали свой бег стремительные реки. Торжественный покой гор, прозрачный воздух и светлые потоки, падающие с ледников, очищали душу, настраивали мысли на возвышенный лад. Недаром же древние, побывав в горах, давали им такие поэтические названия, как Поднебесные горы и Крыша мира.
Кавказ был его родиной и родиной его предков. Здесь блистал Эльбрус – обитель солнца и льда, поднявшийся над землей выше всех вершин старой Европы. Здесь, в верховьях Риона, невдалеке от селения Амбролаури, был прикован к скале Прометей, грузинский Амирани – античный титан, бросивший вызов богам Олимпа. Здесь и больше нигде в спокойствии и мудрой простоте люди могли прожить две и три обычные человеческие жизни.
Дед Ираклий называл эту землю священной.
Для Кости земля Кавказа тоже была священной, но вовсе не потому, что два тысячелетия назад некие гипотетические старцы в длинных хламидах, опираясь на посохи, бродили босиком по здешним каменистым дорогам, а потому, что эта была его земля, горячая, как стручок огненного перца, и терпкая, как плоды терновника, земля, где холод талых вод соседствовал с оранжерейным теплом побережья, где дворы пропахли бараниной, жарящейся на мангалах, и ароматом ткемали – острой приправы из слив и семян. Потому что в Очамчире жила его Нана, родившая ему двух близнецов – Тариэла и Автандила.
Очамчира… Лохмотья коры, свисающей с эвкалиптов, черные покрывала на головах у пожилых женщин с коричневыми веками, наборные ремешки, опоясывающие тонкие станы седобородых старцев, звуки зурны и бубна, доносящиеся со двора, где вторую неделю подряд гуляют свадьбу, и многоголосье гармонически слаженного хора, что изредка доносит ветерок душной и темной ночью. Это его родина!
Когда Костя уходил из дома, Нана положила ему в сумку красный шерстяной шарф, который связала в последние дни. Сейчас он бесполезно лежал на дне его вещмешка. Слишком не по уставу выглядел бы сержант в таком наряде даже здесь, высоко в горах. Но так ли уж бесполезен он был? Ведь стоило дотронуться до шарфа, и вместе с прикосновением руке передавалось тепло пальцев его Наны. В нем еще жил родной домашний запах. И так ли уж важно, что его не намотаешь на шею? Костю согреет горячая кровь и мысли о молодой жене. А мальчишки, которым совсем недавно исполнился год? Все соседи твердили, что сыновья похожи на него. Какие они теперь? В этом возрасте человек меняется каждую неделю.
Вчера командир роты посмеялся:
– Везет тебе, Шония, одним махом двух пацанов подарил миру. Без брака сработал. А у меня, понимаешь, одно-единственное дитя, и то девчонка.
– Э-э, товарищ старший лейтенант, вам, наверное, кто-то наврал, что на Кавказе девочки не в цене, – ответил Костя. – Наш поэт Руставели сказал: дорог льву его детеныш, будь он львенок или львица…
И вот теперь настал час, когда этому доброму миру грозят разрушение и гибель. Поколеблен извечный покой и попрана мудрость. Люди в серо-зеленых шинелях, оснащенные самым совершенным оружием и первоклассным снаряжением, идут сюда, в его горы, неся с собой неволю для близких и позор родительскому очагу. И кто они, эти люди? Здесь где-то рядом проходит стык двух наступающих вражеских соединений – четвертой горнострелковой дивизии, укомплектованной тирольскими стрелками, для которых горы – привычная стихия, и первой альпийской дивизии со звучным названием «Эдельвейс».
Никогда не встречавшись с врагом, представить его себе трудно. Живых немцев Костя видел только однажды, года три назад. Еще школьником он занимался скалолазанием и альпинизмом, мечтал участвовать в штурме одной из самых труднодоступных вершин Кавказа. Уже тогда ему приходилось водить по маршрутам группы экскурсантов. А тут его вызвал в Сухуми начальник республиканского профсоюзного управления по туризму и сказал:
– Шония, ты молодой, но благоразумный человек. Поезжай в Теберду. Поведешь через Клухори пятерых немецких туристов. Пойдешь в паре с местным тебердинским инструктором. Обеспечь, я прошу тебя! И чтобы все было хорошо. Запомни, у нас теперь с Германией дружеские отношения. Это, понимаешь, наши дорогие гости…
Немцы как немцы. Такими он их себе и представлял: отлично экипированные, собранные, аккуратные. Двое были художниками. Только рисовали они не красками, а карандашами на красивых планшетах. Умели делать наброски прямо на ходу.
– Краски – это дома, – говорил темноволосый приземистый крепыш Отто Планечка, единственный из пятерых, прилично объяснявшийся по-русски. – Краски всегда живут здесь, – и он постукивал себя по широкой груди. – Если это делать так, нах дер натур, получится фото. Цветное фото. «Экзакта», понимаешь?
Аппараты фирмы «Экзакта» Костя уже видел у двоих из этой группы. Одного звали Карл Глюкенау. Имя свое он произносил чуть нараспев, проглатывая букву «р». Получалось очень забавно. Другой был Эдмунд. Имена остальных и вовсе не задержались в Костиной памяти.
Уже в Сухуми Эдмунд подарил ему книжку с прекрасными иллюстрациями. Это была «Песнь о Нибелунгах» в переложении для детей и юношества. Но поскольку книжка была на немецком языке, она так и осталась нечитаной. Восхищали только картинки, изображавшие героев древнегерманского мифа. И если маленький рост, опрятная бородка и кустистые брови делали Планечку похожим на карлика-нибелунга, то Карл Глюкенау, высокий, голубоглазый, аристократически подтянутый, вполне мог сойти за самого Зигфрида.
На прощанье Отто вручил Косте карандашный набросок его портрета. Но дома сказали, что Костя там не очень похож на себя, и рисунок в конце концов затерялся. Карл обещал прислать фотографии, однако так и не выслал. Видимо, забыл за делами.
Группа тогда шла медленно. Часто останавливались, фотографировались, наблюдали в бинокли за турами, которые словно бы нарочно выставляли себя для обозрения на голых вершинах отдаленных скал. Немцы делали беглые зарисовки и дневниковые записи. Народ в общем-то оказался покладистый, доброжелательный, и идти с ними было одно удовольствие.
И вот только теперь, совсем недавно, у Кости стали возникать сомнения, действительно ли эти дотошные немцы были всего лишь невинными путешественниками. В ту пору по Кавказу бродило немало таких групп, особенно среди альпинистов. Немцы ходили по Лабе, Марухе и Зеленчуку. Ходили и по другим рекам. На Эльбрус поднимались. И многие из них, как выяснилось потом, были художниками. Неужели же немцам в такое тревожное время нечего было делать дома? А может быть, под видом туристов в горы Кавказа проникали шпионы-топографы? И кто поручится, что там, за перевалом, эти тирольские части не ведет сюда новоявленный знаток Кавказа немец чешского происхождения Отто Планечка или выходец из Восточной Пруссии белокурый красавец Карл Глюкенау, так и не приславший обещанных фотографий?..
…Скальная стена темно-пепельного цвета уже подступила вплотную, подобно громадному экрану зашторив небесную синеву, заслонив полмира. Слева на пологом склоне виднелось какое-то деревянное сооружение и сложенные штабелем бревна. Отставший от Кости старший лейтенант протянул туда руку:
– Что это?
Шония уже выбрался на широкую площадку у самого подножия скал, усыпанную черным пластинчатым щебнем, и отдыхал, не сбрасывая со спины груза.
– Армянский балаган, – ответил он, – жерди и дранка.
Истру, по-прежнему взбиравшийся по тропе, хотел спросить еще о чем-то, но ему не хватило дыхания. Костя заметил это и пояснил:
– Здесь раньше летом армяне барашек пасли. Там внизу много армян, целый колхоз.
– А что за лес сложен? – наконец выдохнул Истру, показывая глазами на ошкуренные бревна.
– Загон для скота строить собирались, – ответил Шония. – Или, может быть, сыроварню. Кто их знает?..
Легкий ветер с ледников быстро сушил взмокший лоб. Он нес знобящую свежесть и запах талого снега.
3
– Ну, кто там еще? – спросил майор после того, как Костю назначили старшим в заслоне.
Капитан Шелест протянул начальнику штаба серую картонную папку. Майор открыл ее, пробежал глазами.
– Красноармеец Силаев, – он резко вскинул голову, – два шага вперед – марш!
Из строя вышел круглолицый розовощекий парень лет восемнадцати. Сдвинутая на ухо пилотка обнажала левую сторону головы, позолоченную щетинкой подросших после «нулевки» волос. Как у большинства блондинов, кожа его почти не изменила своего цвета под лучами южного солнца. У него были широко расставленные серые глаза, а вздернутый нос пересекала едва заметная поперечная морщинка.
– С пополнением прибыл? – спросил майор, приглядываясь к бойцу. – Откуда родом?
– Сибиряк.
– Сибирь велика, братец.
– Ну, в Енисейске учился, потом работал. – Силаев говорил медленно, растягивая слова. – Отец-мать в тайге живут, фактория там…
– Отец твой охотник, так? Промысловик?
– Ну-у.
– Что это еще за «ну»? – возмутился помощник начальника штаба.
– Стрелять, стало быть, можешь? – спросил майор.
– А чего хитрого?
– На язык ты не больно горазд. У вас что, все там такие?
– Да вроде.
– Дать бы ему снайперскую винтовку, – сказал начальник штаба.
– Винтовка есть, товарищ майор, – приложил ладонь к козырьку Истру.
– Добро, пусть дерзает. Думаю, это будет именно то, что надо…
Возражать Силаев не стал, да и духу у него не хватило б. Не мог же он вот так прямо признаться, что родившийся в тайге сын охотника-промысловика не только в глаза не видел оптического прицела, но и нарезное оружие держал в руках лишь при стрельбе из малопульки в небольшом школьном тире. Была у него берданка шестнадцатого калибра. В конце лета ходил он с ней иногда на болото бить уток, но баловался ружьишком нечасто, потому что, когда через их места валом шла перелетная птица, гнездовавшаяся в таймырской тундре, ему уже пора было уезжать к бабке Феодосии Федоровне на Культбазу. При фактории, где жили родители и две замужние сестры, никакой школы не было.
Да и где было заниматься серьезной охотой? На промысел отец уходил в начале зимы, когда таежные речки и мари сковывал крепкий лед. Брал с собой двух рыжих эвенкийских лаек – Тайгу и Яра, а на горб – мешок муки да котомку с солью. Уходил далеко на зимовья. Бродил на лыжах по кедрачам, по еловому краснолесью с винтовкой, промышлял белку, куницу, а иногда и соболя. Правда, в последние годы соболь попадался все реже, и отец побаивался, как бы этот ценный зверь вскорости и вовсе не перевелся в тамошних исконных местах.
До окончания четвертого класса Федя Силаев каждую зиму проводил на Культбазе. Потом перебрался к дядьям в Енисейск, учился в семилетке. Звезд с неба не хватал, считался тугодумом. Из-за этого дважды оставался на второй год. Но уж если что входило в его сознание, то задерживалось там прочно. А летом, когда Федя приезжал домой на каникулы, отец охотой не занимался, помогал матери по хозяйству. Вместе с отцом Федя чинил крышу, ладил новый забор, ездил на старую речную заимку косить сено для пегой коровы Насти.
На сенокос обычно выезжали затемно. Там кипятили на костре чай, ждали рассвета. Иногда Федя уходил по косе к самой лесной закраине. Как обычно, увязывалась за ним общительная и отзывчивая на ласку Тайга. Взрывая когтями сырой песок, она мчалась впереди, остроухая, с поднятым по ветру носом. Возбуждаясь, Тайга отрывисто взлаивала, как щенок, играющий в верховую слежку. Потом садилась и нетерпеливо ждала Федю, шевеля прижатым к бедру серповидным хвостом.
…Медленно текло время. Светлая полоска на востоке начинала постепенно зеленеть, делаясь похожей на тихую заводь. Одна за другой гасли звезды. Казалось, они не гасли, а таяли, как тают весной хрупкие льдинки. Топкое моховое болото, подковой огибавшее заимку, превращалось в округлое озеро, до краев наполненное парным молоком. Старые осины, словно фигуры рыболовов в огромных накомарниках, замерли по пояс в странной молочной воде. Легкие перистые облака подкрашивались бледно-розовым брусничным соком. Зудел над головой докучливый гнус. Туман, прежде лежавший на болоте плотным покровом, теперь начинал клубиться, принимая самые причудливые очертания. Отдельные клочья его воровато перебегали через косу и прятались за кустами. Бесшумно скатывались с листьев капли холодной росы. Пахло торфяником, речной свежестью и дымком отдаленного костра.
На душе было празднично и светло. Начало нового дня Федя воспринимал как собственное рождение. Чувство это усиливалось еще и тем, что по складу своего характера он ни с кем не мог разделить его. И вообще Федя был необщительным и малоразговорчивым парнем. Возможно, эта замкнутость была унаследована от предков-охотников. Ведь у них умение молчать шло по одной цене с сухим порохом, твердой рукой и верным глазом. Однако все это не мешало пареньку живо чувствовать свое единение с окружающим миром. Он даже несколько раз пытался писать, передать на бумаге свои ощущения и мысли, но пока ничего путного из этого не получалось.
В отличие от большинства людей он воспринимал окружающее не целиком, не панорамно, а в деталях. Бабушкин дом на Культбазе был не просто бревенчатой избой-пятистенкой. Прежде всего это были запахи. Уютный дух сдобного теста, лампадного масла и сохнущих на печке катанок – особый запах мокрой шерсти. А кедровник на увале невдалеке от фактории, куда огольцами они бегали выбивать из шишек орехи, Федя восстанавливал в памяти через звуки, хотя запахов в нем было хоть отбавляй. Лес этот никогда не шелестел в отличие от березняка или осинника. В острых хвоинках, в мощных колоннах стволов ветер тихо посвистывал, а иногда звенел примерно так же, как звенит в туго натянутых телеграфных проводах. Даже снег, как ни странно, был связан у него именно со звуками: с хрустом под ногами в мороз, с дробным постукиванием о стекло во время пурги и с мелодичным треньканьем в первые дни апрельской капели.
После седьмого класса Федя не захотел учиться дальше, но и возвращаться в факторию не имело смысла. Маленький Енисейск казался ему тогда единственным окошком в огромный неведомый мир. Он поступил учеником слесаря в судоремонтные мастерские, подрабатывал грузчиком на речной пристани.
В местах, где прошло раннее детство Федора Силаева, надолго задержались старые, оставшиеся от дореволюционной поры названия. Все эти фактории, заимки и зимовейки, мало что говорящие жителю города или выходцу из Центральной России, были естественны для коренных сибиряков, особенно в глубинке. Когда-то факторией называлась торговая контора, обычно иностранная, куда эвенки и русские промысловики сдавали пушнину в обмен на продукты, порох и мануфактуру. Теперь это название применялось по отношению к кооперативным заготовительным пунктам и к небольшим, возникшим вокруг них поселениям.
В борьбе с суровой природой обитатели факторий обособлялись в изолированные сообщества людей, обладающих хладнокровием и отчаянной решимостью в критических ситуациях. И если судьба отрывала такого человека от родных мест, качества эти нередко задерживались в его потомках вплоть до третьего поколения…
…Федя Силаев выбрался на площадку последним. Шония, старшина и ординарец Повод уже развьючивали лошадей.
– Студэнт, чого рассився? – прикрикнул на Другова старшина Остапчук. – Понабралы сачкив, доси обмотки мотать не навчився.
Другов сидел на кочке и бинтовал тощую голень побуревшей от солнца и пыли трикотажной обмоткой.
– Ладно, – примирительно махнул рукой командир роты, – пусть сходит к тому балагану, посмотрит, что там за бревна. Может, труха одна.
Покончив с обмотками, боец легко вскочил с кочки и едва удержал равновесие. Груз, который в течение всего пути отчаянно тянул его назад, приучил Другова чуть сгибаться, уравновешивать силу тяжести. И теперь, освободившись от ноши, он ощущал себя словно бы в невесомости. Казалось, оттолкнись посильнее, и воспаришь над долиной Эки-Дары подобно птице.







