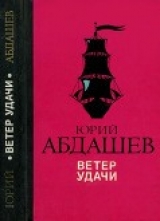
Текст книги "Ветер удачи (Повести)"
Автор книги: Юрий Абдашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
8. БОЕВАЯ ТРЕВОГА
Странное дело, в последнее время меня стали посещать сновидения. Может быть, это оттого, что все мы заметно окрепли и втянулись в жесткий режим. Но как бы то ни было, я уже который раз вижу во сне медсестру Таню. Она является ко мне под утро, гладит мою стриженую голову, и я чувствую губами мягкую кожу ее рук выше запястья и на сгибе у локтя. И от этого прикосновения начинаю таять как сосулька в тепле.
А сегодня сон был вообще фантастический. К нам в казарму пришел хромой старичок с палкой. Дневальный поднял шум, а старичок все рвался вперед и показывал на меня пальцем.
«Сюда нельзя! – кричал дневальный. – Кто вы такой?»
«Я Антабка, – отвечал старичок, постукивая себя палкой по больной ноге, – мне отрезало полстопы колесом товарного вагона. Вот так – щелк, как кузнечными клещами. А помощь оказывала сестричка Таня из санчасти. Она жена курсанта Абросимова!»
«Женька Абросимов женат? – удивляются собравшиеся вокруг. – Не может быть!»
«Вы не знаете Женьки, – смеется старичок, скромно прикрывая рот ладошкой. И вдруг я вижу, что это не старичок вовсе, а самая настоящая собака, наш ротный пес Антабка. Он помахивает хвостом и добавляет: – Это, я вам доложу, фрукт, каких свет не видывал. Он только притворяется тихоней…»
Я просыпаюсь и размышляю, к чему бы такое. Витька говорит, что собака во сне – к другу. Это и без него ясно. В училище, за малым исключением, меня окружают одни друзья. Все эти приметы – чепуха. Просто вечером мы говорили о нашей собаке, и Левка Белоусов высказал предположение, что Антабка мог запросто угодить под поезд. Ведь по прямой до товарной станции совсем близко, и там всегда отираются бездомные собаки. Я пытаюсь опять заснуть, но в это мгновение вспыхивает яркий свет, проникающий даже сквозь плотно закрытые веки, и слышится возбужденный голос дежурного:
– Тревога! Первая рота, подъем!
И где-то дальше:
– Вторая рота, подъем!
В эту перекличку врывается голос старшины Пронженко:
– Внымання! Боева тревога! А Голуб доси спыть! – В последних словах не вопрос, а привычное утверждение.
Я повисаю на руках и спрыгиваю со второго яруса на холодный пол. Тревога как тревога. Только слово «боевая», впервые прозвучавшее в устах старшины, несло в себе нечто новое. И это новое настораживало.
Тревоги! Сколько снов мы недосмотрели в те незабываемые годы, сколько часов недоспали, сколько тепла не сберегли! Тревоги стали привычными в своей неизбежной закономерности. Я как сейчас слышу волнующий медный голос трубы.
– Боевая тревога! – подхватывают возглас нашего старшины дежурные по ротам. – Боевая тревога!
Тяжело грохочут ботинки по деревянному полу казармы, выхватываются из гнезд холодные карабины. Пилотка по форме – два пальца над левой бровью. Хлопают двери. Морозный дух и пар от дыхания.
– По порядку номеров рассчитайсь!
А ночное небо над головой, словно черный полог, прошитый автоматными очередями, все усыпано звездами. В свете фонарей мельтешат серебряные иголочки облетающего с проводов инея. Судя по многим признакам, построение серьезное. Где-то у проходной слышится строевая песня, довольно непривычная в такое время. Это идет «царица полей» – пехота. Все делается быстро и четко, все давно отработано.
На столбе вспыхивает прожектор, и на площадку ложится ярко освещенный овал. Вперед выходит начальник училища:
– Товарищи курсанты! Великая Отечественная война, которую уже полтора года ведет наш народ, достигла критической точки. Близится момент великого перелома, когда наша доблестная Красная Армия погонит ненавистного врага на запад, чтобы добить зверя в его собственной берлоге. – Подполковник говорит громко и торжественно, как на параде. От его губ срывается и отлетает парок. – Сегодня необходимо сосредоточить все усилия, не останавливаясь ни перед чем. В этот исторический час Родина-мать призывает вас под свои боевые знамена. В составе курсантского полка вы отправитесь в самое жаркое место, под славный город Сталинград, и с оружием в руках будете отстаивать свободу, честь и независимость нашей любимой Советской страны…
До нас еще не доходит истинный смысл всего, что он говорит. Мы просто заворожены его голосом, торжественностью обстановки и только подсознательно ощущаем, что стоим на пороге больших перемен.
– Вы хорошо обучены, – разносится голос подполковника, – и, мы уверены, не посрамите звания курсантов нашего военного училища. Полагаю, что в боях, когда вы обретете практический опыт, вам присвоят и командирские звания. Но я твердо знаю, что в бой вы пойдете не ради званий и наград, а по зову сердца, ради высоких и прекрасных идеалов, начертанных на знаменах Октябрьской революции.
Он замолчал и в абсолютной тишине прошелся взад и вперед по плацу. Слышно было, как под его сапогами поскрипывает снег. Потом поднял голову:
– В училище останутся всего три роты. По одной от каждого вида оружия. Точнее говоря, каждая первая рота…
До нас и тут не сразу дошло, что первая рота – это и есть мы. А когда дошло, по шеренгам поползли громкий шепот и голоса возмущения.
– Хреновина какая-то! – негодовал Юрка Васильев. – Сейчас же пойду и потребую. Чем я виноват, что меня когда-то зачислили в первую, а не во вторую роту?
– Я с тобой, – поддержал его Левка Белоусов. – Пойдем вместе.
Сашка Блинков только посмеивался:
– Дураки, кто вас слушать станет? Сколько в армии, а все не привыкнете. Тут вам не колхозное собрание. Никто не отменит решения.
Командиры рот зацыкали на своих курсантов, и порядок был восстановлен.
– Сейчас вы вернетесь в свои казармы, сдадите старшинам оружие и противогазы, а потом будете получать новое зимнее обмундирование и теплое белье. На все это вам дается два с половиной часа, – объявил подполковник. – Эшелон уже на станции. Отправление в восемь ноль-ноль. Желаю вам крепко бить фашистов, оставаясь живыми и здоровыми… Война еще не кончена, кто знает, быть может, мы еще свидимся. – Он огляделся и скомандовал уже другим, привычным для всех голосом: – Командирам батальонов развести подразделения по казармам!
Конечно же, ходоки наши вернулись ни с чем. Больше того, замполит Чурсин пригрозил им тремя сутками гауптвахты, если они не уймутся. Единственное, что мы выгадали, так это теплые ушанки, которые нам пообещали выдать вместе с отъезжающими…
Во второй и третьей ротах стоял дым коромыслом. Все бегали, натыкаясь друг на друга, перебирали тумбочки и перетряхивали содержимое вещмешков – свое курсантское богатство.
– Не волнуйтесь, – утешал ребят Сорокин. – Кухня едет с вами, я узнавал. Кормить будут горячим…
– Сказали, что где-то в пути нам выдадут валенки…
– Ну что, братва, едем доколачивать фрицев?..
Это была истинная правда. Но разве в тот момент кто-нибудь мог предположить, что к концу января из каждых пятерых отъезжающих в живых останется только один?
Хотя нас подняли почти в три часа ночи, ни о каком сне, конечно же, не могло быть и речи. Ровно через два часа тридцать минут курсанты второй и третьей рот в новеньких настоящих шинелях и кирзовых сапогах снова построились перед казармой. Рядом с ними мы в своих выгоревших трикотажных обмотках и мятых прожженных шинелишках на рыбьем меху выглядели особенно жалко, как всеми забытые пасынки. Мы толкались за их строем, жали на прощанье руки и чувствовали себя несчастными.
Но вот прозвучали команды, и колонна тронулась, шелестя полами новых шинелей. Течет мимо нас серая река. Никто не знает, увидимся ли мы вновь. Мне так и не удалось попрощаться с Кимом Ладейкиным. Он ушел со своим батальоном с общего построения, и больше я его не видел.
Проходят роты, скрипя по снегу новыми сапогами. Вместе с ними уходит на фронт и кое-кто из командиров: адъютант старший батальона, командир третьей роты, несколько командиров взводов. Абубакиров стоит нахохлившись, глядя им вслед. Нам уже известно, что все три рапорта с просьбой отправить его в действующую армию, оставлены без внимания.
Мы провожаем ребят до проходной, пока за ними не закрываются тяжелые, окованные железом ворота. А в сердце пустота и холодок недоброго предчувствия.
Все отлично понимали, что друзья наши идут не на тактические учения, что им предстоит сражаться и умирать. А умирать не хотел никто. И все-таки почему мы так рвались уйти вместе с ними в тот день? Почему?
Я убежден, что нет на свете ничего крепче и непогрешимее фронтового братства. Когда приходится бывать на военных кладбищах, мною овладевает смутное беспокойство, словно сквозь толщу лет до меня вновь донесся знакомый сигнал медной трубы: соль-соль-соль, соль-ми-до, и я вдруг начинаю ощущать непреходящую боль утраты и тоски по боевым друзьям, чуждым в своей юношеской чистоте себялюбия и корысти.
Все эти годы мне казалось, будто я неизбежно отдаляюсь от них. Так оно и было в первой половине жизни. Но потом выяснилось, что путь мой пролегает не по прямой, а по кругу, который рано или поздно должен замкнуться. В неизбежности – успокоение. Каждый шаг теперь приближает меня к друзьям далекой юности. И дорого бы я отдал за то, чтобы в урочный час, хотя и с опозданием в несколько десятилетий, занять свое место рядом с ними…
– Ты чего? – толкает меня в плечо Сашка. Он улыбается, но в глазах его стоят слезы. – Будешь? – Он протягивает мне кусок коричневой макухи. – Успокаивает нервную систему.
Когда мы возвращаемся с завтрака, старшина Пронженко – педант и хранитель уставных истин – бросает взгляд на свои знаменитые часы и вдруг останавливает строй совсем неуставной командой «приставить ногу!». Подняв вверх указательный палец, он требует от нас тишины и внимания. Мы все прислушиваемся, и тут до нас доносится отдаленный паровозный гудок, протяжный и глубокий. Так в моем представлении должен трубить раненый слон.
В течение ночи на 1 декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали наступление на прежних направлениях.
Из сводки Совинформбюро.
9. ПОСТ НОМЕР ВОСЕМЬ
Наш взвод назначается в караул примерно раз в двадцать дней. Командир взвода – караульный начальник, в просторечии «карнач». Командир роты на это время обычно становится дежурным по училищу. От других его можно отличить по матерчатой лямке противогаза на груди и по излишне озабоченному виду.
В последний раз к разводу караулов Абубакиров не вышел. Накануне он был назначен адъютантом старшим минометного батальона, а должность командира первого взвода занял Витькин тайный соперник младший лейтенант Зеленский. Уход Абубакирова каждый из нас воспринял как личную драму, но изменить мы ничего не в состоянии.
Зеленский имеет привычку расхаживать перед строем, заложив большие пальцы за ремень, и молча вглядываться в лица курсантов. Он долго не подает команду «вольно», ждет, когда кто-нибудь из нас не выдержит и пошевелится. А заметив какую-нибудь погрешность в заправке, младший лейтенант разражается длинной тирадой:
– Туземцы! Посмотрите, на кого вы похожи! Распустили животы, как бабы на сносях…
В словах его нет ни настоящей злости, ни презрения. Мне иногда кажется, что он просто упражняется в своем грубоватом остроумии. Во всяком случае, глядя на Зеленского, трудно поверить в его высшее образование. Говорят, до войны он работал топографом.
Невысокий, с квадратными плечами и толстыми икрами, наш новый командир взвода напорист в достижении цели. Он резок и в жестах и в суждениях. Походка у него быстрая и легкая, несмотря на кряжистость фигуры. Энергия так и клокочет в нем. Этот нам даст жару…
На первый раз младший лейтенант лично распределяет нас по постам, хотя обычно этим делом занимается Сашка. У него график очередности.
Наши курсанты делят посты на почетные, ответственные, заурядные и… безответственные. К почетным относится пост № 1 у знамени училища. И, хотя днем там надо стоять навытяжку, мы относимся к нему с уважением, тем более что в помещении зимой тепло и не дует. Ответственными у нас считаются посты № 2 и № 4 – склад боепитания и артиллерийский парк. На эти объекты, как правило, не рвутся. Мы устаем от серьезных дел. К тому же хилый, покрытый толем грибок – сомнительная защита в дурную погоду. Заурядные – это все остальные, кроме поста № 8, выставленного в штурм-городке и возведенного нами в счастливый ранг безответственных. Он расположен за чертой училища и организован с единственной целью – помешать труженикам тыла растаскивать на дрова всевозможные бумы, дощатые стенки и заборы. Есть там и некое подобие сарайчика, где стоит столярный верстак на случай мелкого ремонта и где удобно отсиживаться в непогоду. Сегодня мой попугай вытащил счастливый билет – я назначен на пост № 8…
В последнее время Антабка повадился ходить со мной в наряд. Рана у него окончательно поджила, и, хотя становиться на лапу он не мог, стал совершать отдаленные прогулки. К тому моменту, когда смена с разводящим выходила из караульного помещения, Антабка уже вертелся возле дверей. У него было исключительно развито ощущение времени.
Не изменил пес своему обыкновению и на этот раз. Он честно обошел все посты, поджидая в сторонке, пока сменятся часовые, а потом, соблюдая дистанцию, которую диктовало ему врожденное чувство такта, продолжал плестись за нами. Даже рискнул пройти через проходную.
В штурмгородке мне предстояло сменить Соломоника. Тот доложил разводящему, что за истекшие два часа никаких происшествий не произошло, и получил разрешение на сдачу поста. Осматривать тут было нечего, опломбированных помещений не имелось. Мы стали плечом к плечу, глядя в противоположные стороны. Боря сказал: «Часовой Соломоник пост номер восемь сдал», а я продолжил: «Часовой Абросимов пост номер восемь принял». Боря сделал два шага вперед, а я шаг влево, заняв место своего предшественника, и четко повернулся кругом. Он передал мне длиннющий тулуп с огромным воротником и пошел в строй. С этого момента я становился часовым, лицом, наделенным исключительными правами.
Ребята ушли, шаги их постепенно стихли, а верный друг Антабка остался со мной. Я был искренне растроган. Мы вместе обошли небольшой городок и заглянули в сарайчик. Уже смеркалось, но я увидел, что верстак и охапка сухих стружек в углу оставались на своих местах, как двадцать дней назад. Где-то на улице прошел одинокий прохожий, и пес поднял страшный лай, как бы давая понять, что не зря тащился сюда за целый квартал.
При всех своих преимуществах пост 8 имел один существенный недостаток – оторванность. Торчать тут ночью было и тоскливо, и немного жутковато. Хотел – не хотел, а прислушивался к каждому шороху.
Но теперь-то я был кум королю. Кто бы ни появился, верный пес предупредит меня лаем.
Накануне день выдался тяжелый, нас опять гоняли в поле, и я решил допустить некоторую вольность: подгреб ногой стружки поближе к открытым дверям и приказал Антабке ложиться, потрепав его мягкую шерсть на загривке. Потом постелил на верстак тулуп, положил на него винтовку и лег сам, прикрывшись второй полой. Получилось – лучше не придумаешь. На дворе холодный ветер срывает клочья снега с остекленевших веток, а здесь тихо, тепло и по-деревенски мирно пахнет овчиной.
– Ну что, Антабка, – тихо говорю я, и пес в ответ шелестит сухими стружками – виляет своим пушистым хвостом. – Ты добрый и благородный пес. Если бы не твое появление, я, возможно, никогда бы не встретился с ней… Ты приносишь удачу… На тебя можно положиться…
О чем только не передумаешь за два часа! Самыми приятными мыслями для меня с некоторых пор стали мысли о Тане. В общем-то, это были и не мысли, а так, беспочвенные мечтания, бред больного воображения.
«Дурна кров грае», – как говорит старшина Пронженко. По сути, у нас с ней не только разговора ни о чем таком не было, но мы даже ни разу наедине не оставались, хотя она и могла догадаться, что нравится мне. Но она не догадывалась или делала вид, что не догадывается.
Для того чтобы лишний раз увидеть Таню, почувствовать прикосновение ее руки, я на днях пошел на крайность – чиркнул сапожным ножом по левому указательному пальцу. Нож я обнаружил случайно в столе дежурного. Дело нехитрое. Но главное тут было не перестараться, не попасть в одну компанию с членовредителями. Порез получился глубокий, но я не спешил останавливать кровь, а дал ей сбежать струйкой к самому рукаву. Боли особой я не испытывал, зато выглядело это все довольно эффектно, как настоящее ранение. Я полюбовался на свою работу и еще мазнул пальцем, как кисточкой, чтобы положить последний штрих.
Когда я появился в санчасти без шинели с зажатой кровоточащей раной, Таня с испугом повернулась ко мне. К тому времени кровь успела несколько раз капнуть на желтый блестящий линолеум, так как я предусмотрительно разжал пальцы.
– Что, что случилось? – проговорила она, вырывая у меня руку. Мне показалось, что темно-серые глаза ее потемнели еще больше.
– Да так, – бросил я небрежно, – слегка задело в штыковом бою…
– Что за ерунда, в каком бою? – говорила Таня, усаживая меня на кушетку. Она явно не принимала моего натужного юмора. – Занятия давно кончились. Держите салфеточку…
– Я пошутил. Просто неудачно чинил карандаш.
– Фу, вы меня напугали, – вздохнула она, хмуря брови. – Столько кровищи! Думала, по крайней мере, порезали вену…
Кровь не унималась, и Таня сначала дважды обернула палец бинтом, а потом через двойной слой марли смазала йодом.
Пока она бинтовала мне палец и мокрым тампоном стирала с кисти засохшую кровь, я сидел не шелохнувшись. Каждое ее прикосновение вызывало ощущение слабого электрического разряда, словно между нашими руками проскакивала невидимая искра. Когда она проводила пальцами по моему запястью, казалось, что они, как намагниченные, прилипают ко мне. Я слышал ее дыхание и легкий шорох накрахмаленного халата. Я не смел поднять головы, чтобы посмотреть в ее лицо. Я не видел ее глаз, но ощущал их теплоту и нежность.
Сейчас я думал об одном – как продлить это благостное мгновение, не разрушить тот зыбкий мостик, что соединил наши берега. Не существовало уже ни отчуждения, ни разницы в годах. Были двое – она и я. Неужели Таня не чувствует моего состояния? Неужели оно не передалось ей? Этого просто не могло быть…
– Ну вот и все в порядке, – засмеялась она. – До свадьбы заживет…
Я лежал на верстаке, и совесть меня не тревожила. Ну что это за пост? Люди кладут головы на фронте, а мы тут сторожим кучу старых досок. И от кого, от своих же людей! Потом я уснул. Мне снились ромашковые поля, речка и медсестра Таня, выходящая из воды, как Афродита. Правда, она была в черном купальном лифчике и сатиновых плавках с двумя пуговками на боку. По ее высокой шее и сильным ногам ручейками стекала вода…
Очнулся я от сильного толчка и открыл глаза. Кто-то стоял рядом в полумраке и бесцеремонно толкал меня в бок прикладом. Я нащупал под тулупом свой карабин с примкнутым штыком и быстро сел. Передо мной стояли разводящий и двое курсантов.
– Скотина! – прошипел Сашка. – Такого еще не было. Уснуть на посту! Как это, однако, называется?
– Сон в зимнюю ночь, – съязвил кто-то за его спиной. По голосу я узнал Витьку.
– Разве это пост? – пробормотал я, тряхнув головой, чтобы поскорее прогнать остатки сна.
– Не пост? Дать бы тебе разок хорошенько.
Всю дорогу Сашка брюзжал и поносил меня последними словами, а я молчал и думал о том, что мне крупно повезло на помкомвзвода. Попади нам такой, как Красников, и видел бы я небо в крупную клетку через окошко гарнизонной гауптвахты.
Следом за нами скачет на трех лапах предатель Антабка. Устанет – посидит чуток и пускается вдогонку. Эх ты, друг человека! Не залаял, не предупредил вовремя. И только тут до меня доходит, что никакой Антабка не предатель. Просто он не умеет лаять на своих.
Мысль об этом почему-то радует, и я начинаю улыбаться про себя.
– Ты погляди, – взрывается Сашка, – однако, он еще и зубы скалит.
– Смешно. Пес и тот на своих не гавкает.
– Слышишь, Заклепенко, на что намекает этот тип? – Он свирепо улыбается, по своему обыкновению вытягивая вперед губы, словно хочет произнести звук «о».
– Позор на мою седую голову, – сокрушенно разводит руками Витька. – Позор!
24 декабря… Наши войска в районе юго-восточнее Нальчика перешли в наступление и, сломив сопротивление противника, заняли крупные населенные пункты Дзурикау… Ардон, Алагир, Ногкау.
Из сводки Совинформбюро.
10. МЯТНЫЕ КАПЛИ ОТ ТОШНОТЫ
После того как основной состав батальона ушел на фронт, мы получили некоторые послабления. Больше занимались теорией, а после ужина до отбоя практически могли располагать собой как угодно, хотя по правилам это время отводилось на самоподготовку.
Однажды в столовой ко мне подошел курсант из пулеметной роты и сказал, что у проходной меня дожидается какая-то краля. Быстро прикончив ужин, я попросил разрешения у старшины не становиться в строй и помчался к воротам.
За проходной под фонарем действительно стояла молодая полная женщина в черной меховой шубке. Губы ее были ярко накрашены. Она выглядела весьма миловидно, хотя голубые глаза навыкате немного портили ее внешность.
– Вы Женя Абросимов? – спросила незнакомка приятным напевным голосом и протянула руку в тонкой кожаной перчатке. – Я сестра Кима Ладейкина. Зовут меня Лола. Ким много рассказывал о вас.
– Серьезно? – удивился я.
– Вы ведь дружили некоторое время. – Она нервно теребила край мехового воротника. – Я подумала, может быть, он написал вам. С тех пор как они уехали, от него не было ни одного письма.
– Письма будут, – поспешил я успокоить ее. – Вы же понимаете, какое теперь время.
– Да-да, вы правы, Женя, – быстро проговорила она. – Обычно его отпускали ко мне, и мы собирались все вместе. Мы вас ждали на седьмое ноября, но вы почему-то не пришли.
– Так получилось, наш взвод как раз был в карауле.
– А теперь вот Новый год скоро, и брата с нами нет. Это мой самый любимый праздник. С детства. Я знаю: тех, у кого в городе нет ни родных, ни знакомых, в увольнение пускают неохотно. И вот я подумала, почему бы вам не прийти в этот день к нам? Посидим, пообедаем, рюмочку выпьем за них. – Она неопределенно кивнула в сторону вокзала. – И нам будет приятно, и вы побудете немного в домашней обстановке. Ну как, по рукам?
– По рукам, – согласился я.
Мне действительно очень хотелось хоть ненадолго попасть в домашние условия, но я боялся, что мой дружок Сашка откажется просить за меня после случая на посту. И обижаться на него я не имел права. Служба, ничего не попишешь. Не проболтался никому, и за то спасибо.
Когда по вечерам в санчасти дежурит Таня, я иду к ней. Первый раз я пришел в процедурную и сказал, покраснев, что меня поташнивает. Ребята говорили, что в таких случаях дают мятные капли.
– И давно поташнивает? – серьезным тоном спросила Таня.
– Да нет, – смутился я, – недавно. Может быть, мятных капель, а?
– Можно и мятных, – согласилась Таня, – хотя мы, бабы, в таких случаях предпочитаем соленый огурец. Жаль, нет огурцов в санчасти.
Она накапала в рюмочку ровно пятнадцать капель, разбавила водой из графина и с любопытством стала наблюдать, как я, давясь, пью такую дрянь. Для других ребят эти капли вполне заменяли мятные леденцы, а я с детства терпеть не мог запаха мяты.
– Спасибо, – поблагодарил я. – Сразу легче стало.
– Ну, если уж так здорово помогает, – сказала она, – приходите чаще. Наш долг, Женечка, облегчать страдания больных.
Я был потрясен:
– Откуда вы знаете, как меня зовут?
– Ничего хитрого, – засмеялась она, щуря свои продолговатые серые глаза. – Я ведь гадалка и колдунья. Могу заглядывать в прошлое и предсказывать будущее… Не смотрите на меня так серьезно, а то я подумаю, что вы поверили мне.
Невзирая на ее шутливый и даже чуточку насмешливый тон, я почувствовал себя уверенно, будто свалились стеснявшие меня путы.
– Так я приду? Послезавтра?
– Именно послезавтра. Леночкины капли не такие. Мои помогают лучше…
У нас с Витькой получается что-то вроде двухсменной вахты. Один день в санчасть иду я, на следующий день он. Младший лейтенант Зеленский явно обо всем догадывается, смотрит на Витьку волком, но в открытую никаких притеснений другу моему не чинит, хотя я знаю вполне достоверно, что ухаживания командира взвода Леночка отвергает и даже откровенно посмеивается над ним. А ведь ему ничего не стоило бы пресечь эти вечерние прогулки и свидания. Всегда найдется, чем занять курсанта между ужином и отходом ко сну. Или, может быть, он просто затаился до поры и готовит Витьке единственный, но зато сокрушительный удар?
По вечерам в санчасть никто не заходит, и я имею возможность торчать тут часами. Я сижу без шинели на клеенчатой кушетке с термометром под мышкой, рассказываю про свою довоенную жизнь с отцом и читаю стихи Есенина. Термометр – это маскировка. Ее придумала Таня на случай, если сюда забредет дежурный по училищу или начальник медслужбы.
…Как будто тысяча
Гнусавящих дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга…
Стихи Тане очень нравятся, даже глаза у нее начинают подозрительно блестеть. Она вздыхает. Она полна сочувствия ко мне, а я – благодарности к поэту, который неожиданно вызвал у нее прилив доброты и внимания к моей особе.
– А жениться тебе все равно еще рано, – непонятно из чего делает вывод Таня. – Я уверена. Какие твои годы…
– Не знаю, – говорю я, пожимая плечами, – не уверен.
Мне уже пора уходить. На прощанье Таня капает в рюмочку из темного флакона пятнадцать капель, и по комнате разносится одуряюще резкий запах степной мяты.
– Проводите меня до двери, – прошу я. Похоже, что мятные капли придают мне решительности.
Мы выходим из коридорчика в темный холодный тамбур. В темноте люди всегда становятся смелее. Я обнимаю Таню за плечи, притягиваю к себе, ищу ее губы. Она не отстраняет меня и не сопротивляется.
– Женечка, дурачок, – шепчет она, задыхаясь, – просись в увольнение, приходи ко мне на Новый год, а?
– Конечно, я приду. Обязательно приду.
– А если не пустят?
– Сделаю подкоп или просто выломаю окно. Пусть потом судят.
– Пусть, пусть судят, – повторяет она отрешенно.
Когда я возвращаюсь в казарму, руки мои дрожат, как у алкоголика, и сердце все еще продолжает частить. Витька Заклепенко сидит в классе под тусклой лампочкой. Перед ним на столе карабин с вынутым затвором и жестяная двугорлая масленка. Он старательно наматывает на протирку лоскуток ветоши. Шомпол зажат у него в коленях.
– Мой совет – чисть карабин, – говорит он. – Перед сном старшина будет проверять оружие.
– Послушай, – перебиваю я, не обращая внимания на его дурацкие советы, – если по-честному, вы с Леночкой хоть раз целовались?
Мой вопрос застает Витьку врасплох. Он смотрит на меня несколько растерянно.
– Не то чтоб целовались, – начинает он вилять, – но и не то, чтоб… А зачем это тебе?
Я машу рукой и, улыбаясь, иду к пирамиде за своим карабином…
Наконец наступает долгожданный четверг – последний день уходящего в вечность сорок второго года. Я подсыпаюсь к Сашке, прошу его внести меня в список на увольнение. Честно рассказываю про свидание, которое мне назначила Таня. Он как-то странно мнется, но потом говорит довольно сухо:
– Не стоило бы тебя пускать после всего… Но повод, однако, уважительный. Только не для командира роты. Он в лирике как баран, для него это – тьфу. Придумай что-нибудь посолиднее.
– Да, меня же приглашала сестра Кима Ладейки-на, – спохватываюсь я. – Обязательно надо зайти. От него ни одного письма, а они там душой изболелись.
– Тебе везет, – вздыхает он, – это уже кое-что. Ладно, в список я тебя включу, однако, а дальше не мое дело…
Только первого января, в Новый год, я впервые понял значение слова праздник. Это значит праздный день. День ничегонеделания. Замечательный день! Вкусный завтрак с добавками. Из столовой мы всегда выходим с одной и той же шуточкой старшин:
– Поели?
– Не доели!
– Встать! Выходи строиться!
Уже на улице наш Пронженко добавляет:
– В кого увольнительны, прывести себэ у порядок и гайда. Но щоб у двадцать два ноль-ноль як с пушки. Мынута опоздания – наряд внэ очереди.
Я плохо помню свой визит к сестре Ладейкина. Все было словно в тумане. Внимательная ко мне Лола, такая по-довоенному модная, с выпуклыми, слегка покрасневшими веками и припудренным носом. Ее пожилой лысеющий муж со скучными разговорами о политике, об английской дипломатии. Он показывал школьную карту, на которой самолично разрабатывал план нашего наступления на Ростов и Харьков.
– Этим мы сразу отрезаем немецкие дивизии на Кавказе, – объяснял он. – Вы понимаете?
– Понимаю, – вежливо отвечал я.
– А может быть, главный удар лучше нанести отсюда? – тыкал он в карту остро заточенным красным карандашом. – Как вы думаете?
– Можно и отсюда, – соглашался я. – Но лучше не отменять своих решений. Кто колеблется – тот не побеждает!
– Великолепно! Чье это высказывание?
Я немного смутился:
– Моего старшины Пронженко…
Я бы, наверное, не вынес этих разговоров, даже принимая во внимание сытный обед и настоящий сладкий портвейн, который Лола разливала в высокие серебряные бокальчики. Но…
Я приносил в жертву свое драгоценное время только ради славного паренька Кима Ладейкина. Мне отчетливо представлялось, как в эту самую минуту он лежит в заснеженном окопе, а вокруг, насколько хватает глаз, простирается белая до слепоты степь, лишь кое-где изрытая ржавыми воронками. Я чувствую, как у него немеют на морозе пальцы, и боюсь, что, когда настанет час, он не сможет надавить на спусковой крючок…
Танин дом я нашел без особых хлопот, когда на улице уже смеркалось. Она жила в глубине двора, в небольшом саманном флигеле с отдельным входом. Коридорчик и две малюсенькие комнаты, немногим больше вагонного купе, отделенные друг от друга аккуратно побеленной плитой и щитком дымохода.
Когда я вошел, Таня приложила палец к губам:
– Тс-с, там спит Наташка.
– Какая Наташка? – не понял я.
– Дурачок ты, Женя. Дочка моя. Ей пошел третий год.
Но в тот момент я как-то не осознал значения ее слов. В первой комнатке горела одна-единственная настольная лампа, да и та была прикрыта большим абажуром. И все-таки я мог смотреть на Таню сколько угодно. По-моему, я впервые увидел ее не в белом.
Сейчас она была в домашнем халате и шлепанцах, надетых на босу ногу. У нее оказались очень густые волосы, блестящие и коричневые, как скорлупа каштана, только что вылупившегося из мясистой колючей оболочки. В полумраке мелкие детали ее лица почти не улавливались, исчезли рябинки с ее лба и щек. Воспринимались только основные черты, контур строго очерченного носа и пластичная линия подбородка, словно на рисунке тушью. Мне казалось в тот миг, что передо мной сидит, поджав под себя ноги, самая прекрасная, самая восхитительная из женщин. Я был влюблен. Со мной такого никогда не было. От любви и нежности к ней в глазах у меня стояли слезы.







