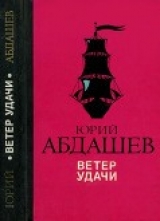
Текст книги "Ветер удачи (Повести)"
Автор книги: Юрий Абдашев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Она протянула через стол руку и дотронулась до моей головы:
– У тебя мягкие волосы, ты должен быть добрым.
Мои стриженые волосы стали подрастать и казались похожими на почерневшую от дождей колючую стерню сжатого поля.
– Ты ведь долго будешь у меня, правда? – спросила она.
– Правда…
– Я на днях отоварила карточки. Мы прикреплены к военторговскому магазину. Перед праздником нам давали маргарин, муку и сахар. Я испекла коржики. Ты любишь коржики, Женя?
– Люблю, а как же. – Я поднялся и подошел к ней. – С Новым годом, Таня! – И я поцеловал ее. Я так долго не отпускал ее губ, что она начала задыхаться и барабанить ладонями по моей спине.
Когда я наконец оторвался от нее, губы у Тани были припухшими и розовыми.
– Вот видишь, тихоня, – засмеялась она, блеснув зубами, влажными и неестественно белыми в этом освещении, – капельки-то мои мятные помогают…
…А потом она лежала рядом со мной на узкой неудобной кровати и, поднявшись на локте, внимательно изучала мое лицо, окончательно поглупевшее от любви. Волосы ее, длинные и тяжелые, заслоняли половину лба и всю правую щеку.
Я закрыл глаза и почувствовал запах ее кожи, такой теплой и шелковистой под пальцами, запах чистых подкрахмаленных простыней и сохнущей на плите еловой лучины для растопки. Я был счастлив! Никогда до этого дня и никогда после не прельщала меня власть над людьми, но в тот момент я был упоен своим владычеством над любимой женщиной. Пусть на вечер, пусть на час, но я был ее властелином, самодержцем, а она удивительным женским чутьем угадывала мои чувства и по-своему поощряла меня.
– Хочешь, я вышлю тебе аттестат, когда нам присвоят звания и направят на фронт? – неожиданно для самого себя спросил я. – Хочешь? У меня ведь все равно никого нет.
– Не хочу, Женечка, – усмехнулась она. – Аттестат тебе еще пригодится.
– Я хотел бы умереть за тебя, – как-то само собой вырвалось у меня.
Она отвела рукой волосы, словно раздвинула тяжелый занавес, и вдруг я увидел в ее глазах настоящий, неподдельный страх.
– Нет-нет, ты не умрешь, – быстро проговорила она, – не погибнешь, не сгоришь в огне, не утонешь. Я колдунья. Я наворожу тебе долгую, долгую жизнь, слышишь? – И она вдруг заплакала…
Таня – первая женщина, которую я узнал так близко. Она была на десять лет старше меня, здоровья и сил у нее хватило бы на троих, но сейчас она казалась мне беспомощной, как ребенок. Я целовал ее шею, плечи, я успокаивал ее, пытался рассмешить, называл самыми нежными именами, какие только мог придумать в этот необыкновенный новогодний вечер.
Потом мы пили чай с коржиками, и Таня разрешила мне подымить в открытую печную дверцу.
В половине десятого она стала меня торопить. Я даже немного обиделся.
– Дурачок, – засмеялась она, – если ты опоздаешь, тебя больше не отпустят ко мне.
Она встала на стул и достала со шкафчика сотню папирос «Казбек» в длинной бумажной пачке. Таких папирос не курили даже наши командиры.
– Как закуришь, так и вспомнишь меня.
– Не волнуйся, и так не забуду.
– Бери, бери, – настаивала Таня, – угостишь ребят. У них ведь по-настоящему и праздника не было.
– Сегодня пятница, постный день, – сказал я, – а нас вместо макарон на завтрак кормили шпротами. Самыми настоящими. По две штуки на брата.
– Иди скорее, а то придется бежать всю дорогу. Я еще хочу успеть присниться тебе этой ночью, слышишь?
Резкий ветер на улице слегка отрезвил меня. Ведь если была маленькая Наташка, значит, был и отец. Кто он, где он? Воюет на фронте, умер, сбежал? Нет, я не утруждал себя пустыми вопросами. Просто нас было двое – она и я, а все остальное меня не касалось.
Странная вещь: там, рядом с Таней, я чувствовал себя большим и сильным. Казалось, я мог защитить ее от любой напасти. Но возможности мои были слишком ограничены. И, чем больше шагов отделяло меня от ее дома, тем меньше прыти и самоуверенности оставалось во мне. Словно бы я уменьшался в росте. Ветер выдувал из меня эмоции, срывал романтические покровы. Мне хотелось ухватить себя за волосы, удержать на прежней высоте, но, увы, волосы были для этого слишком коротки.
Я искал и не находил путей к самоутверждению…
В казарме все набросились на папиросы.
– Ну, Абросимов, ну, Женька, – радовался Юрка Васильев, хватая не меньше десятка папирос сразу. – Везет же людям. Не то, что у Заклепы – любовь вприглядку…
Я снисходительно посмеивался, но меня так и распирало от ощущения собственной возмужалости. Я стоял, привалившись к стальному изголовью двухъярусной койки.
В это время из каптерки выскочил помкомвзвода-три Красников. Пробегая мимо нас и увидев сотню «Казбека», он мигом притормозил.
– Здорово, Абросимов, – кивнул он, как ни в чем не бывало, – угости толстой папиросочкой.
– Некурящий, – ответил я и повернулся к нему спиной.
Терпеть не могу живодеров…
– Откуда? – спросил подошедший Сашка, беря папироску двумя пальцами. – От Ладейкиных? По-моему, ее муж какой-то блатмейстер.
– Какие там Ладейкины! – возмутился я. – Это она угостила, Таня.
– Серьезно? – покачал головой мой помкомвзвода. – Ну и как же там было?
– Все по боевому уставу – часть первая, – вытянулся я и щелкнул каблуками, – как учили.
– Ты, однако, способный…
Витька взял меня за локоть и отвел в проход между койками:
– Послушай, Сашка тут места не находит, мечется весь день, как карась в садке.
– Какой Сашка? При чем тут Сашка? – возмутился я.
– Ты неспособный, ты тупой, как валенок. Он же целый месяц шлялся из-за нее в санчасть. Выпил ведро этих чертовых мятных капель, а ты вот так все ему на блюдечке…
– Кто же знал? – смутился я.
– Ладно, хоть не зря сходил, – засмеялся Витька.
С верхней койки свесилась белая голова Левки Белоусова. Впалые щеки его при свете электрической лампочки казались особенно темными, словно измазанными в угле.
– Вы, герои-любовники, кончайте трепать языками. Мужчины так не поступают… – Он закашлялся, уткнувшись лицом в подушку. – Стыдно ходить к бабе, валяться в ее постели, а потом, раскуривая ее же папиросы, обсасывать все так, словно побывал где-нибудь на скачках.
Не будь это Левка, я бы, разумеется, не стерпел, сyмел бы отбрить как надо, но сейчас промолчал. Во мне разом погасла праздничная иллюминация, будто кто-то невидимый одним движением взял и выключил рубильник.
Мне вдруг представился отец, я даже почувствовал на плече его руку, услышал слова, сказанные им на прощание: «Оставайся мужчиной, чтобы мне не пришлось краснеть за тебя…»
На душе стало мерзко. Витька отошел, а я протянул руку и потрогал Левку за плечо. Он резко повернулся ко мне лицом.
– Ты извини, – сказал я и почувствовал, что краснею, – все получилось как-то само собой. Я не хотел говорить ничего плохого. Я ведь люблю ее.
– Ну ладно, ладно, – неожиданно смутился он. – Чего уж там. Ложись спать. Поверки сегодня не будет…
1 января. На Центральном фронте наши войска… в результате решительного штурма… овладели городом и железнодорожным узлом Великие Луки. Ввиду отказа сложить оружие немецкий гарнизон города истреблен.
Южнее Сталинграда наши части овладели городом Элиста…
Из сводки Совинформбюро.
11. ЛЮБОВЬ К ОРУЖИЮ
У мальчишек это в крови. Я не о рогатках, из которых стреляют по воробьям и бродячим собакам, не о детской жестокости. Речь идет о настоящем боевом оружии, недоступном для пацанов. Только бы прикоснуться, только бы подержать в руках. Дайте такому настоящий карабин, и он будет холить его с не меньшей нежностью, чем девчонка свою любимую куклу. Его не пришлось бы заставлять чистить винтовку щелоком, продирать ершиком, смазывать маслом. Она бы у него всегда была в полном порядке.
Мы, вчерашние мальчишки, тоже чистим оружие, но… уже без энтузиазма, по необходимости. В чем же дело? Может быть, это происходит оттого, что оно стало для нас доступным?
Помню, в детстве за неимением настоящих винтовок и пистолетов мы обходились деревянными, собственного изготовления. И чем искуснее была сработана такая самоделка, тем выше она ценилась. Однажды отец смастерил мне пулемет с трещоткой. Вместо кожуха он пристроил рифленый футляр от старого термоса, щит выпилил из фанеры, а колеса приспособил от поломанного самоката. Какой триумф это вызвало в нашем дворе! Мы играли в войну, штурмовали крепость, сложенную из закопченных кирпичей от разобранной печки, падали и снова поднимались во весь рост. Мы были как заговоренные, и пули в этой войне не брали нас.
Отец не вмешивался в наши игры. Он вообще никогда не мешал, если я не переступал границ дозволенного. Но он всегда присутствовал рядом со мной, даже незримо, когда его не оказывалось поблизости. Вот почему мне так не хватает его здесь и почему я порой испытываю по нему такую тоску…
Мне и сейчас интересно бывать на занятиях, где нас знакомят с новым оружием. Артиллерийские системы мы изучаем в специальном классе или в артпарке, похожем скорее на музей отечественного и трофейного вооружения. Там есть даже 105-миллиметровая немецкая гаубица на литых резиновых шинах и маленькая мортира, вся пегая от серо-зеленого камуфляжа. В часы самоподготовки мы усердно зубрим названия частей всевозможных накатников и тормозов отката, поршневых и клиновых затворов, поворотных и подъемных механизмов и много другого, что обязано было удержаться в памяти.
И насколько же все усложнялось, когда в этот прочный, незыблемый распорядок вдруг врывалась любовь! Наши крепкие головы, на которых можно было колоть орехи, становились бестолковыми и пустыми до звона в ушах.
Я по-прежнему ходил к Тане в санчасть. Мы иногда подолгу простаивали в темном холодном тамбуре, но что-то изменилось во мне. Я никак не мог найти верного тона в обращении с ней. Можно было понять, что с того новогоднего вечера наши отношения вступили в какую-то новую фазу и старые интонации казались непригодными и безнадежно устаревшими. А чем заменить их, я не знал. Я искренне убеждал себя в том, что во мне ничего не изменилось и никогда не изменится, но Таня своим женским чутьем улавливала эту незримую перемену и ни в чем не упрекала меня.
– Ты придешь ко мне еще когда-нибудь, Женечка? – иногда спрашивала она.
– Что за вопрос, конечно! Но сейчас напряженные дни, никому не дают увольнительных. Через неделю экзамен по матчасти. Вот, может, ко Дню Красной Армии…
– А если сделать подкоп? – грустно улыбалась она. – Или выломать окно в казарме? Пусть потом судят, а?
– Ну что же, – бодро отвечал я, – начнем копать понемногу. А землю таскать в шапке…
В первых числах января нас оглушили невероятной новостью: в Красной Армии вводятся погоны! А командиры теперь будут называться офицерами. Сразу это даже не укладывалось в сознании.
Старый банщик дядя Жора, с которым мы общались раз в десять дней и который вечно стрелял у нас махорку, недовольно бурчал по этому поводу:
– Как же так? Да мы этих самых золотопогонников в двадцатом под Перекопом на штыки поднимали. А теперь опять – ваше благородие? Не-е пойдет, не-е пойдет…
Но мы почему-то были довольны. Может быть, потому, что золотопогонников тех и в глаза не видели, не застали. Они ушли в историю, как мамонты и саблезубые тигры. Что мы знали о русском офицерстве? В голове вертелась одна опереточная бутафория – разные там кивера с султанами, гусарские ментики, георгиевские темляки на палашах кирасиров и непременная мазурка…
Вечером в красном уголке капитан Грачев проводил беседу о новых знаках различия. На стене висел цветной плакат с образцами погон и петлиц личного состава всех родов войск. Это впечатляло и внушало уважение к вековым традициям русской армии, преемниками которой мы вправе были себя считать. В отличие от дяди Жоры заместитель командира батальона по политчасти увязывал это не с белогвардейщиной, а с Отечественной войной восемьсот двенадцатого года, с первой обороной Севастополя, с героями Шипки и Порт-Артура.
Зашли на огонек лейтенант Абубакиров и командир роты. Когда закончилась беседа и начались общие разговоры о подвигах, о бесстрашии и трусости, наш бывший взводный не утерпел и вступил в спор:
– О чем вы толкуете? Природные качества, приобретенные качества… Все это чепуха. Героями не рождаются. Больше того, человек, лишенный страха, это ущербный человек. Отсутствие его такой же порок, как врожденная глухота. Страх – это естественный сигнал об опасности, он призван мобилизовать сознание и защитные силы организма. Не верьте, что есть такие люди, которые без малейшего душевного колебания отрываются от земли, чтобы под пулями идти в атаку.
– А воля? – спросил Юрка Васильев.
– Об этом-то я и говорю. Воля – мощнейшее оружие человека. С ее помощью он может частично подавить страх, сделать так, что никто из окружающих не заметит дрожи в его коленках. Он в нужный момент поднимется, чтобы повести за собой отделение, взвод, роту. О таком мы обычно говорим – смелый, отчаянный. Но боится он ничуть не меньше того, кто остался лежать на дне окопа, обхватив голову руками. И в этом еще большая его заслуга, в этом, я бы сказал, особое величие человека. Короче, один преодолел свою природу, врожденный инстинкт самосохранения, а другой нет. Великая вещь – преодоление!
– А что же такое боевой порыв? – спросил Юрка. – Все робеют, но бегут?
– Именно так: робеют, но бегут. Просто в определенный момент их увлекает азарт боя, близость конкретной дели и святое чувство локтя. Вам как будущим командирам надо знать психологию солдата, чтобы научиться управлять им в сложных условиях современного боя…
Но младший лейтенант Зеленский, насколько я успел заметить, мало интересуется вопросами психологии. Он прямолинеен, как штык. Верит только в физическую закалку и умение выполнять приказы. Иногда кажется, что он поставил перед собой задачу выжать из нас на занятиях все соки. Мы передвигаемся перебежками, разворачиваемся в цепь, где у каждого должно быть строго определенное место, и с примкнутыми штыками атакуем воображаемого противника. И так до тех пор, пока наши нижние рубахи не становятся мокрыми.
Чтобы усложнить занятия, командир взвода периодически заставляет нас осуществлять тактические маневры в противогазах. Иногда это выше человеческих сил, и без того легким не хватает воздуха, а Зеленский еще требует от нас осмысленности и любви к делу:
– Это не сердце девушки. Заставить вас полюбить военное ремесло, полюбить оружие в наших силах.
Мокрые как мыши, мы стоим на зимнем ветру, выслушивая его пространные замечания.
– Кто там поднял воротник? – вглядывается он в строй. – Соломоник? Может быть, прикажете подать вам меховую горжетку, чтоб горлышко не застудили? Товарищи курсанты, вы напоминаете солдат наполеоновской армии в дни бесславного отступления от Москвы. Где осанка, где гордо вздернутый подбородок? Старик Кутузов говорил: придет зима, настанут вьюги и морозы – вам ли бояться их, дети Севера… – Он достает карманные часы с двумя крышками и, убедившись, что времени еще достаточно, командует: – Надеть противогазы. Ложись! По-пластунски вперед, марш!
Младший лейтенант легко, с пружинистым прискоком идет позади и подает лаконичные реплики:
– Брильянт, ниже голову, ниже! Сорокин, не выпячивайте сахарницу, не то схлопочете пулю. Неловко будет, когда ваши дети начнут спрашивать: «Папа, куда тебя ранило?»
– Не могу, братцы, вот честное комсомольское, – гудит под резиновой маской Володька Брильянт. – Сейчас кончусь…
– Ш-ш-ш, дурень, ушись у меня, – со странным шипением отвечает Сорокин. – Не шешись, отверни трубку, и делу конеш.
А мы все ползем и ползем. Перед глазами, как следы трассирующих пуль, мелькают разноцветные искры.
– Встать! В атаку бегом, марш!
Мы вскакиваем и бежим, спотыкаясь, к заброшенной станционной водокачке с растрепанным гнездом аиста на крыше. У Брильянта на бегу выскакивает из противогазной сумки нижний конец дыхательной трубки, которую он только что по совету Сорокина отвинтил от металлической коробки. Прорезиненная трубка болтается, как змея, где-то сбоку, и Володька никак не может упрятать ее обратно в сумку.
От Зеленского такое, естественно, не может укрыться. Он останавливает нас. Мы выстраиваемся и, с трудом отдирая резину от потных лиц, стаскиваем противогазы.
Командир взвода подходит к Володьке и берет из его рук маску. Некоторое время рассматривает ее, а потом запускает руку в противогазную сумку Брильянта. Оттуда под общий хохот он извлекает две небольшие промерзшие редьки с прилипшими к корешкам комочками земли.
Младший лейтенант не разделяет нашего веселья. Глаза его сужаются, он слегка бледнеет и вдруг, размахнувшись, сильно бьет Володьку по лицу гофрированной трубкой.
– Я из вас сделаю людей, – шепчут его побелевшие губы. – Вы у меня землю жрать будете, но научитесь выполнять команды…
После короткой паузы, вызванной всеобщим замешательством, по шеренге волной прокатывается ропот возмущения.
– Однако это ни к чему, – качает головой Блинков.
– Попридержите руки, товарищ младший лейтенант, – советует Лева Белоусов, глядя в упор на Зеленского.
Командир взвода свирепо кривит губы:
– А вы что, курсант Белоусов, может быть, хотите дать мне сдачи? Давайте, давайте, ну же…
– Обязательно дам, – спокойным голосом отвечает Левка. Даже слишком спокойным. – В первый же день, как только присвоят звание.
– Что ж, – соглашается младший лейтенант, – ждать осталось недолго. А пока антракт окончен, продолжим занятия. – Он вытягивает вперед руку: – Вон сараюшка без крыши. Два пальца левее водокачки. Там засел противник с ручным пулеметом. Его приказано атаковать и забросать гранатами. До кустов перебежками, дальше цепью бегом. – Он делает несколько шагов назад и орет с неожиданным остервенением: – Газы! Вперед марш!
Петляя, падая и вскакивая вновь, мы добегаем до кустов, а потом, поднявшись в рост и направив штыки вперед, бежим к пустому сараю. Туман застилает глаза, и мы почти ничего не видим. На правом фланге цепи какое-то замешательство, несколько человек упало, будто их и вправду срезала пулеметная очередь.
Возле сарая мы останавливаемся, стягиваем противогазы, с трудом переводим дух. У Левки Белоусова на лбу вздулась синяя вена. Там, позади, еще копошатся на снегу трое наших, и мы не торопясь направляемся в их сторону.
Выясняется, что Заклепенко, Брильянт и Соломоник, ничего не видя сквозь запотевшие стекла противогаза, угодили в старые фекальные ямы, слегка припорошенные снегом и покрытые корочкой льда, провалились чуть ли не по самые колени. От злости и обиды у Соломоника по-детски кривятся губы, а Витька, такой спокойный и уравновешенный обычно, матюгается во весь голос.
Потом мы идем к речке. Пострадавшие заходят по колени в ледяную воду и полощутся до тех пор, пока ноги не сводит судорога. Но это всего лишь первоначальная обработка. Дома придется все стирать, сушить, гладить, чтобы не осталось даже воспоминаний об этих проклятых выгребных ямах.
– Наука! – потирает руки Зеленский. – Пока не обожжешься, дуть не научишься. Для того чтобы не отпотевали стекла, вам выдали специальные карандаши. Дерьмовые вы бойцы, если не умеете на деле применять свои знания…
– Лишь бы до завтра запаха не осталось, – беспокоится Витька, и я могу его понять.
Вспомнит ли об этом Заклепенко, когда осенью во главе взвода штрафников ворвется у косы Чушки на Керченскую переправу и увидит берег, обозначенный трупами вражеских и своих солдат? И трудно будет понять, кого тут побито больше. Их станут бомбить немецкие «лаптежники» – пикирующие бомбардировщики Ю-87 с обтекателями на неубирающихся шасси, и обстреливать через пролив тяжелая корпусная артиллерия.
Ему, раненному, оглушенному взрывом, придется долго лежать на сырой истолченной ракушке у самой воды, ожидая помощи. И тогда он поймет, наверное, что содержимое выгребных ям – это всего лишь органическое удобрение, невинные цветочки по сравнению со смердящими трупами и жженым толом – чудовищным смешением двух самых страшных запахов на земле, запахов смерти…
Ребята долго спорят, чем ответить на поступок Зеленского. Об этой истории у старой водокачки мы никому ни слова не говорили, и все же старшина каким-то чудом все пронюхал. Но он слишком хорошо знал уставы, чтобы критиковать старшего по званию, а потому отделался шутливым аллегорическим замечанием:
– Нэ права коза, що в лис пишла, нэ прав и вовк, що козу зъив…
И все-таки, что же нам делать? Пойти к командиру роты, к замполиту Грачеву? И то и другое отвергается сразу. Не хватало будущим офицерам плакаться и строчить доносы. Но и так оставлять… Может, посоветоваться с Абубакировым? Ему взвод верит. Это, пожалуй, подходит…
Выслушав нас, лейтенант долго молчит, потом поднимает голову:
– Начнем с того, в каком плане рассматривать вашу информацию – как официальное заявление или как разговор по душам?
– Фа-акт, как разговор, – говорит Володя Брильянт.
– У меня нет оснований, чтобы оправдать поступок вашего командира взвода. Могу только объяснить его. Попытаться объяснить. Мы все здесь живем в невероятном напряжении физических и духовных сил. Вы думаете, зря ваш командир роты уже полгода просится на фронт и только сегодня наконец получил положительный ответ на свой шестой рапорт? Да, старший лейтенант Мартынов предпочел передовую. Ему повезло больше остальных. – Лейтенант трет виски и долго смотрит на чернильную кляксу, посаженную писарем посреди стола. – До войны кадровых командиров учили полных два года. Перед нами задача – сделать это втрое быстрее, не проиграв в качестве подготовки. Вы понимаете, это не курсы «Выстрел», это военное училище кадровых командиров, обучающихся по ускоренной программе. Военная служба нелегка и в мирное время. Сейчас же от вас и от нас требуется втрое больше усилий. Так вот, у одного командира достает ума, сил и такта, чтобы не взорваться при виде явного разгильдяйства, сделать скидку на условия, на обстоятельства, у другого – нет. Я знаю, у младшего лейтенанта Зеленского нет никаких поводов, чтобы ненавидеть вас. Просто в нем все клокочет от нетерпения – скорее, скорее сделать из вас настоящих строевых командиров. Он как паровой котел под критическим давлением. И последнее. У младшего лейтенанта особое отношение к противогазу. Его отец испытал на себе газовую атаку немцев еще в первую мировую. Потом восемь лет до самой смерти выплевывал куски легких. Ваш командир видел все это еще мальчишкой… А теперь вы вправе поступать так, как подсказывает вам совесть.
Совесть подсказала нам молчать…
17 января наши войска после упорного боя овладели городом и крупным железнодорожным узлом Миллерово. Немецкий гарнизон города, пытавшийся вырваться из окружения, почти полностью.
Из сводки Совинформбюро.







