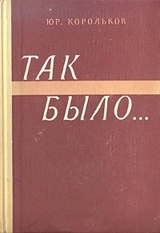
Текст книги "Так было…(Тайны войны-2)"
Автор книги: Юрий Корольков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 63 страниц)
Ведь группы разведчиков уже проникали на западные окраины города.
А команда саперов, которую создали по распоряжению Гитлера, чтобы разрушить московский Кремль, уже выдвинулась на передний край…
Голос Хойзингера окреп, полковник начал говорить об успехах первых месяцев войны на Востоке.
– Только в сражениях под Минском, Вязьмой и Киевом было взято около полутора миллионов русских солдат и офицеров, попавших в окружение.
Хойзингер привел цифры из приказа Гитлера перед решающим наступлением на Москву. Приказ остался невыполненным, но преувеличенные цифры русских потерь вселяли уверенность в близком исходе войны – пленных захвачено два миллиона четыреста тысяч, танков взято семнадцать тысяч пятьсот, орудий одна тысяча шестьсот, самолетов четырнадцать тысяч. В приказе приводились астрономические цифры советских потерь.
Гитлер поморщился – эти цифры нужны только Геббельсу для пропаганды. Но он промолчал.
Хойзингер продолжал. Он согласен с господином имперским министром иностранных дел Риббентропом, который категорически заявил, что русские потерпели такое поражение, от которого они уже не смогут оправиться…
И тем не менее через две недели после такого заявления Риббентропа русские начали свое декабрьское наступление под Москвой. Оно причинило большие неприятности.
Указка в руках полковника, скользившая так уверенно по карте, вдруг замерла и опустилась. Хойзингеру предстояло сказать самое трудное. Он вытер платком пересохшие губы.
– Как известно, в ноябрьских боях выполнить поставленную задачу нам не удалось, – выдавил из себя Хойзингер. – Контрнаступление русских под Москвой вынудило наши части несколько отойти и закрепиться на новых рубежах.
Наступило тягостное молчание. Хойзингер закончил доклад, но Гитлер продолжал обкусывать палец. Наконец он справился с заусенцем. Поднял голову:
– Все-таки чем же вызвано наше отступление?
Хойзингер молчал. Пусть отвечает кто-то другой – тот же Гальдер. Он всегда рвется первым докладывать Гитлеру об успехах и прячется в кусты, когда надо говорить о неприятных вещах. Поручает ему, Хойзингеру, выкручиваться из затруднительных положений и подставляет его под неистовый гнев фюрера. Будто Хойзингер громоотвод…
– Кто же мне ответит? – Гитлер обвел присутствующих тяжелым взглядом и остановился на Гальдере.
Начальник штаба сухопутных войск поднялся:
– Из-за суровых морозов, мой фюрер, солдаты покидают окопы, не могут выдержать и уходят в деревни. Поэтому в линии фронта образуются бреши…
Опять морозы! Это вывело Гитлера из себя. Он уже снял за провал зимнего наступления командующего сухопутными силами Браухича и принял на себя пост главкома, сменил многих генералов, в том числе фон Бока. Вообще генералы, вместо того чтобы брать Москву, неотвязно твердили о том, что надо отступить за Днепр и с весны начать новое наступление. Гитлер категорически возражал. Теперь все начинается снова.
– Морозы? – переспросил Гитлер. Он сказал это вполголоса и сразу перешел на истерический крик. – А на русских морозы не действуют? Русские могут сидеть в окопах?! Они что, не мерзнут? Ерунда!.. Надо уметь командовать или хотя бы беспрекословно выполнять мои приказания… Я принял командование вермахтом не для того, чтобы кто-то подрывал мой престиж! Я не допущу этого… Не допущу!.. Я приказал отдать под суд генерала Геппнера за самовольное отступление. Я разжалую его в ефрейторы. Так будет с каждым. Зарубите это на носу!.. Уходите!.. Не хочу никого слушать!
Генералы поднялись с мест, но Гитлер движением руки остановил их. Он заговорил тише:
– Останьтесь… В наступившем году мы закончим то, в чем отказала нам судьба в году прошлом. Международная ситуация складывается в нашу пользу. Япония вступила и войну с Америкой. Это нам на руку. Но решающая задача остается прежней – сокрушить Россию, И я сокрушу ее. Смертельный удар мы нанесем в том случае, если отрежем противника от кавказской нефти, от кубанского хлеба, лишим его промышленных районов. Эти поразит русских сильнее, чем удар под Москвой… У вас другая точка зрения, генерал Гальдер?
– Нет, нет, – торопливо ответил Гальдер. – Я только предполагал нанести основной удар по русским силам, которые защищают Москву. Но если…
Гальдер тоже был сторонником временного отхода германских войск от Москвы. Временно – на зиму. Теперь он тоже считал, что генеральный штаб допустил ошибку, не подготовив зимнего обмундирования. Браухич, Паулюс оказались правы. Но ведь все утверждали, что солдатам не понадобится зимняя одежда, что к рождеству они будут дома. О том же прожужжал все уши Геббельс. Но теперь об этом вспоминать нечего. Надо во всем соглашаться с Гитлером Гальдер стоял, вытянувшись по-солдатски. Кончики пальцев его дрожали.
– Москву мы возьмем, – продолжал Гитлер. – Но представьте себе, какие перспективы откроются перед нами, когда летом наши армии будут стоять на огромной дуге Батум – Баку – Сталинград – Воронеж. – Гитлер больше не упоминал о молниеносном поражении Советской России в шесть-восемь недель. – Москву мы обойдем с тыла. В то же время с новых позиций мы сможем послать экспедиционные корпуса куда нам заблагорассудится к Персидскому заливу или за Уральские горы. Мы будем хозяевами положения… Я не вижу иной операции, которая открывала бы такие перспективы. Прошу генеральный штаб разработать стратегический план операции. Используйте мою идею. Генерал Гальдер, я обращаюсь прежде всего к вам.
– Яволь! – Гальдер вскинул голову. – К разработке операции приступим немедленно…
В январе 1942 года в Вольфшанце, в ставке Гитлера, был намечен в общих чертах план предстоящего летнего наступления на советском фронте.
Глава пятая
1
Полковник Сошальский выполнил просьбу Андрея. Зимой, в начале января, с подвернувшейся оказией он переслал в Москву его полевую сумку и кое-какие личные вещи, уложенные в старенький фибровый чемоданчик. Отправил он и официальное извещение, в котором говорилось, что «старший политрук Воронцов А. Н. в ноябре месяце 1941 года пропал без вести». К этому времени Зина успела вернуться из эвакуации. В отъезде она была недолго. Осенью вместе с Вовкой уехала к матери, но как только немцев отогнали от Москвы, она заторопилась обратно. Тревожные сводки Информбюро, когда что ни день появлялись новые направления – Гомельское, Смоленское, Киевское, – сменились наконец сообщениями о первых победах. В газетах перечислялись огромные трофеи, захваченные под Москвой нашими войсками, печатали фотографии, на которых изображались брошенные противником танки, орудия, трупы, запорошенные снегом. Зине казалось, что война теперь вот-вот кончится. Впрочем, многим хотелось думать, что будет именно так.
Конечно, в памяти сохранился ее панический страх, вызванный первыми налетами на город, бомбардировками Москвы, бесконечными воздушными тревогами, бессонными ночами, слухами, которыми обменивались люди в тесноте бомбоубежищ. В Зининых ушах еще долго стоял тревожный, шаркающий топот ног по асфальту за ее окнами в арбатском переулке. Она просыпалась на рассвете от рева сирен, хватала сонного Вовку и тоже бежала, охваченная страхом, торопливо стучала каблучками по тротуару вместе с другими.
У входа в метро на Арбатской площади толпа бегущих становилась гуще, люди старались быстрее укрыться под сводами метрополитена. В тоннелях было тесно и неприютно, но безопасно. Сестры в белых халатах раздавали детям бутылочки с молочной смесью и киселем. Они перешагивали через сидящих на шпалах, выбирая место, куда можно ступить ногой, и протягивали матерям проволочные корзинки с теплыми бутылочками. Это было очень трогательно – теплые бутылочки для детей в бомбоубежище…
После того налета, когда бомба развалила театр Вахтангова – это рядом с их переулком, – Зина решила немедленно уехать из Москвы. До этого ее что-то удерживало в городе, хотя многие уехали еще в июле – сразу после первых бомбежек. Рассказывали, что в театре погиб известный актер. Зина вспомнила – студенткой она была влюблена в него и вместе с другими поклонницами актера простаивала у артистического подъезда, чтобы хоть мельком увидеть его поближе.
Жизнь в деревне, те несколько месяцев, что Зина провела в неприютной глуши, холодные, моросящие дожди, слякоть, грязь, запах коровников поселили в душе Зины чувство серой, безысходной скуки.
Подруга Зины, не покидавшая Москвы, написала ей, что теперь в городе стало значительно лучше, спокойнее. Наши не пропускают ни одного фашистского самолета. С одним летчиком она познакомилась – такой интересный, веселый… Подруга советовала ей возвращаться.
Зине удалось выхлопотать пропуск, и она приехала домой как раз за несколько дней до того, как ей привезли вещи Андрея. Она тяжело, искренне переживала горе, плакала, делилась несчастьем с подругой, говорила, что не переживет, если не станет Андрея, но вскоре утешилась и смирилась. Приятельница убеждала – ведь еще ничего не известно. А Зине тоже хотелось верить в хорошее, так же как верила она, что война скоро кончится. Она утешала себя надеждой, что с Андреем все обойдется благополучно. Ведь пропасть без вести – еще не значит погибнуть. Мало ли что бывает…
Правда, Зину обеспокоило то, что военкомат перестанет выплачивать ей по аттестату, когда узнает, что Андрей числится без вести пропавшим. Куда она денется, что станет делать вместе с Вовкой, если в самом деле ей откажут в аттестате. Но и это опасение оказалось напрасным. В военкомате ее успокоили. Лейтенант разъяснил: есть указание – семьям пропавших без вести выплачивать деньги в обычном порядке.
Зина поблагодарила, признательно и чуточку кокетливо улыбнулась лейтенанту.
Лейтенант проводил глазами интересную молодую женщину, которая еще раз улыбнулась ему, оглянувшись перед тем, как закрыть дверь.
Институт, в котором училась Зина в аспирантуре, давно выехал на восток. Делать ей было нечего. Сначала она еще пробовала заниматься, но вскоре бросила – зачем? Все равно никто не примет экзамены. Охватываемая все большей леностью, Зина просыпалась поздно, валялась с книжкой, слонялась в домашнем халате по неубранной комнате и принималась за уборку лишь перед тем, когда кто-то должен был к ней прийти. Вовка, предоставленный самому себе, слонялся во дворе, но сверстников было мало, и мальчик надоедливо приставал к матери, не зная, чем заняться. Это тоже раздражало Зину.
Иногда приходилось ходить в очередь за продуктами, которые полагалось получить по карточкам. Пожалуй, это было самым неприятным занятием. Стояние на улице, споры и пересуды женщин портили ей настроение. Зина готова была отказаться от скудного пайка, едва различимого на дне сумки, лишь бы не стоять в этих очередях.
Несомненно, наиболее приятным временем суток для Зины были вечерние часы. К ней забегала подруга, они без умолку болтали, перебивая одна другую, или отправлялись куда-нибудь в компанию военных – их было много в Москве той зимой. Фронт стоял недалеко.
Ранней весной Зине еще раз напомнили об Андрее – приезжал кто-то из его части. Это посещение скорее вызвало невысказанное чувство досады, чем что другое. Она не разобрала, зачем, собственно, явился к ней старшина. Потоптался в дверях и, не сказав ничего нового об Андрее, ушел – только разбередил поджившую рану.
2
Из дивизии, входившей в корпус Степана Петровича, уходила в Москву полуторка. Ехали за шрифтами для дивизионной газеты. С попутной машиной и отправились человек шесть – у каждого были свои дела. Поехал и старшина штабной роты, знавший и не забывший старшего политрука Воронцова. В Москву приехали в полдень. Чтобы поселиться и гостинице, требовали справки о санобработке. Двоих отрядили в Сандуновские бани – пусть три раза помоются, получат справки на всех. Остальные разбрелись по своим делам, условившись встретиться к ночи в гостинице.
В тот же вечер старшина, прихватив сержанта-наборщика, отправился разыскивать квартиру старшего политрука Воронцова. Днем горячие солнечные лучи уже буравили сугробы снега, но к вечеру они покрывались прозрачной ледяной коркой, точно расплавленным стеклом на неостывшем пожарите. Близились теплые, по-настоящему весенние дни, но фронтовики еще не расстались с зимними шапками и полушубками. В дорогу только сменили валенки на кирзовые сапоги.
Скользя по асфальту, прихваченному морозцем, они миновали Арбатскую площадь, спросили у постового, как пройти на Староконюшенный переулок, и довольно быстро оказались у цели своего путешествия.
Завечерело. В переулке зажглись синие фонари. Старшина неуверенно остановился перед воротами, раздумывая, куда же идти дальше. В руке он держал сверток, упакованный в газету и перевязанный шпагатом, – фронтовой подарок для семьи фронтовика, пропавшего без вести. Здесь лежали пачки пшенного концентрата, галеты, кусковой сахар, банка «второго фронта»– так в корпусе солдаты прозвали американские консервы из свиной тушенки. Обычно, вскрывая ножом жестяную банку, ротные остряки иронически говорили: «Ну что, братцы, откроем второй фронт, что ли…»
Кроме «второго фронта» в пакете были еще кофейные кубики, кусок туалетного мыла, плиточка шоколада. Все это собрали в складчину из доппайков, случайных военторговских покупок, подарков, присланных на фронт… О Воронцове, может, и говорили редко, но в корпусе его хорошо помнили.
Старшина знал Воронцова еще по Карельскому фронту. Взволнованный предстоящей встречей с его женой, он чиркнул спичкой, разглядел над дверью номер квартиры, увидел кнопку звонка с оборванными проводами и осторожно постучал костяшками пальцев.
Открыла соседка, показала, куда пройти – третья дверь направо, и скрылась в кухне, заставленной керосинками и примусами. Прошли захламленным коридором, освещенным маленькой, тусклой лампочкой. Сквозь неплотно прикрытую дверь слышался вкрадчивый мужской голос:
– Знаете, Зиночка, нам, мужчинам, иногда надо отвлечься. От всего. От работы, опасности, от неприятностей. Вот я, например, как сталь-самокалка. Отпущу себя на какое-то время и закаляюсь снова… Сейчас мне ни о чем не хочется думать: ни о войне, ни о том, что меня ждет. Как будто бы ничего этого нет. Только вы…
Стоявшие за дверью переглянулись: да, кажется, не вовремя они прибрели… Но все же старшина кашлянул и постучал.
– Кто там? Войдите. – Зина отняла руку, которую Розанов держал в своей мягкой ладони. Отодвинулась и принялась наливать чай.
С Розановым она познакомилась еще при Андрее – в лагерях. Он приезжал в корпус с какой-то инспекцией. Представился однополчанином и товарищем Андрея. А недавно случайно встретилась с ним на улице. Работал он в каком-то управлении и очень обрадовался встрече с Зиной. С первой же минуты начал выказывать подчеркнутое внимание. Стал жаловаться, что по горло занят работой, не с кем даже перекинуться словом; глядя на Зину влюбленными глазами, пригласил в театр. Розанов показался Зине в этот раз более интересным. Не то, что там, в лагерях. Нет, в нем определенно что-то есть…
Старшина и наборщик вошли в комнату. В залоснившихся полушубках, в треухах и кирзовых сапогах, показавшихся здесь особенно громоздкими, они неуверенно остановились в дверях, сразу почувствовав неловкость. «Ввалились, будто слоны в посудную лавку», – подумал старшина, переминаясь с ноги на ногу.
В комнате стоял мягкий полумрак. Настольная лампа под абажуром, покрытая цветной косынкой, освещала стол, уставленный закусками. В трудное военное время Розанов умел добывать все что угодно. У него всюду были приятели.
На тарелках лежала ветчина, копченая колбаса, розовые кусочки семги, стояла раскрытая банка шпрот, на стеклянном блюдце – сочные дольки лимона. Рядом с недопитой бутылкой вина возвышалась ваза с фруктами – яблоки, два апельсина, гроздь потемневшего винограда. Ваза с фруктами произвела на вошедших наибольшее впечатление…
Как растерянно почувствовал себя старшина в своем полушубке, с пакетом пшенных концентратов в руках!
На тахте, рядом с хозяйкой, одетой в светлое платье, сидел подполковник в новенькой габардиновой гимнастерке с орденом Красной Звезды. Пухленький, с розовым личиком, цветом напоминающим семгу, и такой же розоватой лысиной подполковник показался старшине знакомым.
– Разрешите обратиться, – козырнул старшина. Что сказать дальше, он еще не придумал. «Вот влипли…».
Наборщик незаметно потянул его за рукав, чуть слышно шепнул:
– Пошли…
Зина выжидающе смотрела на вошедших.
– Мы… Мы из части, в которой служил ваш супруг – старший политрук товарищ Воронцов… Извините, зашли наведаться. Может, вам нужно что…
– Спасибо! – Зина тоже не знала, как себя вести.
Старшина кашлянул. Наступило неловкое молчание.
– Разрешите идти… До свиданьица!..
В это время из-за ширмы, расшитой китайским узором, послышался голос ребенка:
– Мама, это кто к нам пришел? От папки?..
– Вова, ты еще не спишь. Как тебе не стыдно!
– Ну, мама, я только отдам папке подарок… Ты же обещала…
– Ах, как ты мне надоел! Спи…
Но мальчуган не сдавался. Он выскользнул из-за ширмы. Босой, в голубой фланелевой пижаме, бледненький и худой, он остановился перед двумя здоровяками, казавшимися еще более громоздкими в своих дубленых полушубках. Вовка внимательно их рассматривал большущими глазами. Личико малыша казалось совсем прозрачным. Он походил на малька, только что вылупившегося из икринки, – одни глаза и прозрачное тельце.
– Мама, где моя коробка?
– Не знаю.
Вовка встал на коленки, пошарил в углу, извлек из своего тайника папиросную коробку от «Северной Пальмиры», раскрыл ее, посмотрел и подошел к столу.
– Дядя, можно у вас взять папироску?
– Возьми… – Розанову хотелось, чтобы поскорей кончилась эта сцена.
Вовка положил папироску в коробку и протянул ее старшине:
– Когда папка вернется, передайте ему… Только обязательно. Это я насобирал ему… Дайте я заверну в газету.
– Владимир, сейчас же иди спать. – Зина сердилась на сына. Ей стало не по себе.
– Обязательно передадим. Обязательно. Разрешите идти, товарищ подполковник!
Старшина и старший наборщик спустились по лестнице, остановились у парадного и посмотрели друг на друга:
– Ну и ну!..
Во дворе одиноко бродил какой-то мальчуган в нахлобученной шапчонке и расстегнутом пальто. Палкой он сбивал сосульки с крыши сарая. Сосульки со звоном падали на землю.
– Эй, парень, – окликнул его старшина, – твой отец где?
– На фронте убили.
Старшина подошел, протянул мальчику сверток:
– Держи, отдай матери.
Мальчуган недоверчиво протянул руки и опустил снова. Может, шутят?..
– Держи, держи… Гостинцы тебе…
Мальчуган прижал сверток к груди, шагнул в сторону, побежал к соседнему подъезду, оглянулся – как бы не передумали и уже издали крикнул, открывая ногой дверь:
– Спасибо!
Вышли из ворот, дошли до угла. Под фонарем остановились. Сержант раскрыл коробку, В ней лежало с полдюжины папирос.
– Разнокалиберные… Ниже «Казбека» нет.
– Эх, мать их так! – выругался старшина. – Брось ее к чертовой матери!
Сержант швырнул коробку на середину улицы.
– Дай закурить…
Свернули из газеты цигарки, насыпали махорки, послюнявили, прикурили. Расстроенные, оскорбленные за старшего политрука, молча зашагали к гостинице…
3
Они лежали под открытым небом в степи, огромные, как скирды, эти нагромождения бумажных коричневых мешков с ржаными солдатскими сухарями. И замаскировали их под колхозные скирды – поверх брезента, выгоревшего на солнце, навалили прошлогодней соломы. Никто не знал, что делать, куда девать сухари. Их были горы, а солдаты, что заворачивали с большака к Семи Колодезям, брали совсем понемногу – куда их, лишняя тяжесть… Вот если бы водицы… Но в Семи Колодезях воды не было. Иногда к штабелям удавалось завернуть грузовую машину, шофер бросал в кузов несколько плотных мешков, но все это было каплей в море. Запасы сухарей не уменьшались.
Еще зимой головной продовольственный склад армии выдвинули далеко вперед к Семи Колодезям – странное название для села в крымской безводной степи. Даже сейчас, зеленая по весне, степь была как пустыня. Какие колодцы! Только в редких бочажках стояла приторно теплая вода, горько-соленая на вкус, такая, что пить ее было невозможно.
Когда в декабре наши войска штормовой ночью переправились через пролив и вскоре заняли весь Керченский полуостров, многим казалось, что это уже навсегда, накрепко, что от Москвы и от Керчи началось изгнание оккупантов из Советской России. Потому и армейские склады выдвинули поближе к фронту – готовился новый удар на Феодосию и Севастополь. Но немцы сами перешли в контрнаступление, упредив на несколько дней новый мощный удар двух полков советских дивизий. Фронт был взломан, и вражеские части снова устремились к проливу.
Была середина мая, южное солнце немилосердно жгло степи, без дорог отступали колонны войск, шли пехотные и артиллерийские части. Над степью висели желтобрюхие коршуны, и, конечно, никто не думал о ржаных сухарях, лежавших навалом в открытой степи. Только начальник продовольственного отдела армии – невысокий, щупленьким интендантский майор с ввалившимися щеками и потемневшими скулами – суетился вокруг штабелей. Николаю Занину он казался странным и немного смешным со своими заботами о ржаных сухарях. Казалось, что интендант готов был сам рассовывать сухари по солдатским вещевым мешкам. Наконец, когда мимо Семи Колодезей прошел основной поток отступающих войск и, не ровен час, с запада могли появиться немцы, начальник продовольственного отдела сказал:
– Ничего не поделаешь, надо рвать, Взрывчатка у тебя есть, сапер?
– Немного, на все не хватит, – ответил Занин. Он стоял с расстегнутым воротом гимнастерки, потемневшей на спине от пота. Николай чуть не на голову был выше майора.
– Тогда будем жечь. Бензин в машине. – Начпрод кивнул на полуторку, стоявшую невдалеке. Под ее короткой тенью на корточках сидел водитель, изнемогая от зноя. Он поднялся и вместе с саперами принялся носить трофейные канистры с бензином.
Николая Занина начпрод перехватил где то на дороге, вероятно километрах в двадцати от Семи Колодезей, и убедил свернуть к складам. Как и в финскую кампанию, Занин командовал отдельным саперным батальоном. Война застала его на юге, он попал в Приморскую армию, зимой форсировал пролив, а теперь снова отступал на Керчь, еще не представляя себе до конца последствий разразившейся военной катастрофы. Николай так и не знал фамилии «узкоколейного» майора, как шутливо называл интендантских работников. Начпрод сначала что-то приказывал, требовал, ссылался на какой-то строжайший приказ Военного Совета оказывать ему, начальнику продотдела, всяческое содействие. Под конец майор взмолился и начал уговаривать Занина; если саперы не помогут, головной склад попадет к немцам. Это убедило больше любых угроз.
Саперные роты были разбросаны по дорогам, и капитан Занин не знал как следует, где они сейчас находятся. При штабе оставался один только взвод, и Николай вместе с ним повернул на Семь Колодезей.
Один штабель взорвали, и сухари брызгами рассыпались по степи. Остальные пришлось жечь. Николай не представлял, что сухари могут так жарко гореть – как угли. В воздухе стояла горечь жженого хлеба, и ему напомнило это раннее детство. По субботам мать пекла хлебы, а потом обязательно, угорев, повязывала голову сырым полотенцем. Здесь, в степи, саперы тоже угорели от хлебной гари. Голова будто раскалывалась на части, когда под вечер наконец тронулись дальше.
В быстро надвигающихся сумерках было видно, как догорают армейские склады. Но теперь штабеля сухарей не походили на скирды – издали это казалось обыкновенным пожарищем.
Прошло не больше недели, и капитан Занин в голодном воображении отчетливо представлял себе горы ржаных сухарей, догоравших в открытой степи. Со своим недюжинным здоровьем Николай особенно мучительно переживал приступы голода Теперь каждый из гарнизона Аджи-мушкайских каменоломен получал в сутки один сухарь. Даже и это было бы терпимо, но сухарь не лез в глотку. Хотя бы один глоток влаги, чтобы смочить пересохший рот. Но воды не было. Только раненым, как микстуру, выдавали по столовой ложке на человека, а потом стали давать через день…
Правда, вода была рядом – колодезь стоял в нескольких десятках метров от входа в каменоломни, но этот единственный источник жизни немцы держали под жестоким огнем, и каждую ночь здесь разгоралась битва за воду. Крови проливали больше, чем добывали воды.
Все это было под Керчью недалеко от завода имени Войкова, где на десятки километров протянулись подземные галереи, сырые и затхлые переходы Аджи-мушкайских каменоломен. Рассказывали, что еще в древности, может быть тысячу лет тому назад, в катакомбах скрывались первые христиане. Теперь, в наш век, в подземном лабиринте укрылись десять – двенадцать тысяч людей, занявших оборону в Аджи-мушкайских каменоломнях. Сюда вошли несколько полков со штабами, армейские госпитали, тысячи одиночек-солдат, офицеров, женщины, дети, отступавшие вместе с Приморской армией.
В Берлине торжествовали. Газеты, радио трубили о новой победе – занята Керчь, русские сброшены в море, захвачено полтораста тысяч пленных, сотни танков, больше тысячи орудий. Как всегда, цифры были преувеличены, но советские войска действительно понесли тяжелые потери. Однако борьба еще продолжалась. Защитники Аджи-мушкайских каменоломен дрались яростно и ожесточенно.
С начальником продотдела капитан Занин встретился в тот день, когда немцы взорвали передний край обороны защитников Аджи-мушкайских каменоломен. Огромные глыбы ракушечника, сдвинутые взрывом, завалили входы, и теперь с большим трудом можно было протиснуться между камнями. Следом за взрывом немцы бросились в атаку, но она вновь захлебнулась. Оказалось, что теперь стало даже легче вести оборону – рыхлые глыбы ракушечника, как надолбы, преградили дорогу немцам.
Свет тускло проникал в подземный грот, до половины заваленный обломками камня. Но здесь было достаточно светло, чтобы разглядеть лица защитников сектора, – в каменоломнях все входы были разбиты на секторы обороны. Только что отбили атаку немцев, надо было бы идти в галереи, но Николай медлил – не хотелось снова лезть в кромешную темноту, в тяжелую затхлость. Здесь хоть немного свежее воздух. Отдыхая, Занин присел на глыбу. Его окликнул начпрод:
– Э, сапер! И ты здесь… Как воюется?
Они поздоровались, закурили. Чего-чего, а табаку в осаде было достаточно. Вспомнили Семь Колодезей, бунты сухарей, горькую воду в степных бочагах. Николай сказал:
– Затеяли мы одно дело с водой, да вряд ли что выйдет, – подкоп к колодцу. Саперы начали рыть подземный ход, но грунт скалистый и работа продвигается медленно. Занялся этим начальник штаба саперного батальона.
Начпрод заволновался:
– Подожди, так ведь это спасение!.. Твоя как фамилия?
– Занин.
– А моя Ворогов… Андрей Ворогов… Будем знакомы. Пошли к Бурмину. В таком деле нельзя кустарничать.
Подполковник Бурмин, из танкистов, прорвался в каменоломни несколько позже и принял на себя командование обороной. Занин и Ворогов длинными переходами прошли к штабу. Ворогов, пригнувшись, шел впереди, лучиной освещая дорогу. Пришлось сжечь много лучин, пока они добрались до грота, в котором расположился штаб обороны. Николай попал сюда впервые. Где-то дальше, в глубине катакомб, тарахтел движок, и в гроте с высокими сводами горел электрический свет. В нишах стояло несколько госпитальных коек с волосяными матрацами. Рядом – пулемет и винтовки, составленные в козлы. Ворогов заставил Николая еще раз повторить свой рассказ.
– Много прошли? – спросил Бурмин.
– Нет, метров десять, не больше… Мало людей, но, думаю, недели за две можно было бы пройти к колодцу.
Собрали военный совет обороны Аджи-мушкайских каменоломен. Вел заседание незнакомый полковник – начальник осажденного гарнизона. Все пришли к выводу – надо вести подкоп – это единственный способ добыть воду. В помощь саперам дали людей. Копать решили круглые сутки.
Подкопом руководил начальник штаба саперного батальона, нервный и желчный лейтенант Добронравов, до войны работавший где-то на шахте в Донбассе. А Николаю Занину пришлось заниматься другим делом. Немцы не оставляли мысли подавить оборону в Аджи-мушкайских каменоломнях. Они подтянули танки и прямой наводкой били по входам. Это не дало результатов. Забрасывали дымовые шашки, нагнетали в штольни удушливый, желтый дым, который волнами расплывался по каменоломням. В первый день задохнулось немало людей, но защитники научились бороться и с дымом. В глубине лабиринтов зажигали костры, и нагретый воздух вытеснял дым наружу.
Труднее было бороться со взрывами на поверхности. Немцы копали глубокие ямы, закладывали тяжелые авиационные бомбы и взрывали их над каменоломней. Взрывы сотрясали подземные своды, и многотонные глыбы падали вниз, давили людей. Саперам подземного гарнизона было много работы. Повсюду установили посты, которые чутко прислушивались к малейшему шуму над головой. Немецких подрывников прозвали «дятлами». Удары их заступов глухо разносились в темноте подземелья. С угрожаемых участков людей переводили в соседние галереи, томительно ждали взрыва и потом возвращались обратно.
В конце мая все гражданское население решили вывести из каменоломен. Военный совет предложил оставить катакомбы также и женщинам-медикам. Санитарки, медсестры, девушки-врачи, недавние выпускницы Краснодарского медицинского института, отказались от такой привилегии. Они предпочли разделить судьбу защитников подземной крепости. Их не неволили…
В середине дня, ослепленные солнечным светом, обессиленные, изможденные женщины с детьми на руках вышли из каменоломен. Перед тем в амбразурах подняли белые флаги. Ими долго размахивали, привлекая внимание немцев. Флаги заметили к прекратили огонь. Немцы полагали, что защитники катакомб решили наконец сдаться.
Но борьба продолжалась. Продолжалась трагедия голода, жажды и мрака. В июне предприняли первую вылазку – около тысячи бойцов ночью вырвались из каменоломен и с боем ушли к побережью. Они должны были соединиться с крымскими партизанами. Но в гарнизоне никто не знал – удалось ли смельчакам это осуществить.
Изо дня в день, в кромешной темноте люди ждали воды. Теперь уже скоро… Саперы продолжали вгрызаться в скалистый грунт, штольня медленно удлинялась, скоро она должна соединиться с колодцем… Круглые сутки долбили камень и мешками выносили щебень и крошку в подземные гроты. Сюда, к узкой норе, было привлечено внимание многих тысяч людей. Скоро будет вода. Вода!.. А ведь сейчас даже глоток воды казался неимоверным блаженством.
Но прошла неделя, прошла вторая, а заветного колодца все не было. Николай Занин несколько раз сам спускался в штольню, ощупывал сухой и шершавый камень – воды не предвиделось. Лейтенант Добронравов заподозрил ошибку в расчетах. Он почти не выходил из штольни, не хотел встречаться с людьми, верившими в него, как в бога.








