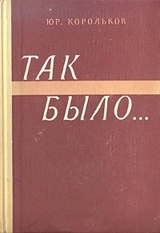
Текст книги "Так было…(Тайны войны-2)"
Автор книги: Юрий Корольков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 63 страниц)
В дверях появился Франц. Он успел вымыться и побриться. Герда не слышала его шагов, увидела Франца, когда он входил в комнату. Захваченная врасплох, Герда сунула злополучный мешочек себе под передник.
– Ну вот и хорошо! Теперь мы можем поехать, – сказал Франц, ничего не заметив.
Фрау Герда ломала голову, как бы сунуть мешочек обратно в рюкзак, но Франц, засунув туда белье, уже затягивал узел.
5
Эрна была на седьмом небе от счастья… Она тенью ходила за Францем, не желая его ни на минуту оставлять одного. Ведь три недели отпуска пролетят – я не заметишь. А Франц пока ничего не говорил Эрне, да и не знал, скажет ли вообще. О таких делах лучше не говорить. Он был счастлив, как любой солдат, ненадолго появившийся дома. Предавался блаженному ничегонеделанью, возился с дочкой, которая сначала дичилась его, но вскоре осмелела и с детской властностью требовала, чтобы отец брал ее на колени. Иногда Франц помогал по хозяйству. Больше всего этому радовалась Герда – весна в разгаре, а дел непочатый край. Работал он вместе с высоким, молчаливым русским, из которого трудно было вытянуть слово.
Но при всем том Франц был огорчен и расстроен. Куда мог запропаститься клеенчатый мешочек? Он хватился его в тот же день, как приехал. Перерыл весь рюкзак – никакого толку. Сначала Франца даже в пот бросило. Тоже конспиратор! В безобидной катушке ниток хранились явки, пароли, без которых не обойтись. Кое-что он держал в памяти. Только кое-что. После ареста Гуго его преследовали неприятности – раз за разом. Франц мучительно думал, как выйти ему из такого нелепого, чреватого большой опасностью положения.
На расспросы Эрны Франц отвечал односложно и неопределенно: долгое время не мог писать, потом был в госпитале, тогда и прислал ей деньги… Жена удивлялась, почему так расстроился Франц из-за какой-то чепуховой пропажи. Стоит ли огорчаться!
На огороде Вилямцек попытался заговорить с русским. Они вместе убирали парниковые рамы. Рамы давно следовало бы убрать – теперь уж нечего бояться ночных заморозков. Франц предложил закурить.
– Спасибо. – Андрей взял протянутую сигарету, нагнулся к зажженной спичке.
– Давно здесь?
– Недавно.
Франц узнал от Эрны, что русский приехал сюда на время, что он работает в пуговичной мастерской герра Мюллера. Он сказал:
– Перед войной я тоже работал у герра Мюллера.
Андрей не ответил. Странный этот немец. Чего он к нему льнет? Они занесли под навес раму и поставили на ребро рядом с другими. Было тепло, и оба работали в нижних рубахах. Франц спросил:
– А вы что до войны делали?
– Учитель.
– Трудно вам здесь?
Андрей неопределенно пожал плечами – всяко бывает… Франца чем-то привлекал этот замкнутый человек. Может быть, достоинством, с которым держался. Русский вдруг сам спросил Франца:
– Вы, кажется, с фронта. Как там?
– Хорошо. Война идет к концу.
Вот бахвал! Разбили их под Сталинградом – и всё хорошо… Андрей не выдержал, иронически посмотрел на Франца:
– А Сталинград?..
– Я об этом и говорю. Вы думаете – хорошо, это только победа… Не все немцы так думают…
Эрна позвала Франца обедать. Андрей посмотрел ему вслед. Что хотел он сказать? Интересно… А Франц ругнул себя за неосторожность. Впрочем… Что может сделать русский – донести?.. Ерунда! Пусть знает, что вокруг него не только одни враги.
На другой день в деревню приехал герр Мюллер и увез русского к себе в Панков вместе с работницей фрау Герды. А Францу хотелось еще поговорить с Андреем. Какой позор – распоряжаются людьми, как невольниками. Берут и отдают – взаймы. Гитлер втягивает обывателей в свои преступления… Франц почему-то вспомнил кинохронику, которую они когда-то смотрели с Эрной; немецкие фермеры поселяются на польских землях. Вот когда это началось, может быть еще раньше… Сколько людей ненавидят немцев – русские, поляки, чехи… Об этом Франц думал и прежде, но робко, не до конца. Он не подозревал, что повторяет мысли своего приятеля Кюблера. У Кюблера они созрели гораздо раньше, стали частью мировоззрения, повели его по дороге подпольщика. Франц пришел к этому позже, но пришел…
Герр Мюллер пригласил Франца в гости. Пусть приезжает – расскажет новости. Ходят всякие слухи. Сейчас он торопится, но на досуге охотно послушает. Конечно, чтобы откровенно, как-никак они родственники.
Франц принял приглашение и поехал в Панков на следующей неделе. Был конец рабочего дня. Андрея он встретил во дворе мастерской как старого знакомого. Пожал руку и сказал: если камрад не возражает, Франц заглянет попозже. С Мюллером говорили о многом, Вилямцек осторожно рассказал хозяину пуговичной мастерской о положении, в котором находилась Германия. Не исключена возможность, что на фронте обстановка ухудшится еще больше. Да, да, – Мюллер кивал головой. Он и сам начинает подумывать об этом. В самом деле, против Германии поднялся весь мир. Но в политике его больше всего интересовала судьба его пуговичной мастерской.
Под конец Франц спросил – не найдется ли в мастерской болтик? Вот такого размера. С гайкой. Франц обещал фрау Герде отремонтировать пропашник. Что за вопрос? Конечно, найдется. Надо спросить у Андрея. Пусть он поищет в кладовой.
Франц пошел в мастерскую. Андрея он застал там за уборкой. Все уже разошлись, и русский один расхаживал среди станков, сгребая латунные обрезки, оставшиеся после штамповки пуговиц. Дни стали длиннее, и в мастерской было еще совсем светло. Франц объяснил, что ему нужно. Андрей молча пошел в кладовку.
Собственно говоря, Франц и отправился в Панков, чтобы поговорить с русским. Кто он такой? Может быть, коммунист. Во всяком случае, не похож на пришибленного, подавленного человека.
– Так вот где вы живете! – воскликнул Франц. – А как же зимой? Здесь же собачий холод и сырость.
– Ничего, открываю дверь в мастерскую. В лагерях бывало похуже… Такой болт вам подойдет?
– Если найдется, немного поменьше… Скажите: почему бы так настороженно, как-то неохотно говорите со мной?
Они сидели на корточках перед грудой металлических деталей, перебирали ржавые болты, шестерни, старые инструменты, пришедшие в негодность.
– Как же я могу еще говорить? Я пленный, а вы…
– Но я тоже рабочий. Вот это на меня надели недавно. – Франц потянул себя за рукав солдатского кителя. – Не все немцы одобряют то, что происходит. – Франц хотел сказать резче, прямее – не все поддерживают Гитлера.
– От этого никому ни жарко, ни холодно. Можно не одобрять и все же поддерживать… преступления. – Андрей неприязненно подумал о своем собеседнике: «Черт с ним, пусть послушает, если набивается на разговор». – Вы же все-таки приехали с фронта. Не все ли равно, какие, предположим, у вас настроения.
Франц, казалось, не обратил внимания на колючий тон русского.
– Но вы согласны, – сказал он, – что немцы могут быть разные?.. Например, эсэсовцы и коммунисты.
– Конечно… Эсэсовцев я вижу в Германии, но Тельман сидит в тюрьме, если он жив… Вы называете себя рабочим. Как же немецкие рабочие допустили, чтобы пересажали всех коммунистов?
– Я тоже сидел в концлагере… Хотя и не был коммунистом.
Чего добивается этот солдат? Может быть, провокатор. Андрей решил прекратить опасный разговор:
– Вот это должно вам подойти. Гайка немного заржавела, но она отойдет в керосине. – Он поднялся, разминая затекшие ноги.
– Да, это как раз то, что нужно… Имейте в виду, товарищ Андрей, если вам что-нибудь нужно, я охотно готов помочь вам. – Франц сказал это тихо, едва шевеля губами.
Андрей даже не разобрал – назвал ли его солдат товарищем.
– Спасибо, но мне ничего не нужно…
Франц ушел, оставив Андрея в большом раздумье. Этот разговор произошел незадолго перед его встречей с Галиной Богдановой.
6
Ворота бухенвальдского лагеря… Прочные, кованого железа прутья, как на ограде старого парка. И надпись на воротах тоже кованая, тоже железная и нерушимая. Библейское изречение: «Едэм дас зейне» – «Каждому свое».
А над воротами свастика. Она сделана из бетона, тоже прочная – на века.
Сколько лет изо дня в день Рудольф Кюблер читал эту надпись два раза в сутки – когда выходил на работу и возвращался обратно в лагерь.
«Едэм дас зейне»!
Все здесь добротно и крепко, точно нацистский режим, провозглашенный Гитлером тысячелетней империей. Так кажется. Но это совсем не так. Кюблер знает, уверен в этом… Даже на бетонных дорожках, даже сквозь толстый слой асфальта пробиваются зеленые стебли. Они дают побеги и семена… И охрана лагеря, и высокие стены, затянутые колючей проволокой под током, не могут изолировать совершенно узников лагеря от внешнего мира. Даже здесь, в Бухенвальде, теплится жизнь, а значит – борьба. Для коммуниста Кюблера оба эти слова неотделимы.
Правда, в лагере условия борьбы ограничены, но, может быть, главное здесь – сохранить веру, которую исповедуешь с юности, которую хотят в тебе вытравить, уничтожить, а ты сопротивляешься, упорствуешь. Сопротивляешься не только сам, но и заботишься о товарищах. Ведь это тоже борьба, которая требует жертв, которая приносит и победы и неудачи…
Кюблер немало изменился за эти годы. Лоб его стал как будто еще выше – волосы спереди поредели и стали совсем седыми, но глаза по-прежнему горят молодо. Он в полосатой одежде с лагерным номером и красным треугольником на груди. Высокий, худой…
Рабочий день кончился, и заключенные ненадолго предоставлены самим себе. – Кюблер устало идет через лагерь, заходит к блокштубе – к писарю барака, – на эту должность удалось поставить надежного коммуниста.
– Достал закурить? – спрашивает Кюблер. На языке подполья это значит: задание выполнил?
Блокштубе пожимает плечами:
– Можно за паек хлеба…
Значит – выполнил…
Потом писарь идет в уборную, а следом за ним Кюблер. В уборной никого нет, и тут можно шепотом перекинуться несколькими словами.
– Я переписал только три страницы, Рудольф, – говорит блокштубе. – Остальные постараюсь переписать завтра.
– Хорошо, но не задерживай дольше. Письмо надо еще передать в другой блок.
Кюблер берет плотно свернутые листки, прячет их под ремень и уходит.
Листки читают по очереди. Это письмо Тельмана, точнее – лишь часть письма. Его доставили из Бауцена, из тюрьмы, где сидит Тельман, он жив, продолжает бороться… Одиннадцать лет фашистской тюрьмы не сломили Эрнста. Какой несокрушимый характер!..
Рудольф еще несколько дней назад прочитал письмо, но он хочет прочитать его еще раз. Тогда оно слишком сильно его взволновало. Теперь он воспримет спокойнее.
Улучив момент, Кюблер исчезает в бараке и забирается на самые верхние нары. Рядом с ним устраивается сосед по бараку – сегодня его очередь читать письмо. Это бывший социал-демократ, ставший в лагере коммунистом. В Бухенвальде он очень давно – лет десять. Знал еще отца Рудольфа, Кюблера-старшего. В Бухенвальде провел с ним несколько лет, а теперь лежит на тюремных нарах рядом с сыном погибшего друга.
Рудольф передает ему листок за листком. Оба сосредоточенно читают и следят, как бы не застал их блоковый, – в это время в бараке не разрешают лежать на нарах. Оба волнуются, хоть в письме как будто бы говорится о знакомых, пережитых каждым событиях. Но это забывается, и остается лишь Эрнст Тельман, его рассказ о борьбе в фашистских застенках. Это письмо Эрнст написал товарищу по заключению, который и переправил его на волю. Оно стало достоянием многих узников, и каждому казалось, что именно ему пишет Тельман из одиночной камеры, его учит стойкости, преданности своему делу.
«Ты, вероятно, хотел бы узнать кое-что о моей жизни в заточении, – писал Тельман. – Не хватило бы большой книги, чтобы полностью описать все переживания и события…
3 марта 1933 года я был арестован в Берлине, в комнате, которую я снимал у одного инвалида войны. Отряд полицейских с револьверами в руках – 20 рядовых во главе с лейтенантом – вломились в квартиру, а затем ринулись в мою комнату. На меня надели наручники. Затем – в машину и в ближайший полицейский участок, а оттуда под охраной особой полицейской команды в берлинский полицей-президиум на Александерплац. Краткий допрос. Пять часов ожидания. Наконец я был водворен в камеру тамошней полицейской тюрьмы…
23 мая 1933 года я был переведен в Старый Моабит, в берлинский дом предварительного заключения. Два с половиной года я находился под следствием в предварительном заключении; в течение этого времени допрашивался четырьмя следователями, иногда по 10 часов ежедневно…
В январе 1934 года четыре гестаповских чиновника в автомобиле доставили меня из Моабита в центральное гестапо. Прямо из машины меня повели в комнату, находившуюся на четвертом этаже. Там меня встретили восемь гестаповских чиновников среднего и высшего ранга, которые издевательски подняли кулаки на манер приветствия «Рот фронт».
Описать, что затем произошло в этой комнате на протяжении четырех с половиной часов – от 5 до 9 часов 30 минут вечера, – почти невозможно. Ко мне были применены все самые жестокие меры принуждения, которые только можно себе тред ставить, чтобы любым образом вынудить признания и получить данные о товарищах, которые были ранее арестованы, а также об их политических действиях. Гестаповцы начали с фамильярного тона, с уговоров. Этот маневр не имел никакого успеха. Тогда последовало применение грубой физической силы. У меня были выбиты четыре зуба. Это также не дало никаких результатов.
Третьим актом был гипноз, который, однако, на меня не подействовал, – эти попытки разбились о мою тогда еще очень крепкую нервную систему. Хотя гипнотизер почти 45 минут производил вокруг меня свои манипуляции, я сохранял полное спокойствие и ясность мысли. Так прошло три с половиной часа. Однако кульминацией этой драмы был заключительный акт. С меня сорвали одежду. Два гестаповца положили меня поперек табурета. Один из них принялся размеренно избивать меня тяжелой плетью из кожи бегемота. От боли я несколько раз вскрикнул.
Тогда мне заткнули рот, и удары посыпались на меня градом. Меня били по лицу кулаками, по груди и спине плетью. Брошенный на пол, я лежал ничком, уткнувшись лицом в пол и ни слова не отвечая на вопросы. Меня пинали ногами. Я все старался закрыть лицо. Я изнемогал. Сердце начало сдавать. Я уже ничего не слышал и не видел. К тому же меня мучила такая жажда, что изо рта шла пена, и я почти задыхался. Будучи в полуобморочном состоянии, я все же не терял сознания, но и не чувствовал уже никакой боли и думал только о том, как избавиться от этой пытки.
Внезапно в комнату вбежал человек и шепотом сказал, что уборщицы, как и другие присутствующие в здании люди, слышали громкие крики. Он попросил быстрее закончить допрос. В 9 часов 30 минут вечера палачи кончили свою забаву. Мне перевязали полотенцем кровоточащие раны на голове, обернули разбитый затылок шарфом, приказали сесть на табурет, лицом к стене, пригрозив, что в случае, если я обернусь, будут немедленно стрелять. Два гестаповца направили на меня револьверы. Разумеется, я обернулся тотчас же, чтобы увидеть, что эти парни собираются делать со мной дальше. Но больше ничего не произошло. Из столовой вызвали официанта, который принес им поесть и выпить. С состраданием он посмотрел на меня. Вслед за этим меня спустили на лифте в подвал и заперли там в тюремную камеру…»
Дальше в письме был пропуск – из Бауцена его доставляли по частям, и, вероятно, пропущенный кусок не был доставлен или попал в руки гестаповцев. Теперь Тельман говорил со своим другом о будущем.
«Революционная деятельность требует больших жертв, – писал он. – Я не безродный человек. Я немец с большим национальным и вместе с тем интернациональным опытом. Мой народ, к которому я принадлежу, который я люблю, – немецкий народ, и моя нация, которой я горжусь, – немецкая нация, смелая, гордая и стойкая нация. Я кровь от крови, плоть от плоти немецкого рабочего класса. И потому, как сын революционного класса, я стал позднее его революционным вождем.
Мученичество, которое я принял на себя ради великих идеалов социализма XX века, – не единичное явление, не изолировано, не оторвано от немецкого народа: оно разделяется многими и многими безымянными узниками (к которым принадлежишь и ты, мой дорогой товарищ по судьбе) и находит отклик в мощном многомиллионном движении, которое охватило и вдохновило все народы Советского Союза и во многих странах мира нашло свое идеологическое и организационное распространение.
Никто не может предсказать, что будет завтра или послезавтра со мной. Мы не можем знать, не причинят ли мне, как это часто случалось, новых неприятностей и страданий. Но разве отпустят меня так просто вновь в большой мир прямо из тюремных стен?
Нет! Добровольно они этого не сделают. Вероятен один исход, как ни страшно, ни горько о нем говорить. А именно: при продвижении Советской Армии, в связи с ухудшающимся общим военным положением национал-социалистский режим сделает все возможное, чтобы объявить Тельману мат. В такой обстановке гитлеровский режим не отступит ни перед чем, чтобы заблаговременно устранить Тельмана, то есть удалить его или прикончить раз и навсегда. Только исторически необходимая самопомощь может принести здесь иную развязку, которая послужит на пользу всему революционному движению…»
Кюблер дочитал до конца последний, мелко исписанный листок, передал товарищу и подождал, когда он дочитает. Некоторое время они лежали молча. Кюблер медленно, точно обдумывая слова, сказал:
– Вот для нас образец несгибаемой воли… Как велика трагедия борца, который ждет освобождения своего народа от фашизма, ждет приближения Советской Армии и в то же время уверен, что вместе с этим приближается час его гибели…
– А разве нас не ждет та же участь?
– Ты прав, – Кюблер задумчиво сложил листки. – И все же я с нетерпением жду прихода советских войск. Они принесут гибель фашизму… Что ж, будем готовы к борьбе и смерти… Передай эти листки тем молодым, которых недавно прислали в лагерь.
Рудольф Кюблер начал спускаться с нар. Ему было трудно сгибать ноги – ревматизм, нажитый в концлагере, острой болью пронизывал суставы.
Глава третья
1
Изо дня в день Натан Ройзман поднимался с дощатых нар, проглатывал стакан жидкого ячменного кофе и выходил на работу. Иногда ему приходилось собирать одежду на площади, но чаще всего он с чемоданом в руке бродил в толпе обреченных людей, собирал ценные вещи – медальоны, кольца, браслеты, валюту. На крышке чемодана или просто на колене выписывал он какие-то ярлыки-квитанции, для вида прикладывал их к собранным вещам. На тревожные расспросы Натан обычно не отвечал – от него потребовали хранить тайну Треблинки.
Сидя на корточках перед раскрытым чемоданом, Ройзман походил на коробейника либо на бродячего «торговца счастьем» – не хватало только зеленого попугая, который вытягивает билеты из ящика. Но лотерея была безвыигрышной. Это знал Ройзман и не знали сгрудившиеся вокруг голые, полураздетые люди. Евреи спешили сдать ему на хранение свои ценности – все, что удалось сохранить, на что возлагали надежды в будущем. Ройзман внушал им доверие. В конце концов, это свой человек. Он ни на кого не кричал, не дрался, как это делали вахтманы, не торопил. Натан говорил тихо, смотрел на всех грустными, скорбными глазами, аккуратно выписывал пронумерованные квитанции, вежливо выдавал их, и люди уходили уверенные, что после санобработки они сполна получат обратно свое имущество.
Эшелоны приходили в лагерь с утра, с интервалами в полтора-два часа. За это время рабочие команды успевали убрать одежду с площади, привести все в порядок. Вечерами со склада в душегубки носили хлорек – белые кристаллы смертоносного газа. На складе лежали тонны хлорека, а для убийства одного человека требовались миллиграммы…
Все, что происходило в лагере, стояло за гранью реального, казалось порождением безумия. Круглые сутки, как жертвенник, пылал костер, пропитывая чадом и трупным духом все окружающее – постройки, одежду, пищу, людей. Да, людей – живых мертвецов, очутившихся в этом гигантском комбинате смерти. Можно ли представить, чтобы в огне обитали живые существа? И все же здесь, в этом проклятом месте – на тринадцати гектарах, обнесенных непроницаемым забором, где даже воздух пропитан тлением смерти, – теплилось какое-то подобие жизни. Точно древние мифические саламандры, люди жили в стихии огня, смрада и трупов.
Конспиративная организация, куда Юзеф Комка ввел Ройзмана, вела свою кропотливую работу. Натан не знал, как велика их организация. В ту первую ночь он дал клятву – если уцелеет, он расскажет миру все, что видел, узнал, выстрадал и пережил. Мир должен знать о злодействе в Треблинке. Для этого надо терпеть и запоминать все до мелочей… Этому учил их Комка, вожак подпольщиков, появлявшийся всюду с лихорадочно горевшими глазами. С фанатичной ненавистью, скрытой за раболепием и послушанием, он звал к мести, только ей посвятил он остаток, «излишек» жизни. Мстить – значит вырвать тайну убийц, засвидетельствовать когда-нибудь их преступления.
Излишек жизни! Комка часто говорил об этом своим людям. Он утверждал, и это было правдой, что все они давно мертвы. Все они – сортировщики, сборщики ценностей, носильщики трупов, каждый, занятый своим делом, живут дольше того, что было уготовано им судьбой. Он, Юзеф Комка, продлил их существование. Не для жизни – для мести. «Фойер-юден» – евреи, работающие у костра, не в счет. Они сжигали на костре трупы, оставались в живых неделю, потом их самих истребляли и вместо них ставили у костра новых. Рабочие из «тарнунг-группен», занятые починкой заборов, маскировкой лагеря, жили несколько дольше, но и на них Комка не мог делать ставку. Только сборщики золота и драгоценностей в какой-то степени были привилегированными людьми в иерархии смертников, носивших нарукавные повязки разного цвета.
Среди десятков тысяч людей, ежедневно уходящих на смерть по Химмельфартштрассе, Комка выбирал из эшелона одного-двух, как выбрал Натана Ройзмана, чтобы они жили и помогали ему.
Бывало так, что Комка сам разжигал страдания своих людей, растравлял их раны, вселял в них ненависть и неистребимую жажду мести, подобную той, что гнездилась в его собственной душе. Только испепеляющая ненависть способна поддержать силы этих людей, дать возможность пережить треблинский ужас. Пережить и засвидетельствовать…
Не случайно Комка рассказал Натану о том, что видел его семью на пути к голгофе-душегубке. Не случайно указал он ему на мать и старшего брата с женой и детьми, тоже доставленных в лагерь. Они стояли в толпе. Это было вскоре после того, как Ройзман появился в Треблинке.
Мать сразу узнала Натана. Старая Рахиль закричала, схватилась за волосы и рухнула на землю. Брат поднял мать, но не понял, что с ней случилось, – он не заметил Натана. Рахиль была одета так же, как в тот вечер, когда они решали уезжать из варшавского гетто. То же черное платье с тонкими кружевами у ворота, медальон на груди и большой черепаховый гребень.
Натан и сам едва устоял на ногах. Если бы не Комка, Натан бы упал, а это в лагере равносильно смерти. Вахтманы строго соблюдали инструкцию – больных отправлять в лазарет. Это то же, что баня, но там убивали проще, быстрее, – всех, кто не в силах был пройти по Химмельфартштрассе. Ставили к яме и стреляли в затылок.
Как ни пытался Натан взять себя в руки, вахтман все же заметил, что он побледнел и бессильно опирается на руку Комки.
– Заболел?
– Нет, нет! Что вы, господин вахтман. – Комка ответил за Ройзмана.
Неимоверным напряжением сил Натан заставил себя поднять выпавший из рук чемодан и ушел собирать ценные вещи на другой конец площади.
Иногда из рабочей команды выделяли людей «на сцену» – на бутафорскую платформу к приходу поездов. Люди изображали сторожей, буфетчиков, телеграфистов. Ходил на сцену и Ройзман. Как-то раз он изображал станционного сторожа. В белом фартуке, с метлой в руках, в фуражке с железнодорожной кокардой он выходил к прибытию поездов, мел платформу и ждал следующего эшелона. В тот день поезда прибывали с запада. Из Австрии, Венгрии, из Праги евреев привозили в классных пассажирских вагонах. Только с востока – из России и Польши – доставляли в товарных.
Как всегда, суетились эсэсовцы, гремела музыка, на перрон выходил мнимый дежурный по станции, а по перрону расхаживал унтерштурмфюрер Курт – помощник лагерного коменданта.
Из вагона с маленьким чемоданчиком вышла пожилая, элегантно одетая женщина. Она оглянулась по сторонам, увидела Курта и обратилась к нему. Разговор происходил у телефонной будки, рядом с «буфетом», подле которого стоял Ройзман. Он слышал каждое слово происходившего разговора.
– Простите, господин офицер, – опросила женщина, – к кому я могу обратиться?
– Чем могу вам служить? – Курт был галантен и вежлив.
– Я сестра профессора Фройнда. Зигмунда Фройнда – известного австрийского психиатра. Меня ошибочно выслали из Вены. Вот мои документы. – Женщина порылась в сумочке и протянула бумаги эсэсовцу. – Я понимаю, ошибку сразу исправить трудно, но нельзя ли пока использовать меня по специальности. Физическая работа мне не по силам. Помогите мне!
Курт прочитал документы и так же галантно ответил:
– Вы правы, мадам. Здесь какое-то недоразумение… Выселять из Вены вас никто не имел права. Но не огорчайтесь. Следующим поездом вы сможете поехать домой. Сдайте пока на хранение вещи, примите душ. Вы успеете все это сделать…
– Я могу обойтись и без душа.
– Простите, но без санитарной справки вас отсюда не выпустят. Вы успеете. Вот смотрите…
Курт подвел женщину к расписанию поездов.
– Вам нужно на Прагу. Советую ехать экспрессом. Он идет позже, но им гораздо удобнее ехать. Вещи можете оставить здесь. К вашему возвращению документы будут готовы…
Полная благодарности, покоренная галантностью Курта, сестра венского профессора ушла принимать душ…
Обратно она не вернулась. Курт глянул ей вслед, и по лицу его скользнула жестокая улыбка. Он повернулся на каблуках и пошел в противоположную сторону платформы. Желтый чемоданчик стоял под щитом с расписанием поездов, которые никогда здесь не проходили. К треблинскому лагерю подходила железнодорожная ветка – тупик. Вся эта жуткая бутафория нужна была убийцам, чтобы их жертвы не встревожились раньше времени.
Ройзман отнес чемодан в лагерь.
После дежурства «на сцене» Ройзман рассказал Комке обо всем, что он видел и слышал.
– Запомни и это, Натан. А теперь иди сортировать вещи.
2
Обычно во второй половине дня «гольд-юден» приходили в дощатый, потускневший от копоти, ядовито-зеленый барак разбирать ценности. Содержимое чемоданов вываливали на длинный стол в общую кучу, и тогда приступали к работе оценщики и сортировщики. Здесь сидели рядом варшавские ювелиры, амстердамские гранильщики алмазов, граверы, часовщики. Перед ними лежали несметные богатства. Комендант требовал точного учета. Часовщики раскрывали крышки часов и через лупы, зажатые, как монокли, в орбитах глаз, рассматривали механизмы. Отбирали лучшие, наиболее ценные. Ювелиры взвешивали золото. Граверы уничтожали следы, которые могли напомнить недавних владельцев ценностей, – зачищали, стирали монограммы, надписи, инициалы. Потом составляли описи, паковали… Это было наиболее спокойное время – вахтманы не заходили, значит, никто не избивал заключенных. Когда наступал вечер, над столом вспыхивали лампы в больших круглых колпаках. Работали до тех пор, пока на столе не оставалось ни одной неоцененной вещи.
Старшим оценщиком в бараке работал Соломон Дворчик – ростовщик и владелец ломбарда на углу Маршалковской улицы в Варшаве. Ройзман немного знал его по Варшаве – когда-то в трудное время с ним приходилось иметь дело… Утром, придя в барак «гольд-юден», Дворчик занимал свое место в центре за столом, возле ювелирных весов, прикрытых большим стеклянным футляром. Дворчик снимал колпак и начинал священнодействовать – он взвешивал золотые вещи, осматривал драгоценные камни, старший оценщик брал на ладонь перстни, браслеты, кулоны, подносил их к свету и, склонив набок большую лысую голову, пристально глядел на них сквозь очки. Потом он тут же уверенно называл цену. Дворчик делал это с таким спокойным видом, будто сидел в конторке своего ломбарда, заставленного всевозможными случайными вещами.
Иногда между ним и гранильщиком Блюмом возникали споры. Блюм также считал себя знатоком драгоценных камней. Спорили о величине алмазов, игре цветов, о свойствах камней, оттенках агатов, стоимости ожерелий, кулонов, перстней. Спорили горячо, в каком-то самозабвении, пока кто-то из сидящих за столом не прерывал их:
– Господа, какое это имеет значение! Не все ли равно – разве нас не пошлют на огонь?..
Спорщики умолкали, в бараке наступала гнетущая тишина, брошенная фраза возвращала людей к страшной действительности. Давила обреченность, бессмысленность всего того, что каждый здесь Должен был делать. Некоторое время работали молча. Блюм стачивал монограмму, Гинзбург склонился над луковицей золотых часов, подтягивая ослабевший винтик, крохотный, как маковое зерно. Дворчик священнодействовал над весами.
Тишину нарушал простуженный голос Дворчика:
– Кулон золотой, пятнадцать унций… Перстень с бриллиантом, два карата… Черепаховый гребень с розовым жемчугом…
Натан взглянул на Дворчика, на его тонкие руки, на длинные пальцы, утолщенные в суставах, походившие на сухие бамбуковые стебли. Эти пальцы держали черепаховый гребень его матери. Натан с ужасом уставился на такую знакомую вещицу. Он вновь увидел перед собой мать, смотревшую на него из толпы, ее округлившиеся, как у безумной, глаза, услышал ее крик…
– Стойте! Это вещи моей матери!.. Стойте, говорю, Соломон Дворчик… – В полу-истерике Натан повторял что-то невнятное.
Оценщик недоуменно посмотрел на него поверх очков.
– Не надо кричать, Ройзман. – Дворчик сказал это безразличным голосом. – Вы покойник, как говорит Комка, а покойники ведь не кричат, господин Натан Ройзман. Не кричат. Пишите – гребень черепаховый с розовым жемчугом… Сколько же он будет стоить? Как вы думаете, господин Блюм? Я думаю, это персидской работы, из Хорасана…
– Ни в коем случае! – Гребень перешел в руки Блюма, – Вы путаете, господин Дворчик. Медана близ Хорасана славится бирюзой. Там никогда не было жемчуга. Гребень багдадской работы… Вы ошибаетесь, господин Дворчик. – Блюм торжествующе поглядел на Соломона Дворчика, словно уличил его в вопиющем невежестве.
– Я никогда не ошибаюсь… Запишите…
Кроме того, что Натан собирал драгоценные вещи, он исполнял обязанности писца и переводчика документов, которые сваливали в углу барака под нарами. Под диктовку Дворчика он делал также опись драгоценных вещей. Комка передавал эту опись начальнику лагеря, а копию прятал в другом бараке под грудой старой одежды. Сейчас Натан не мог написать ни единого слова. Руки дрожали, глаза застилал и лажный туман. Голос Дворчика доносился издалека.








