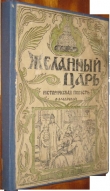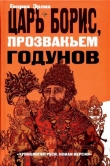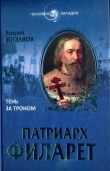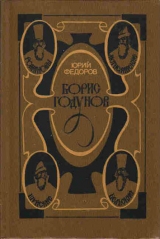
Текст книги "Борис Годунов"
Автор книги: Юрий Федоров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 44 страниц)
Вдруг, пронзительно пискнув, над дорогой рыжим платом перелетела белка, скрылась в мохнатых еловых лапах, но тут же выглянула вновь и села столбом на вершине ближней к дороге ели. Белка веселая, глазки шустрые, ан недовольна была чем-то и все поглядывала на густой орешник у подножья ели, дергала хвостом.
Кусты орешника дрогнули, и на дорогу выполз на карачках человек в заскорузлом от снега армяке и заснеженной шапке. За кушаком у него тускло блеснул топор.
Белка вовсе забеспокоилась, защелкала зло: кто таков-де, зачем, почто тревожишь? Пошла скакать по веткам.
Человек с трудом разогнулся, встал, упираясь руками в поясницу, скользя лаптями по дорожной наледи. Снял варежку, обобрал горстью сосульки с бороды и усов, повернулся к свету. И видно стало, что это Иван-трехпалый, битый в застенке Семена Никитича.
Иван опасливо посмотрел в одну сторону, в другую и, с усилием собрав замерзшие губы, тихо свистнул. Из кустов вылезли Игнатий и Степан, такие же, как и он, скорченные от мороза. Объявились, голубки. Встали чурками. Видно, мороз пропек до костей. Едва-едва ворочали руками.
Белка на вершине ели вся извертелась, схватила шишку, швырнула в мужиков: уходите-де, уходите, чужие вы здесь!
Иван покосился на зверька, стянул с головы шапку и с остервенением хлопнул ею по колену. Не то хотел выколотить шапку от снега, не то обидно ему стало: зверюшка с ноготок, а и та гонит прочь.
В овине на Яузе, когда на беглецов Семена Никитича вышли мужики с вилами, все обошлось по-доброму. Иван вывернулся. Сказал, что по хмельному делу встретились с плохими людьми и те не только очистили у них карманы, но еще и побили. Водка не мед, человека гнет – вот и попали в лихую передрягу. Удивительно, но мужики поверили. Рожа, наверное, больно жалостлива была у Ивана, или мужики догадываться не хотели до плохого. Послушали-послушали Ивановы слова, да и сказали:
– Ну ладно…
Из шапки Иван выдрал две монетки – последнее не пожалел, – и тут вовсе разговор пошел по-хорошему. Мужики беглецов свели к себе домой, дали обмыться, послали мальца за водочкой. Малец хлопнул дверью, а через миг назад вернулся.
Хозяин бутылку в затылок стукнул твердым кулачком, плеснул в плошки. У Ивана даже зубы застучали, как хмельное взял в руку. Мужики засмеялись:
– Водочка, голубушка, горячая, а в дрожь бросает…
Но выпили, и как ни тепло было в избе, как ни согрелись души беглецов, а надо было уходить. Иван бойко поднялся с лавки, поклонился хозяевам, кивнул своим: пойдем-де, заждались дома. А дома-то, знамо, не было и вовсе. Какой дом, ежели только глухой подвал Семена Никитича? Но в такой-то дом навряд ли спешат.
Вышли за ворота – ветер в лицо, колючий снег. Эх, жизнь распроклятая! Пошли, спотыкаясь. Иван знал одно: из Москвы уходить надо поскорее.
В затишке у какого-то амбара беглецы встали, перекинулись словцом.
– В дом романовский, – сказал Иван, топчась по снегу, – по моему разумению, вам идти, мужики, не след. Посудите сами: денежки вы взяли, а дело? По Варварке денек походили, и все. – Надеялся все же сбить мужиков на Дон али куда на юг. Потому и старался, говорил много. – Побьют вас как пить дать, в яму посадят. Все же разговоры опасные по нынешним временам с вами вели, а не дай бог вы кому обскажете. – Покрутил головой. – На Москве с этим строго.
Мужики стояли молча. Хоронились от ветра. Сутулили плечи. Но все же не согласились идти на юг: забоялись. Игнатий сказал:
– В деревню пойду. Пущай что уж будет, то будет…
Скрыл, что в портяночке у него сохранился романовский рубль. Пяткой чувствовал рублик, кожу он ему жег. Надежду подавал. Впервые такое сокровище оказалось у мужика. Лаптем притопнул, словно убедиться хотел, на месте ли денежка. В лице изменился – показалось, что лапоть пуст. В другой раз притопнул, понял – на месте. И теплее вроде бы даже стало мужику.
– В деревню, – повторил, – пойду.
Степан решил по-другому:
– Прибьюсь к какому ни есть поместью. Я бобыль…
Но из Москвы уйти оба согласились. Даже попросили Ивана: выведи, мол, ради господа, выведи, нас без тебя точно забьют. Вспомнили чернявого из подвалов Семена Никитича. С ухарем таким не хотелось встретиться в другой раз. «Ладно, – подумал Иван, – пойдем. Оно шаг, говорят, только и сделать надо, а там дорожка сама под ноги ляжет». И пошли мужики.
Как обойти заставы, знал Иван. В жизни по разным тропочкам бегал. Оврагами, лесом, по брюхо в снегу, но вывел мужиков из Москвы. И вот сейчас стояли на дороге, думали. Торопиться было некуда. Разбойнички ли, калики ли перехожие – не поймешь. А дорога наезжена, блестит санными следочками, но вот в какую сторону податься – неведомо. На перепутье стояли мужики. Камня только на дороге не видно с надписью: «Влево пойдешь – беду наживешь, вправо пойдешь – еще горше попадешь, прямо пойдешь…» Э-э-э, да что там! Сумрачна впереди была дорога. Может, и проглядывало где солнышко, но не для бродяг.
В лесу, далеко на дороге, забренькал колокольчик. Иван насторожился. Шапку сдвинул с уха, прислушался.
– Айда, – сказал, – мужики, айда!
И, проваливаясь по пояс в глубокий снег, полез в кусты. Мужики, суетясь, кинулись следом. Упали в орешник.
А колокольчик все ближе, ближе, и вот уже из-за поворота показались первые сани. Головастая лошаденка, под дугой колоколец. За ней вторая, третья – и потянулся мимо мужиков длиннющий обоз. Возчики – один на пять-шесть саней, – спрятав лица от мороза в воротники тулупов, сидели мешками. Кони шли не бойко. Сани нагружены вполсилы. Да по такой дороге кто будет трудить лошадей – дурак только навалит с верхом.
Иван из-за кустов шарил глазами по саням: выглядывал, нет ли стрельцов с обозом. Но нет, обоз вели мужики-лапотники.
Иван поворотился к своим. Лицо у него загорелось: как будто бы и не он вовсе стоял на дороге, корчась от стылой непогоди.
– Ну, – спросил, жарко дыша, – со мной?
Мужики, отводя глаза, угнули головы.
– Пожалеете, мужики, – наседал Иван, – погуляли бы, ну же, ну… – Изо рта у него бился клубом пар. Вишь как разгорячился человек. Горел весь.
Но мужики молчали.
– Эх вы, – выдохнул Иван, – поленья сырые! Ну да ладно. Доведется – увидимся.
Чуть приподнялся, ловко перевалил через кусты и, проворно двигая лопатками под армяком, пополз к дороге.
Обоз уже прошел кусты, где засели мужики, но Иван добрался до дороги, вскочил на ноги, бегом догнал последние сани и упал в них боком. Повернулся, махнул рукой и с головой зарылся в ворохе соломы. Обозники и не приметили его. Вот как боек был: вмиг дело сделал.
Колокольчики звенели все тише и тише и наконец смолкли вовсе. Мужики полезли на дорогу. Выбрались на твердое и, не сказав друг другу ни слова, зашагали в разные стороны. Один туда, где беду наживешь, другой – где еще горше попадешь. А о чем говорить было? О чем совет держать? Одна забота была: не замерзнуть в черном лесу. Всяк о себе думал.
Лесная дорога обезлюдела, и вновь веселая белка показалась на вершине ели. Взглянула туда-сюда и осталась довольна: молчаливые деревья вокруг, пустынна дорога – ходи весело, страха нет.
Лес нахмурился еще более. Уйдя за тучу, погасло солнце, потянуло ветром. Ровно и глухо загудели деревья. В голосах их ничего не разобрать: только у-у-у да у-у-у… А иные из богатырей тех стояли и по веку, и по два. Век – много лет. И за дни долгие свидетелями были лесные богатыри всякому. Ныне и такого дождались: новое царствование началось на Руси.
Борис Годунов взошел на престол. Склонили головы Мстиславские, Шуйские, Романовы, Бельские… Угомонился на городских площадях московский люд. Погасли тревожные костры в Кремле. Затейники ночные затихли на Москве. Но надолго ли смолкли крики ярости, отполыхали отсветы костров на кремлевских стенах, все ли люди ночные забыли лихо? Кто знает?
Гудел лес, стонали многолетние великаны, а белочка прыгала, скакала, щелкала орешки… Ну да белочке орешки лишь и нужны. Людям – иное. Им звезду с неба обломать хочется и, как огурец, попробовать на зуб: «А?.. Звезда, говоришь?.. А ничаво, ничаво… Хрустит… Ничаво… Сольцы бы вот еще…»
От веку и до окончания времен в каждом горит своя свеча. Не угадать, для чего возжжена она, для чего бьется на ветру слабый язычок пламени. Все одно погаснуть свече.
У-у-у – пели деревья. Может, сказать что-то хотели? Уж больно много было ими видено. Но что сказать-то, что?
Глава вторая
1
Слух о том, что крымский Казы-Гирей собирается вступить в московские пределы, подтвердился.
В сшибке за Донцом казаки полонили татарина. Рано поутру сторожевая станица, выскакав из крутояра, увидела в степи трех всадников в пестрых крымских халатах. Татарина догнать в степи трудно, но солнце было так ало, воздух так свеж, казаки так бодры и легки, что старшой гикнул во всю силу и станица пошла в угон. Кони, разбежавшись, охватили широким полумесяцем уходивших к горизонту всадников. Молодой казачонок сорвал с плеча аркан и ловко выбил из седла нацелившегося было в него из лука крымца. Тот грохнулся оземь. Казачонок, горячась, спрыгнул с коня, упал на татарина. Станица еще с версту гнала двух ускакавших вперед крымцев, но те все же ушли в степь. Ушел за горизонт и конь сбитого наземь.
Пленник оказался зол до невозможности. Он вцепился в упавшего на него казачонка, до кости зубами изгрыз ему лицо и одолел бы, наверное, но подоспевшие станичники скрутили его арканом и оттащили в сторону. Казачонок, помятый пленником, едва поднялся. Все лицо его было залито кровью, горло исцарапано. Изумившись лютости крымца, казаки, скорее всего, пустили бы его на распыл, но старшой остановил их.
– Погодь, – сказал, – станичники, погодь.
Выступил вперед. Пленник катался по земле, рыл землю каблуками красных сапог, кричал что-то, брызгая слюной.
– Ух, волчина, – сказал все же старый казак, – зараз я его стреножу. – И потянул шашку из ножен.
Старшой придержал его руку, наклонился, прислушиваясь к выкрикиваемым крымцем словам. Лицо старшого стало внимательно. Глаза насторожились.
Среди булькающих звуков и ругательств старшой явственно разобрал: «Смерть вам, собаки… Смерть… Орда идет… Орда». Старшой выпрямился, что-то соображая, с сожалением поглядел на богатую саблю, на красные сапоги крымца и, видно переломив себя, решительно сказал:
– В Оскол его надо, станичники, в Оскол.
Пленника подняли с земли, посадили в седло, намертво приторочив к луке тем же самым арканом, который сорвал его с коня.
Пленник, ощерив желтые зубы, мотал бритой башкой, кренился набок, хотел, видно, упасть с коня, расшибиться насмерть, но крепкие волосяные путы держали в седле.
– И-и-и! – зло и обреченно визжал татарин, клокоча горлом.
– Но, но, – толкнул его в грудь старый казак, – не балуй!
Коня под крымцем взяли на длинный повод, и станица поспешно пошла к Осколу. Старшой понял, что дело здесь нешутейное.
В Оскол пришли к первым петухам, дважды сменив коней на подставах. Еще не рассвело, и крепость открылась взору темной громадой высоких стен. На топот коней в надворотной башне отворилось узкое оконце, и из него высунулась голова стрельца. Стрелец разинул рот, хотел было спросить что-то у казаков, но, увидев одетых в мыльные клочья пены коней, понял: не до спроса. И, времени не теряя, нырнул в глубину башни, захлопнул оконце.
Цареву сторожевую службу на рубежах несли строго. Да иначе и нельзя было.
С металлическим лязгом растворились ворота, тяжко скрипя, поднялась осадная решетка, и всадники проскакали в крепость.
Оскол спал. Но станицу окружили стрельцы, повели к воеводе, с любопытством поглядывая на торчавшего колом в седле, спеленатого арканом крымца.
В доме воеводы уже светили в слюдяных оконцах вздутые огни, и воевода, предупрежденный воротной стражей, ждал казаков.
Пленника, закостеневшего от долгой скачки, сняли с седла, втащили в избу, бросили к ногам воеводы. Воевода оскольский – низенький, плотный, с тяжелым лицом – сидел на скамье, уперев ладони в круглые, толстые колени.
Пленник лег на бок и отвернул голову в сторону.
– Вот, нашему лицо изгрыз, – кивнув на стоящего тут же казачонка с обмотанной тряпками головой, сказал старшой, – кричал, что орда идет, орда.
Стрельцы, толпившиеся в дверях, придвинулись ближе. Переглянулись.
Воевода, не поднимая глаз на пострадавшего, молча разглядывал крымца.
Старшой мягким, сыромятной кожи чириком [12]12
Чирик – вид обуви.
[Закрыть]повернул голову пленника. Тот мотнулся мертво, прижался щекой к затоптанному полу. На сизо бритом черепе была видна кровавая ссадина, протянувшаяся черной полосой от бровей до затылка.
– Живой, – сказал старшой, – застыл в седле.
Воевода, ничего не ответив на то, по-прежнему не отводил глаз от крымца. «Сапоги кожи хорошей, – думал воевода, щуря глаза, – выделки бахчисарайской, халат узорочьем шит, ремешок серебром обложен керченской работы… Птица не простая». Воевода немало повидал на своем веку и людей понимал с первого взгляда. Бывал и в Крыму, и в Анатолии. В его жизни многое случалось. На южных рубежах сидел не первый год.
– А ну, – неожиданно ласково сказал воевода, – посади его.
Казак нагнулся и, ухватив пленника под мышки, рывком поднял, посадил на пол. Живые глаза крымца глянули на воеводу.
– Огня поближе, – сказал тот.
Стрелец, стоявший у дверей, поднес фонарь.
Воевода качнулся на лавке всем телом и, подавшись вперед, навис над пленником тяжелым лицом. Хекнул утробно, затряс щеками. Лицо налилось багровой гневной краской. И видно, в глазах его, устремленных на пленника, полыхнуло такое, что тот в сторону посунулся. Заелозил ногами по полу. Умел воевода напугать человека. Татарин обмяк, опустил угластые, поднятые до ушей плечи, понял: будет молчать – придется худо. В Бахчисарае так-то, шутя, с пленников кожу драли. Сажали на кол, а то – ох как не сладко – варили в котлах. Пленник тоже не был прост. Не вчерашний отрок, знал, чем кончиться может его молчание. Разлепил спекшиеся губы.
От него выведали, что хан вышел из Крыма со всею ордою и с семью тысячами султанских воинов. Татарин – не то пугая, не то злорадствуя – сказал, что султанские янычары вооружены хорошо, да и орда противу прежнего не только на конях выходит, но имеет и пушечный снаряд, ядрами и порохом огружена достаточно. Скривил рот зло: мол, не только меня пугайте, но и сами побойтесь.
Пленник сидел на полу ровно, даже ноги подвернул под себя, будто дорогой гость и ему сейчас подадут кальян. Гордый был.
Воевода откинулся на лавке, привалился к стене. На лбу прорезалась морщина. Это было внове, чтобы орда шла с пушечным боем.
– Врет, собака, – сказал казачий старшой, – чтобы через степь, по весне, пушки тащили, да еще с огневым припасом… Невиданно…
Пнул крымца в ребра. Тот повалился на бок.
– Врет, – еще раз сказал старшой.
Казаки загудели:
– Зараз степь сырая, ерики воды полны… Непременно врет гололобый.
Но воевода и не взглянул на казаков. Сидел молча, соображал. От лица звероватого отлила краска. Задумался крепко. Встал, прошелся по избе на вывороченных ногах, еще раз косо посмотрел на пленника и махнул рукой, чтобы убрали.
Крымца подняли, поволокли из избы. Тот хотел было что-то сказать, залепетал:
– Бачка, бачка…
Но воевода пренебрег. Пленник был уже не нужен ему. Все сообразил и прикинул воевода, пока сидел на лавке. Так решил: врать крымцу ни к чему. Об орде со зла сказал. Обиделся шибко, что его казаки вышибли из седла. А от обиды, со зла, врут редко.
Казаки посматривали на воеводу: отпускает их назад или как? Воевода сказал ворчливо:
– Ступайте, прикажу.
Казаки вышли. Воевода постоял посреди избы, крикнул писаря. Тот вошел с прозеленевшей чернильницей, сел к столу. Уставился круглыми глазами на воеводу.
Воевода подошел к окну, откинул створку.
Рассвело. В блеклом утреннем небе летали по-весеннему неряшливые грачи, которым в эти веселые дни одно было занятие: прыгать друг через дружку. Воевода сцепил зубы. Рот – резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах, – казалось, вот-вот сломается в больном крике. Но воевода не крикнул. А было о чем кричать.
Писарь, глупый мужик с льняными, набросанными на лоб волосами, – на что уж дурак дураком, в спину воеводе глядел – и то заметил: ссутулились широкие плечи воеводы, словно лег на них непомерный груз. Шея утонула в вороте тулупчика. Да и все грузное, тяжелое тело воеводы скукожилось, собралось в ком, как ежели бы готовился он к прыжку. Писарь поморгал белесыми ресницами и полез было под мышку почесаться, но отдернул руку, как от колючего. Воевода повернулся к нему лицом.
– Пиши, – сказал.
Писарь торопливо обмакнул перо в чернильницу. Склонился над бумагой.
Думы воеводы были трудные: крикнуть-то собирался на всю Русь – орда-де идет, орда, – а это непросто. Далеко от Оскола Москва, не одного коня изломают станичники, пока доскачут, но все же знал воевода – путано сейчас в первопрестольной. И кто еще прочтет его послание в белокаменной да и как – неведомо. Оно всего бы лучше напутать, напетлять в грамотке – так-де и эдак, а то и вовсе эдак-де и так. И все. Такое воевода умел: слов много, а дела чуть. И к кому бы грамотка ни попала, кто бы ее ни читал, а сказать ничего нельзя, и воеводе куда как спокойно. И одним, и другим, и третьим потрафил, а при надобности и вовсе можно отказаться от грамотки. Голос Москвы всякому страшен, ибо первопрестольная раз только говорит и бьет словом наповал. Но знал воевода: от степи чего хочешь можно ждать. И хоть дозоры казачьи стояли повсеместно, а налетят крымцы – и глазом не успеешь моргнуть, как спалят крепость и людей побьют. Много, ох много русские люди от степи горюшка хлебнули. На высоких дубах дозорные посиживали, но в степи поет ветер, гонит пыль, порошит глаза, дозорный прикроет веки, а каленая стрела – фи-и-ить – и все, нет казака. Орда пойдет – кто ее углядит? Запылают деревни и города, польется русская кровь, закричат, запричитают уводимые в полон люди. Впереди у них одно: невольничий рынок. В Константинополе, в Египте ли… Родной земли больше не увидеть, сгинуть на чужбине. В ярме, под плетьми. В боли и унижении. Сколько русских людей на невольничьих рынках продано было, сколько красавиц славянок в гаремах увяло? Кто знает, кто считал? Путь орды обозначится костьми на дорогах, черным вороньем да пепелищами деревень. Крымцы бегут быстро, кони у них хорошие, и зла много.
– И-и-и-и! – завизжат дико, засвищут передовые в конной лаве. – Алла-инш-алла!
И загудит степь. Черная пыль поднимется до неба.
Воевода не пожалел себя. Написал твердо: орда идет. К полудню грамота была готова, и воевода вышел на крыльцо. Сам хотел доглядеть, как повезут казаки тревожную весть в Москву. Отдал свиток сотнику и, проследив, как тот спрятал его в седельную сумку, внушительно сказал:
– Послужи новому царю.
Сотник при серьезных словах сдвинул брови. Махнул властно казакам, и сторожевая станица пошла в Москву. Глядя вслед уходившим казакам, воевода довольно отметил, как запылила под копытами коней подсыхающая земля. «Ничего, – подумал, – добегут быстро. Сейчас сподручно, не то что в непогодь». Но тут же подумал: «Но оно и для крымцев степь подсохнет». С сердцем взял себя за низ лица, сжал до боли. Повернулся. Сказал стрельцам, стоящим у крыльца:
– Пленника беречь. Чтоб был жив. В Москву его повезем.
Погрозил пальцем. Строг был, и его боялись.
2
А в Москве еще валил снег. Правда, сырой, по-весеннему рыхлый, но все же снег. И ветер зло толкался в узких кривых улицах, рвал на тесовых крышах изб обмякший дерн, которым москвичи обкладывали кровли, боясь пожаров. Мужики, по утрам выходя из домов прибрать и накормить скотину или по-иному распорядиться по хозяйству, изумлялись: «Ишь ты, зима вот, не в пример другим годам, была куда как лютой и по всем приметам весне прийти рано и споро, ан нет!» Пешней попробует мужик лед во дворе, а он тверд. «Да, – скажет, посмотрев на летящие над Москвой облака, – тепло-то, оно придет, конечно, но пока вот нетути». Покашляет в кулак: долгая весна – не радость. Всему есть свои сроки. А так что ж: холодна земля, и как-то еще дальше будет? А хлебушек? В такую землю зерно не бросишь. И зябко становится мужику.
Но как ни крепилась зима, а по желтым от навоза улицам с важностью, неторопливо зашагал грач. Косился на людей круглым блестящим глазом, поклевывал конские яблочки, топырил на спинке перья, встряхивался, и чувствовалось – этот, черный, знает: быть теплу. Первая примета: грач навозец на дороге разгреб – жди весну.
В эти-то дни тревожная грамота оскольского воеводы дошла до Бориса. Бойкий дьяк на одном дыхании прочитал ее и, взглянув поверх бумаги на царя, заморгал глазами: царь смотрел на дьяка в упор, и взор его был тяжел.
Дьяк растерянно уткнулся в грамоту, подумав, что сгоряча неверно сказал какое-нибудь слово, – глаза забегали торопливо по строчкам, но все было прочитано, как написано. Дьяк к царю был взят недавно и еще не обвыкся в верхних палатах. Несмело вновь поднял лицо. Борис по-прежнему неотрывно смотрел на него, и у дьяка даже горло перехватило сухостью. И стало видно, что и рыж он, и конопат, да и глуп, и хотя научили его языком бойко чесать, а долго он в царевых палатах не продержится. Здесь другие нужны. Борис сказал:
– Еще раз прочти. Внятно.
– «Великому государю, царю…» – торопливо начал оробевший вконец дьяк, но Борис прервал:
– Суть читай.
Дьяк, шевеля губами, пробежал глазами титул и, набрав полную грудь воздуха, громко и отчетливо, слово за словом, перечитал грамоту. Место, где было сказано: «Говорено сие татарином в великой запальчивости, и посему, полагаю, лжи в словах нет…» – Борис повелел перечитать в третий раз, а вслушавшись, отвернулся. Устремил взгляд в окно. Лицо царя было необычно сосредоточенно и хмуро. Дьяк стоял столбом, боясь и бумагой зашелестеть. Уж больно задумался царь. Бровь – было видно дьяку – круто изогнулась у Бориса, и губы легли жестко.
За окном мотались корявые, голые ветви, царапали желтую слюду в свинцовых с чернотой рамах. Стучали, словно просились в тепло палат.
Борис молчал, неведомо о чем думал, но наконец, не поворачивая лица, сказал сквозь зубы:
– Ступай.
Дьяк торопливо вышел. В мыслях прошло: «Беда». Рот прикрыл ладонью: «Что-то будет?» Сел на лавку у дышащей жаром муравленой печи. Ждал: может, вызовет царь, – но так и не дождался царского приказа.
В палаты призвали Семена Никитича. Тот прошел важно, как хозяева ходят. Лицо красное, твердое, щеки подперты шитым жемчугом воротником, глаза вперед устремлены. Вот как по Большому дворцу заходил царев дядя. Для такой поступи многое надо за спиной иметь.
Дьяк вслед ему потянулся, но Семен Никитич и не моргнул. Дьяк присел на край лавки, и глаза у него закисли. Но он все ждал.
У дверей Борисовых палат торчали мрачные немецкие мушкетеры, глядя на которых трудно было и сказать, живые то люди или железные болваны.
Время, казалось, остановилось.
Борис через стол подвинул Семену Никитичу грамоту. Сказал:
– Читай. – Поджал губы.
Семен Никитич склонил голову, разбирая косо и криво бегущие строчки. Оскольский писарь был небольшой грамотей.
Борис молчал.
– Так, так, – забормотал царев дядька, – вот те на. Дождались… Говорили, слышал, говорили…
– Кто говорил? – коротко спросил Борис.
– Люди, – вскинул глаза дядька.
Твердости прежней у него во взоре приметно поубавилось. Весть оскольского воеводы словно обухом по голове ударила.
– Люди, – невнятно повторил Борис. Оперся локтем на ручку кресла и положил подбородок на сжатый кулак.
– Да ведь оно, – не сразу придя в себя, начал Семен Никитич, – чего только не болтают.
Осекся. Увидел, что лицо царя налилось гневной белизной. Да и понятно, побледнеешь… Крымцы – беда великая, страшная. Да еще и неустройства. Власть не окрепла.
– Вот что, – начал Борис странным голосом, – доподлинно узнать надо, насколько сие верно. И думаю, помочь в том могут купцы крымские. Ничего не жалей, но чтобы к вечеру правда была сыскана.
Семен Никитич торопливо поднялся, шагнул к дверям. Только что пудовыми ногами шагал, а тут засуетился, запрыгал. И так вот изменяются походки в Большом дворце. То прыг-скок, и тут же как на переломанных ходулях зашагал. Или наоборот, и, думать надо, все это оттого, что из особого дерева полы в верхних палатах настелены.
За ручку дверную взялся Семен Никитич, но Борис остановил его. Выпрямился в кресле:
– О грамоте правду не скрыть. Читана многими. Да и скрывать не след. О том же, о чем ты узнаешь, не должно знать никому.
Насупился. Надвинул на глаза брови. Повторил:
– Ничего не жалей. Иди.
Оставшись один, Борис прошагал вдоль стены, глянул уже в который раз в окно на мотающиеся под ветром стылые ветви и руку прижал к боку, под сердце, как делал всегда в минуты большого волнения.
Семен Никитич был скор. Только что видели его в царевых палатах, а он уже на Ильинке объявился. Ильинка шумела голосами. Здесь свое – торг. Купчишки кричали из-за ларей, раззадоривали люд:
– Веселей набегай, хватай, а то не поспеешь!
Сани вымахнули из-за угла, а навстречу мужик – вывороченные губы, ноздри на пол-лица. Его со смехом хлестали кнутами по полушубку мимоезжие. Загулял, видать, молодец, на перекресток выпер.
– Но, но, дорогу! – крикнул кучер Семена Никитича и жиганул мужика уже со злом. Тот покатился головой в сугроб.
У гостиного двора – затейливого, с высокой крышей, с резным коньком, обложенным красной медью, – Семен Никитич приказал придержать коней. Сопя, полез из возка. К нему кинулось с десяток купцов. Каждый спешил помочь выпростаться и, ежели повезет, утянуть в свою лавку. Но Семен Никитич ногой отпихнул одного, дал пинка другому, цыкнул на третьего, и купцы прыснули в стороны. Здесь с первого взгляда угадывали человека.
Семен Никитич утвердился на ногах и повел тяжелыми глазами. Одумался уже, перемог растерянность.
Тесно, пестро, шумно на Ильинке – лари, лари, и там и тут купчишки в пудовых шубах – заходясь на морозе, орут, перебивая друг друга. Не накричишься – не расторгуешься. Вокруг народ – Москва город людный. Глаз не соберешь на Ильинке, но Семен Никитич, что ему надо, увидел и шагнул к лавке, в дверях которой стоял высокий седобородый старик в пестром теплом халате. Тот, сложив руки у груди, с почтением низко склонился. Быстрые, острые глаза его без страха глянули в лицо царева дядьки и спрятались под опущенными желтыми веками. Татарин, отступив назад, широко распахнул звякнувшую хитрыми колокольцами дверь. Семен Никитич шагнул через высокий порог. В лицо пахнуло щекочущими запахами пряностей. Здесь, чувствовалось, не на медные гроши торговали.
Купец тщательно притворил дверь и хлопнул в ладоши. Тут же невесть откуда вынырнули юркие, смуглые мальчики, расстелили перед гостем белый анатолийский ковер, разостлали скатерть, набросали подушек, принесли бронзовые тарелки с миндальными пирожными, вяленой дыней, просвечивавшей, как пчелиные, полные меда соты, поставили блюдо с запеченными в тесте орехами. Старик купец округло, от сердца, показал гостю на подушки. Семен Никитич грузно опустился на ковер. Старик легко присел на пятки, и его бескровные губы зашелестели неразборчивые слова молитвы. Царев дядька степенно перекрестился.
Помолившись, старик из великого уважения к гостю сам наполнил чашки крепким, как вино, чаем.
В лавке на полках тускло поблескивали длинногорлые медные кувшины, отсвечивали льдистым холодом серебряные пудовые блюда, чеканенные в жарком Константинополе, пышной Венеции, сказочной Мекке. Далек был путь этих товаров, и цена им в Москве была велика.
Семен Никитич отвел глаза от полок – не за тем приехал, – поднес чашку ко рту. Отхлебнул глоток. Отщипнул от пирожного, бросил сладкую крошку в рот, но жевал без вкуса, думая, как начать разговор. Купец по-восточному мягко улыбался, пил чай, едва касаясь губами края чашки, и часто, как птица, прикрывал глаза полупрозрачными веками.
Мальчики внесли жаровню с раскаленными углями. Старик запустил руку в складки стеганого халата, достал блестящую коробочку и бросил щепотку порошка на угли. Порошок зашипел, и из жаровни поднялись тонкие струйки текучего ароматного дымка. Струйки вились, сплетаясь в причудливый узор, старик следил за их игрой, и лицо его говорило, что он может молчать ровно столько, сколько того пожелает гость.
Семен Никитич допил чай и только после этого сказал:
– У меня есть разговор.
Купец с пониманием наклонил сухую, с запавшими висками голову, как бы говоря, что он все время ждет слова гостя. Умнее был купец, чем вид подавал.
Семен Никитич, упираясь кулаками в ковер, подался вперед. Как ни тяни, а разговор надо было начинать. Однако помнил: исподволь и ольху согнешь, а вдруг и ель поломаешь. Начал издали.
– Приходят войны, и уходят войны, – сказал с натугой царев дядька, – но купцы всегда остаются.
Передохнул, собираясь с мыслями. Уж очень трудное надо было выпытать. Старик вновь наполнил чашки. Откинулся на подушки. Сказал:
– Это мудрые слова.
Семен Никитич взял чашку в руку, но не донес до рта. Забыл. Волновал его разговор.
– Еще твой отец торговал на Москве, – продолжил царев дядька, – и немало товаров было взято от него в Большой дворец.
Гибкие пальцы купца привычно перебирали зерна янтарных четок. Тонкая струйка медового цвета лилась и лилась из ладони в ладонь. Этот был спокоен. Вся мудрость Востока была в опущенных веках старика. Неожиданно он взглянул прямо в зрачки Семена Никитича, как немногие смели взглядывать, и сказал:
– Уважаемый гость может рассчитывать на мою откровенность. Я ценю отношение ко мне его благословенного государя.
Семен Никитич удовлетворенно передохнул, будто свалил с плеч тяжкий груз, и только тогда донес чашку до рта. Понял: разговор, которого он так хотел, состоится.
– И мы умеем ценить, – поспешил со значением, – искренность наших друзей. Слава богу, казна царева не пуста.
Старик смотрел в свою чашку.
«Чертова крымская собака, – подумал Семен Никитич, – озолотим, скажи только правду». И верил и не верил купцу. Обмануться было страшно.
Купец молчал.
Семен Никитич поставил недопитую чашку и придвинулся к старику.
– Казаки говорят, что хан вывел орду из-за Перекопа…
Глаза царева дядьки зашарили по лицу купца.
Тот поднял руки и огладил бороду. Лицо его было неподвижно.
– Это война? – спросил Семен Никитич и, неловко подавшись вперед, опрокинул чашку. Темно-красная жидкость пролилась на ворсистый белый ковер. Пятно расплывалось шире и шире по яркому узору, но царев дядька не заметил своей неловкости. Весь был в ожидании.
Все серебро и золото с полок лавки глянуло ему в лицо и, заплясав множеством ослепительных лучиков, словно засмеялось едко и безжалостно: «Трусишь?»