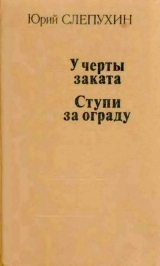
Текст книги "У черты заката. Ступи за ограду"
Автор книги: Юрий Слепухин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Когда, давно? А, около трех. Я вышел раньше. Вы юрист, сеньор Ларральде?
– Почему юрист? Врач, – буркнул тот.
– Ах вот что. Я почему-то решил… Дело в том, что все знакомые мне доктора почему-то юристы.
– Ваше счастье.
– Да, на здоровье не жалуюсь. Большая у вас практика?
– Я стажируюсь в Роусоне, так что до практики еще далеко.
Над столом повисло молчание. Да, они несомненно объяснялись.
Элен явно растеряна, вид у нее испуганный, бедняга лекарь чувствует себя по-дурацки. Впрочем, еще более по-дурацки чувствует себя он, муж.
— М-м… На кинте все в порядке? – спросил он.
– Да, конечно… Я здесь с машиной, – сказала Беба.
– Будь осторожна, шери. Ну что ж, мне пора…
Он встал, нашаривая в карманах трубку. Поднялся и медик.
– Очень жаль, что мне приходится покидать вас, но что делать. Надеюсь, доктор, вы когда-нибудь побываете у нас за городом?
Медик пробормотал что-то насчет своей крайней занятости.
– Ну, это все вы уладите с моей супругой…
Жерар поцеловал Бебу, пожал руку медику и пошел прочь.
Вот тебе и новый фактор! До сих пор ему как-то даже не приходила в голову мысль о том, что в жизни Бебы могут быть другие мужчины. Что ж… Все это вполне нормально. А этот Ларральде довольно приятный парень. Трудно даже сказать, что в нем особенно располагает к себе… Скорее всего, глаза. Тогда – еще не видя его – этот медик смотрел на Бебу с такой откровенной жадностью, не стесняясь никого и ничего, как можно смотреть на возлюбленную у себя дома, а не за выставленным на тротуар столиком в центре столицы. «Проходимец этакий, – подумал Жерар, пытаясь разозлиться, – среди бела дня так разглядывать чужую жену…»
Но разозлиться не удалось. Не было ни злобы, ни ревности, просто тоскливое сознание того, что и это его последнее убежище начинает давать трещины. Ну что ж. В конце концов, этого ты тоже хотел, Жорж Данден…
6
Как всегда в это время года, солнце добралось до ее изголовья около половины восьмого. Почувствовав на щеке горячий луч, Беатрис перевернула подушку прохладной стороной и отодвинулась к самой стене, не открывая глаз и не спеша окончательно выбраться из легкой паутины снов. Совсем недавно, уже под утро, ей приснилось несколько собак и мисс Пэйдж, и собаки были одна другой милее, а мисс Пэйдж – такая же, как и в жизни. Или еще хуже. Вспомнив вчерашнюю ссору, Беатрис окончательно проснулась. «Эта женщина сократит мне жизнь на десять лет», – убежденно подумала она. Какое счастье, что ее не будет ни сегодня, ни завтра! Привстав на локте, Беатрис посмотрела на будильник. Без двадцати восемь, можно полежать еще четверть часа – каникулы есть каникулы, хотя бы трехдневные.
Снова зажмурившись и пытаясь сосредоточиться, Беатрис шепотом прочитала Confiteor[24]24
Католическая молитва (лат.).
[Закрыть], испугалась пришедшей вдруг в голову мысли о своей неподготовленности к благочестивому образу жизни и к начинающиеся через две недели экзаменам и достала из-под подушки приемник – маленький портативный «Эмерсон», подарок тетки Мерседес к последнему дню рождения. Все местные станции, точно сговорившись, передавали какой-то официальный материал к завтрашнему празднику, Дню Верности. Музыку удалось поймать на самом краю шкалы, на волне уругвайской станции «Радио Гарбэ», передававшей «Аве Мария» Шуберта. Беатрис вытянулась с закрытыми глазами. Бывают такие удивительные моменты, когда все сливается в одно гармоничное ощущение счастья – и птичий щебет за окном, и хрустальная синева солнечного утра, и эта неземная музыка, и то, что мисс Пэйдж на целых два дня уехала в Харлингэм…
К сожалению, Шуберт скоро сменился последними известиями. Беатрис краем уха послушала о ходе переговоров в Панмыньчжоне, о забастовке на мясохладобойнях в Монтевидео, об очередном повышении цен в Аргентине. Горячие лучи солнца снова добрались до ее лица, она выключила радио и выскочила из постели, одергивая пижаму. Какой день! Нужно будет провести его как-нибудь получше, сидеть дома в такую погоду просто преступление. Осторожно – чтобы не вывалились стекла – она отворила рассохшуюся дверь и вышла на балкон. Половина сада была еще в тени, отбрасываемой стеной соседнего дома, но солнце уже высушило росу на бетонной дорожке перед гаражом и добралось до фонтана, заваленного прошлогодними листьями. Ласточки под карнизом возбужденно гомонили, очевидно, у них что-то случилось. Щурясь от солнца, Беатрис долго пыталась разглядеть, что там происходит, но так ничего и не поняла и облокотилась на растрескавшуюся каменную балюстраду, покрытую цепкими побегами плюща.
– Дора, ты встала? – послышался из-за двери голос отца, сопровождавшийся легким постукиванием.
– Не совсем! – крикнула она. – Я сейчас, папа. Папа! Мисс Пэйдж уехала на два дня к своим, – она тебе говорила? Овсянку мы есть не будем – ни сегодня, ни завтра. Хочешь кофе?
Отец за дверью посмеялся.
– Папа! Сходи, пожалуйста, на кухню и поставь воду, я сварю кофе, сейчас выкупаюсь и сварю. Я быстро!
День начался. Открыв все краны, чтобы поскорее наполнилась ванна, Беатрис надела халатик и сбежала вниз – забрать бутылку молока, оставленную разносчиком у калитки. Потом позвонила булочнику и рыбнику, убрали постель.
– Дора! – крикнул из своей комнаты отец. – По-моему, у тебя в ванной наводнение!
Действительно, вода уже переливалась через край. Пришлось открыть слив и ждать, пока уровень понизится. «Нет ничего хуже домашних работ, – раздеваясь, думала Беатрис, – обязательно выйдет что-нибудь не так…»
Завтракали они в маленькой комнатке возле кухни, которая когда-то предназначалась для хозяйственных нужд, а теперь служила столовой. Настоящая столовая, парадная, помещалась наверху; дом строился в свое время в расчете на слуг, никто тогда не думал, что молодой госпоже придется бегать с кофейником по лестницам и коридорам. Парадная столовая пустовала уже несколько лет, паркет в ней рассохся и покоробился.
– Вчера мы поссорились с мисс Пэйдж, – сообщила Беатрис, наливая отцу кофе. – Я думаю, она уехала отчасти из-за этого. И очень хорошо, по крайней мере отдохнем от ее порриджа[25]25
Porridge – овсянка (англ.).
[Закрыть].
– Она пожилой человек, Дора, – дипломатично заметил доктор Альварадо. – Тебе не мешает об этом помнить.
– Господи, еще бы я об этом не помнила! Ты понимаешь, она просто на этом спекулирует – на том, что она старше и все должны ее слушаться. Ну хорошо, вообще слушаться – пусть, но она считает себя вправе меня третировать. Имею я право завести в своем доме собаку или нет?
– Юридически – да…
– Ты все смеешься! – с досадой воскликнула Беатрис. – Мне нужна живая собака, а не юридическое право. А она мне заявляет: «Собака войдет в этот дом только через мой труп!» Если хочешь знать, собака никогда так бы не сказала… Да ты не смейся, папа, я говорю совершенно серьезно! Ты понимаешь, в таких случаях и видна вся разница между животным и человеком. Я уверена, что порядочная собака никогда не устроила бы скандала из-за того, что с нею в доме собралась поселиться старая дева…
– Дора, ты говоришь такие глупости, что слушать неловко, – поморщился отец. – И кофе на этот раз тебе определенно не удался. Как твой вчерашний теннис?
– Средне. Чемпионки из меня, боюсь, не получится. А кофе и в самом деле неважный. Хочешь еще?
– Пожалуй, чашечку.
– Я тоже выпью… Страшно хочу есть, вчера так и не ужинала.
– Из-за собак?
Беатрис кивнула. Доктор Альварадо принял чашку из рук дочери и улыбнулся:
– Да, этим животным явно суждено играть в твоей жизни фатальную роль. Помнишь ту историю в Тандиле?
Беатрис сделала выразительную гримаску:
– Я думаю, папа! Тетя Мерседес позаботилась о том, чтобы я запомнила ее надолго… – Она вдруг расхохоталась, едва не расплескав свой кофе. – Нет, па, но это было просто фантастически! «Дочь профессора истории покушается на жизнь муниципального служащего» – помнишь?
Доктор Альварадо улыбнулся и покачал головой:
– И ведь подумать, Дора, что тебе было уже двенадцать лет…
Беатрис, с набитым ртом, отрицательно замотала головой.
– Одиннадцать, что ты! – сказала она, прожевав. – Но дело не в возрасте, сейчас мне почти-почти восемнадцать, и я безусловно сделала бы то же самое. В сходных обстоятельствах, я хочу сказать.
Доктор Альварадо отставил чашку и, достав сложенный платок, прикоснулся к усам.
– Моя дорогая, ты ведь с тех пор не поумнела, я всегда это говорил. Одним словом, смерть собачникам.
– Смерть им, – с удовольствием повторила Беатрис. – Подписываюсь обеими руками. Я до сих пор жалею, что в тот раз промахнулась. А собаку я все-таки заведу, вот увидишь.
– В добрый час, ничего не имею против. Уладь этот вопрос с мисс Пэйдж и заводи хоть целую свору. Места хватит.
– Свору, – Беатрис мечтательно вздохнула. – Конечно, я с удовольствием завела бы свору, будь это возможно… Папа, а ты не мог бы сам?
– Что именно?
– Ну, уладить этот вопрос…
– О нет, Дора, уволь! – Доктор встал из-за стола. – В твоих отношениях с мисс Пэйдж я придерживаюсь нейтралитета, ты ведь знаешь.
Дора Беатрис надула губы.
– Пико говорит, что всякий нейтралитет априорно беспринципен…
– Не всегда, – засмеялся доктор, – далеко не всегда, Дора. Кто, говоришь, изрек эту сомнительную истину?
– Пико. Пико Ретондаро, ты его знаешь и даже говорил, что он очень умный юноша, – язвительно добавила Беатрис.
– Молодой Ретондаро, ну как же! Подумай, легок на помине – он ведь должен сегодня быть у меня.
– Кто, Пико? Чего ради? – удивилась Беатрис.
– Мы съездим с ним в одно место, к знакомым, – уклончиво ответил отец.
Беатрис фыркнула.
– Святые угодники, у доктора Альварадо оказались общие знакомые и общие дела с Пико Ретондаро…
– Ты же знаешь, Дора, я всегда интересовался молодежью. И старался по мере возможности поддерживать контакт со студенческой средой.
– Ладно, папочка, не оправдывайся, – снисходительно сказала Беатрис. – Когда приедет твой молодой друг?
Доктор посмотрел на часы:
– Через час. Ты чем сейчас думаешь заняться?
– Пока ничем. Посуду я вымою позже, ладно?
Беатрис убрала со стола и составила на поднос чашки.
– Пойдем пока наверх, посидим у меня. Ты вчера поздно вернулся?
– Нет, около двух. Заезжал к Хуан-Карлосу, но – бог меня прости – долго не выдержал…
Доктор Альварадо со старомодной учтивостью распахнул перед дочерью дверь.
– Бедняга, мне кажется, слепка свихнулся после сожжения Жокей-клуба… Окончательно подпал под влияние этого маньяка дона Марио и мечтает о создании иезуитской империи в бассейне Ла-Платы. Вообще, – доктор Альварадо усмехнулся, – у него собираются теперь совершенно немыслимые типы, неизвестно чем занимающиеся европейцы, какие-то подозрительные личности из испанского посольства, всякие отставные адмиралы. Вчера я чувствовал себя положительно нереально… Главное, все эти бредовые прожекты, их глубокомысленное обсуждение – совершенно всерьез, с цитатами из Мадарьяги и Унамуно…
– Ну и не ходи туда, – беззаботно отозвалась Беатрис. – Зачем они тебе нужны? Как странно, что Хуан-Карлос до сих пор не ушел с кафедры, – он ведь зеленеет от одного вида буквы «П», ха-ха-ха!
– Ну, Дора, это вопрос сложный… Помимо всего прочего, каждое вакантное место дает правящей партии лишний шанс сунуть в университет еще одного профессора-перониста. Если смотреть с такой точки зрения…
– …то ты, папа, помогаешь Перону, – подхватила Беатрис. – Ай-ай-ай, как не стыдно! Входи, только не обращай внимания на беспорядок…
– Глупости, ты прекрасно знаешь, почему я не преподаю. Имей я возможность вернуться в университет – сделал бы это хоть сегодня.
– Как, во время диктатуры?
– Именно во время диктатуры, дорогая. Именно сейчас…
Доктор Альварадо окинул взглядом комнату дочери, перебрал стопку книг на столе и опустился в шаткое, заскрипевшее под ним кресло.
– Осторожнее, у него нога сломана, – предупредила Беатрис, спешно заталкивая что-то под подушку.
– Я знаю. Дора, ты не хочешь поиграть?
– Очень хочу, но не могу, – Беатрис с сожалением покосилась на рояль и забралась в другое кресло, поджав под себя ноги. – Я дала обет не подходить к инструменту до сдачи последнего экзамена. Представляешь?
– Представляю. Какой будет первым?
Беатрис вздохнула:
– Курс гражданской подготовки, ровно через восемь дней…
– Ну, это легко…
– Зато противно! – Беатрис ударила кулачком по подлокотнику кресла. – «Прогрессивная роль Генеральной конфедерации труда в укреплении национального единства Аргентины», «Генерал Перон как выразитель духа испаноамериканизма», «Позиция Аргентины в отношении экономической экспансии США и политической экспансии Советского Союза» и всякие такие штуки, И главное – целые Куски из «Смысла моей жизни»[26]26
Книга Эвы Перон, в 1952–1955 годах изучалась во всех средних учебных заведениях Аргентины.
[Закрыть], с комментариями и толкованиями! Честное слово, иногда хочется сбежать на край света. Они кричат, что у нас самая подлинная свобода, какую только можно пожелать, а на самом деле что творится! Знаешь, почему из нашего лицея уволили профессора Охеду? Потому что ему предложили вступить в партию, а он отказался. Теперь вместо него прислали какого-то перониста, и мы его сразу же прозвали Карлом Вторым, потому что он глуп, как сеньор губернатор Алоэ…
Беатрис замолчала и несколько секунд разглядывала едва различимый выцветший рисунок на штофной обивке стен.
– Только вот так и можно, – сказала она, – взять и не думать ни о чем. А когда подумаешь, то просто противно становится жить. И сама себе становишься тоже такой противной, такой противной… Я вообще не знаю, что из меня получится в жизни, папа. У меня иногда вдруг появляется такое странное чувство, будто вообще никакого будущего для меня не существует…
Доктор Альварадо посмотрел на дочь с тревожным изумлением:
– То есть, Дора?
– Ну, ты понимаешь, как будто я стою перед какой-то стеной, а за ней ничего нет. Вообще ничего. Может – быть, это тоже от возраста? Может быть, я настолько не знаю еще жизнь, что просто не могу ничего себе представить? Ведь строить планы на будущее – это значит как-то представлять его себе. А я не представляю. С тобой тоже так было?
– Боюсь, что нет, молодость отличается скорее обилием планов на будущее… Дора, ты меня удивляешь. Такие настроения в семнадцать лет…
Доктор Альварадо помолчал, потом кашлянул.
– Я хотел бы задать тебе не совсем скромный вопрос…
– Да, я слушаю…
– Скажи, ты уверена, что у тебя серьезное чувство к Франклину?
– Конечно! – Румянец залил щеки Беатрис, но она не отвела глаз и кивнула с убежденным видом: – Мы любим друг друга, папа, я ведь говорила тебе… – Она запнулась и продолжала после секундного колебания. – Если хочешь, я дам тебе прочитать его письма…
– Спасибо, дорогая, не надо. Но послушай, как же это получается? Где это видано, чтобы любящая девушка не видела впереди ничего, кроме какой-то стены? Что это за любовь, Дора?
Беатрис молча пожала плечами. Доктор Альварадо встал и прошелся по комнате, похрустывая пальцами, потом снова сел.
– Мне было и приятно, и горько тебя слушать, моя девочка, – сказал он. – С одной стороны, я горжусь тем, что сумел в какой-то степени внушить тебе отвращение ко лжи и непримиримость к отрицательным явлениям действительности: Это делает тебе честь, Дора. Но дело, видишь ли, вот в чем. Подобное мироощущение обязывает человека либо активно бороться за нечто лучшее в крупном масштабе, как это делают политические деятели, мужчины, либо пытаться организовать свою жизнь и жизнь окружающих тебя людей так, чтобы в ней были наиболее полно воплощены твои идеалы. Это путь женщины – жены, матери. Но просто опускать руки, заранее отказываться от всякой борьбы за счастье…
– Я же тебе говорю, папа, – быстро и убежденно заговорила Беатрис, почему-то понизив голос, словно сообщая тайну, – жить на свете очень противно. Просто не хочется видеть все, что творится. И даже думать об этом не хочется! Конечно, ты можешь спросить, как это мы вообще можем еще учиться, и бегать по кино, и танцевать буги, – но это уж так получается, не будешь же сидеть все время с мрачным видом! Но думать сейчас нельзя. Сейчас все стало страшно сложно и страшно противно, ты же сам видишь. Вся жизнь стала какой-то сложной. Конечно, я люблю Фрэнка, и он меня тоже любит, но все равно – в будущем не уверены ни он, ни я. Во-первых, он до сих пор без работы…
– Ты ведь говорила, что он устроился?
– Оказалось, что это шестимесячный контракт! Он уже так работал у «Нортропа» – год работал, и потом его преспокойно выставили. Это абсолютно никакой гарантии, ты понимаешь? Контракт могут возобновить, а могут и не возобновить. Кстати, срок истекает в этом месяце… Это одно. И вообще я теперь вовсе не знаю, смогу ли я получить визу. Говорят, что теперь это станет еще сложнее, даже для вступающих в брак. Ну, и всякие такие мерзкие вещи. Как же ты хочешь, папа, чтобы я смотрела на будущее и радовалась?
– Помилуй, неужели раньше молодые люди вступали в жизнь, видя перед собой одни удовольствия? Каждая эпоха имеет свои трудности, уж поверь мне…
– Ох, папа, я все это знаю, но такого противного времени, как наше, еще не было. Сейчас все по бумажкам, все по талонам! Если бы у меня были деньги и я захотела бы поехать в гости к Фрэнку, ты думаешь, меня пустили бы? Мне пришлось бы полгода ходить в консульство, чтобы мне разрешили увидеться с собственным женихом. Разве это жизнь, папа? Мало того – сейчас у нас уже даже заграничного паспорта не получишь. Двоюродный брат Альбины хотел съездить в Европу, по делам, так его в полиции несколько месяцев водили за нос и свидетельства о политической благонадежности так и не выдали, а без этого свидетельства о паспорте нечего и думать.
– Вот как… – задумчиво протянул доктор Альварадо, снова встав и принимаясь ходить по комнате. – Одним словом, вы дошли до крайней степени отрицания. До той степени, при которой даже уже нет стремления сделать хоть что-то для того, чтобы исправить положение вещей.
– Ты смешной, папа. Что же я должна делать – выйти на улицу и кричать «Долой Перона!»?
– Ты понимаешь мои слова слишком примитивно, Дора.
Беатрис вздохнула и, отвернувшись к спинке кресла, провела пальцем по завиткам резьбы.
– Единственное, что осталось, – упрямо сказала она, – это музыка, и еще стихи. Я вот с большим удовольствием перечитываю Бекера и Эспронседу. Ну и потом дружба – с людьми и с животными. А все остальное… – Она сделала гримаску и снова повернулась к отцу.
– Целая программа, – улыбнулся доктор Альварадо. – Что Ж, дорогая, в семнадцать лет это простительно. Вы странные люди – с одной стороны, вас уже ничем не удивишь, читаете вы совершенно недопустимые по возрасту книги, Фрейда ты, очевидно, прочитала уже год назад, а с другой стороны, какая-то странная инфантильность, какая-то совершенно необъяснимая наивность. Твоя бабка в семнадцать лет была замужней женщиной, хозяйкой эстансии. А ты – разочарованность в жизни, Бекер, дружба с животными. Все это хорошо, но пора ведь и становиться взрослым человеком…
– Папа, ты просто не понимаешь… Вся беда в том, что именно в этом я кажусь себе иногда слишком взрослой. Я не знаю, как это получается. Я и сама хотела бы воспринимать многие вещи гораздо проще, что ли.
– Знаешь, Дора, – помолчав, осторожно сказал доктор Альварадо, – мне кажется, во всем этом большую роль играет твоя религиозность. Я всегда считал, что самое ценное в человеке – это умение привести свои чувства в гармоничное равновесие. У тебя, по-видимому, это равновесие нарушено… Отсюда такое крайнее, болезненное отвращение к тому, что ты видишь вокруг себя. Я почти раскаиваюсь, что твое образование началось в конвенте… Очевидно, эти пять лет у сестер не прошли для тебя даром.
Беатрис вскинула брови:
– Не понимаю, папа! Что плохого мог дать мне конвент? Конечно, монашки были вовсе не святые, и вообще многое там шло совсем не так, как нужно, но все-таки…
– Совершенно верно, я – в принципе – не отрицаю, что монастырские школы дают много хорошего. Все дело в личности ученика, Дора. Может быть, тебе полезнее было бы учиться в светской школе. Кстати, какие у тебя сейчас отношения с падре Гальярдо?
– О, это удивительный человек, папа… Ты не можешь себе представить, что это за человек… В нем чувствуется такая огромная внутренняя сила, что иногда делается просто страшно… Ты знаешь, с тобой я могу спорить и возражать тебе, и вообще защищать свою точку зрения, если ты с ней не согласен. А вот с падре Франсиско это совершенно исключено. Он может одной фразой буквально разбить в пыль все мои доводы, как бы долго я их перед этим ни обдумывала, и сразу начинаешь ощущать свое – как бы это сказать – ну, свое умственное бессилие, что ли…
Доктор Альварадо нахмурился и побарабанил пальцами по подлокотнику.
– И это доставляет тебе удовольствие? – спросил он, искоса глянув на дочь. – Тебе нравится быть в состоянии интеллектуальной подчиненности? Избавляет от досадной необходимости думать, не правда ли?
– Я… Я не боюсь думать, – тихо сказала Беатрис. – И потом, это подчиненность не ума, а скорее души… Ты же знаешь.
– О да! – Доктор развел руками с ироническим видом. – Еще бы! Духовное руководство, воспитание молодежи в принципах христианской морали. Весьма похвально – в теории! Но когда ваш молодежный журнал по указанию падре Гальярдо публикует пастырское послание Фрэнсиса Спеллмана к этим корейским убийцам – это уже, дорогая моя, руководство не только духовное! И ни у кого из вас – интеллигентной молодежи, студентов! – ни у кого не возникло даже мысли о том, насколько это чудовищно…
– Прости, папа, – не поднимая глаз, все так же тихо, но твердо сказала Беатрис, – я не считаю возможным обсуждать этот вопрос… с тобой или с кем бы то ни было. Для меня любой спор такого рода решается авторитетом церкви, а значит…
– О-о, Иисус-Мария! – простонал доктор, взявшись за голову. – Значит – что?! Значит, что ты до сих пор не научилась думать, вот что это значит! И если завтра падре Франсиско Гальярдо заявит тебе, что по последним научным данным Земля все же оказалась плоской и на трех китах, то ты смиренно потупишь глазки и ответишь: «Да, падре, разумеется»! Черт побери, Дора!
– Папа, – укоризненно сказала Беатрис.
– Прости, – спохватился тот и снова закричал: – Но ведь это и в самом деле неслыханно, согласись! Всю жизнь бороться против предрассудков и на старости лет обнаружить, что твоя собственная дочь превращается в обскурантку!
– Какая же я обскурантка? – засмеялась Беатрис, пытаясь обратить в шутку уже начавший тяготить ее разговор. – Мне остался всего один год лицея, я уже усвоила всю классическую премудрость и еще собираюсь в университет. Доктора[27]27
Doctora – в Латинской Америке обращение к женщине, имеющей докторскую степень.
[Закрыть] Д. Б. Альварадо, дипломантка факультета философии и литературоведения! Звучит?
Отец махнул рукой:
– Нет, с тобой невозможно говорить всерьез. А в общем, могу сказать лишь одно: жизнь не так уж безнадежно запутана, как тебе кажется. Но главное, Дора, – тот путь, который сейчас представляется тебе самым верным, он ведь ничего не упрощает.
– Какой путь? – тихо спросила Беатрис.
– Путь бегства от жизни. Ты хочешь сейчас просто убежать от нее, от той ответственности, которую она на тебя налагает. Ты пытаешься укрыться от жизни за своим подчеркнутым отвращением к действительности, за стихами Бекера, за музыкой, наконец, за своим падре Гальярдо…
– Папа, ты ошибаешься, – сказала Беатрис так же тихо.
– Нет, Дора!
Доктор Альварадо поднялся и подошел к дочери. Беатрис быстро посмотрела на него снизу вверх и принялась разглядывать свои ногти, коротко остриженные и покрытые бесцветным лаком (яркий маникюр был в лицее запрещен).
– Нет, не ошибаюсь! Знаешь, что влечет тебя к падре? Возможность получить готовый ответ на любой вопрос. Но смотри, Дора, это опасный путь! Очень опасный, и он может привести тебя к тяжелому конфликту. Учти одно, девочка: ты вообще не из тех, кто может жить по указке. Женщины в нашей семье часто отличались очень своеобразным характером, я бы сказал… – Он замялся, подыскивая правильное определение. Беатрис сидела, опустив голову. – Я бы назвал его вулканическим характером, способным на совершенно неожиданные, м-м-м… взрывы. Надеюсь, ты меня понимаешь. А такие натуры, Дора, больше всего нуждаются в умении управлять своими поступками и принимать самостоятельные решения. Если такую натуру искусственно законсервировать и заставить жить по чьим-то указаниям, то рано или поздно произойдет катастрофа. Подумай об этом, пока не поздно!
– Да, папа, – совсем тихо ответила Беатрис.
Доктор Альварадо вернулся в свое кресло. С минуту в комнате стояла тишина, потом Беатрис сказала:
– Я совсем забыла… Вчера вечером звонил Мак-Миллан, он предлагает мне работу…
– Джозеф – работу? – Доктор недоуменно приподнял брови. – Тебе?
– Временную работу, папа, с первого января до конца марта. Его секретарша берет трехмесячный отпуск за свой счет, и он предлагает мне заместить ее на это время…
– Глупости, Дора, летом нужно отдыхать.
– Ничего не глупости, папа! Что тут такого? Ничего сложного, нужно только знать стенографию и машинку, и он говорит, что работать я буду не полный день – как мне удобнее, или утром, или после обеда. Ему все равно. И он предлагает пятьсот песо в месяц. Почему не заработать полторы тысячи? Фрэнк, когда учился, каждое лето работал – то барменом, то мойщиком автомобилей… В Штатах все студенты так делают. Папа, вон на столе зеркало – будь добр, передай… Мерси… Я ему определенно не ответила, обещала посоветоваться с тобой и позвонить. Каникулы начинаются в конце ноября, еще успею провести в Альта-Грасиа целый месяц…
Доктор Альварадо молчал. Тщательно расчесав щеткой волосы, Беатрис собрала их на макушке в длинный пучок и скрепила зажимом.
– Вот и готов «лошадиный хвост», – объявила она, искоса глядя на свое отражение в профиль. – Или, как более элегантно называют это англичане, «хвост пони». Но я все-таки не понимаю, почему ты против того, чтобы я поработала…
– Дора, у тебя нет возможности жить так, как живет большинство твоих подруг. – Доктор Альварадо вздохнул. – И если тебе еще придется работать во время каникул, то эту разницу ты почувствуешь скорее, чем мне бы хотелось.
– Неужели ты думаешь, я ее до сих пор не чувствовала? Мой сеньор, вы слишком дурного мнения о вашей дочери… Я прекрасно знаю, что если бы ты согласился вести себя так, как это делает большинство твоих коллег, то мы жили бы совершенно иначе. Ну, например, если бы ты тогда согласился выступить с реабилитацией Росаса… Конечно, хорошо иметь много денег, но еще лучше, когда тебя уважают, как сказал нищий, сидя в колодках. Так ты разрешишь мне работать у Мак-Миллана?
– Посмотрим, Дора, посмотрим, – уклончиво ответил доктор. – Я с ним поговорю. Если он не станет перегружать тебя работой…
– Конечно, нет! Он обещал, что не станет, да я и сама не дамся, – засмеялась Беатрис.
Внизу позвонили. Беатрис вскочила с места.
– Если это молодой Ретондаро, пусть пройдет ко мне, – сказал отец, выходя из комнаты вместе с нею.
Это и в самом деле оказался Пико.
– Ола, Дорита!
– Салюд, мой Пико. Ты к папе?
– А если к тебе?
– Во-первых, кабальеро, я занята: мне нужно мыть посуду. Во-вторых, сеньорита Люси ван Ситтер слишком ревнива, чтобы я рискнула принимать ее жениха.
– Responsio mortifera[28]28
Убийственный ответ (лат.).
[Закрыть] – кивнул Пико. – Ни слова больше, Дорита. Итак, доктор Альварадо…
– Ждет вас в своем кабинете, мой сеньор, – присела Беатрис, взявшись за края юбки.
– Ты меня проводишь?
– Наверх и налево, мимо книжных шкафов, потом будет такой низкий ларь и сразу за ним папина дверь. Я же сказала, мне некогда!
– Любезно, любезно, – сказал Пико, направляясь к лестнице. Потом он обернулся. – Экзамены скоро?
Беатрис сделала большие глаза:
– Ой, лучше не напоминай! Иди, папа тебя ждет, после поговорим.
Пико ушел – в очках, с большим портфелем под мышкой, солидный, как и полагается будущему адвокату. Беатрис убрала в кухне, помыла посуду и вернулась в свою комнату. Через минуту зазвонил телефон. Беатрис взяла трубку:
– Ола… Норма? Добрый день, дорогая… Нет, сегодня ничего. А что? О-о, это интересно… Да, я с удовольствием, спасибо… А кто еще будет? Ну хорошо, Норма… Ладно, через час. Угу, до скорого…
Отойдя от телефона, она постояла в нерешительности и отправилась в кабинет отца. Еще из-за двери она услышала его голос, ровный и неторопливый, – голос человека, привыкшего говорить с кафедры. Тихонько приоткрыв тяжелую дверь, Беатрис проскользнула в комнату и уселась в углу, словно опоздавшая на урок ученица. Ни отец, ни Пико не обратили на нее внимания.
– …Проблема далеко не новая, Ретондаро, – продолжал говорить доктор, – далеко не новая. В Аргентине ей уже больше ста лет. Вспомните разногласия в лагере унитариев по вопросу франко-аргентинских отношений, и в частности по вопросу французского вмешательства в войну против Росаса. Там столкнулись именно эти две концепции – одни считали возможным поступиться частью национального суверенитета во имя уничтожения диктатуры, другие утверждали, что никакое положение дел внутри Республики не оправдывает сговора с иностранцами. Обе стороны были по-своему правы, и это до сих пор остается чрезвычайно трудным вопросом. Что касается меня, то я считаю, что наивысшей ценностью является все же совокупность гражданских свобод – слова, печати, собраний и так далее – и что при любых обстоятельствах преступно и самоубийственно жертвовать ими во имя узко понимаемого национализма. Вспомните – фашизм начинал именно с этого… К сожалению, он овладевает в наши дни все большим количеством сердец…
Доктор Альварадо замолчал и потянулся к ящику с сигарами. Воспользовавшись паузой, Беатрис появилась из своего угла.
– Папа, прости, я хотела спросить – звонила Норма, она едет обкатывать свою машину и приглашает меня. Ты разрешишь? Куда-нибудь в Палермо, ненадолго.
– Хорошо, Дора, – кивнул доктор, закуривая сигару. – Если обещаешь, что не будете гнать больше сорока.
– А. мы вообще не будем править, она и сама боится – на незнакомой машине. Она пригласила знакомых мальчиков, один из них член Автомобиль-клуба, он и поведет.
– У Линдстромов новая машина? – заинтересовался Пико. – Уже третья?
– Норме подарили «фиат-миллеченто». Вы тоже уезжаете?
– Да, нам, очевидно, пора, – ответил отец. – К какому часу нас ждут, Ретондаро?
– К двенадцати, доктор, – ответил тот, взглянув на часы, и поднялся.
– Папа, когда приготовить ужин? Мне обещали прислать рыбу.
– Ну… Точно не знаю, Дора, часам к десяти-одиннадцати. Вы поужинаете с нами, Ретондаро?
– Благодарю за приглашение, доктор, но сегодня я обещал быть с мамой в театре, – смутился Пико.
– О, в таком случае… – Доктор улыбнулся и развел руками. – Итак, Дора, мы тебя покидаем. Будьте осторожны, вчера было страшное столкновение на авениде Альвеар, в двух квадрах отсюда.








