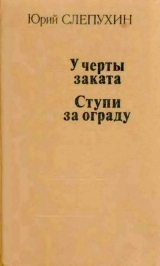
Текст книги "У черты заката. Ступи за ограду"
Автор книги: Юрий Слепухин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Конечно, шери. Я буду не только звонить, но и приезжать в гости, – пошутил Жерар, прикрыв рукой ее пальцы. – А то вдруг возьму и через неделю-другую приеду совсем… Кто знает?
Вернувшись в опостылевшую квартиру Аллана, он походил по тихим комнатам, окинул враждебным взглядом сваленные в ателье холсты и завалился с трубкой на диван.
Вечером он снова отправился бродить по окраинам, что в последнее время привлекало его все больше и больше, хотя никаких конкретных целей он в этих прогулках перед собою не ставил. Просто ему нужно было находиться среди людей, и с некоторого времени ему стало интереснее быть в толпе именно здесь, на заводских окраинах столицы, чем в ее центральных кварталах – вылощенных и почти лишенных национального колорита.
Протискавшись к выходу из душного, битком набитого троллейбуса, Жерар выбрался наружу. В конце улицы, над плоскими крышами, над паутинным сплетением проводов и решетчатыми каркасами рекламных сооружений, гасло небо странного зеленовато-медного цвета. Посверкивая голубыми искрами, ушел троллейбус, разошлись вышедшие вместе с Жераром пассажиры, и он остался один на незнакомой улице незнакомого города, под дрожащими звездами весеннего вечера.
Он прошел квартал, другой, третий. Вокруг было безлюдно – в этот час мужья возвращались с работы, и женщинам некогда было болтать на улице с соседками или бегать по лавкам. Из раскрытых дверей доносились запахи стряпни – пахло горелым маслом, жареным мясом или рыбой, горьковатым дымком древесного угля; в этих кварталах многие готовили по старинке – на жаровне с углями.
Два мира, два совершенно разных города: этот – и тот, другой, расчерченный зеркальными авеню, мертвенно озаренный пляшущими вспышками неона, отравленный грохотом джаза и алкоголем. Впрочем, это ведь всюду и везде; ту же картину он видел и во Франции, там тоже существует не менее резкое разделение двух миров. И если этот факт реально существует, если им определяется большинство явлений в окружающей тебя жизни, то может ли проходить мимо него искусство – искусство, призванное отражать жизнь? И какую вообще жизнь призвано отражать искусство – жизнь чего? Жизнь природы? Жизнь человека? Или жизнь определенных идей, стоящих выше человека и руководящих его поступками? «Отъезд из Вокулёра» ты писал во время оккупации, и для тебя это была не пастушка Жаннет из Домреми, относительно которой до сих пор идут споры, была ли ее фамилия д’Арк, д’Акс или просто д’Э; это было воплощение идеи патриотизма, идеи борющейся Франции. Это было то, что позже стали называть «ангажированным» искусством. В те годы искусство и не могло быть другим. А сегодня?
Находившись до усталости и выйдя на более широкую торговую улицу, Жерар вошел в первую попавшуюся пивную. Обстановка была привычной – сизые пласты табачного дыма, опилки и шелуха арахиса на полу, засиженные мухами рекламы над стойкой, рядом с цветными портретами Гарделя и Легисамона. Подошедший мосо повозил по столику грязной тряпкой и вопросительно взглянул на посетителя. «Кофе-экспресс и двойную чизотти», – сказал Жерар, осматриваясь вокруг. Посетителей было много, большинство в рабочей одежде. Очевидно, зашедшие сюда по дороге домой – промочить глотку перед ужином, – они молча потягивали свое пиво, машинальными жестами бросая под усы зернышки арахиса. Усталость не располагает к болтовне, и лишь немногие изредка обменивались отрывистыми фразами; правда, в одном углу компания молодежи шумно обсуждала результаты воскресного матча на стадионе «Рэйсинг».
Мосо принес рюмку и маленькую, такой же вместимости, чашечку черного кофе. Жерар медленно, не отрываясь, вытянул до дна отвратительную на вкус виноградную водку, перевел дыхание и запил глотком кофе. Да, вот она – жизнь этих людей, составляющих большинство населения страны. Каторжная работа изо дня в день, пивная по вечерам и футбол по воскресеньям. Так живет большинство в этом благословенном мире с бесшумными «кадиллаками» и скоростными лифтами. Так кому же нужно сейчас твое искусство – такое, как ты его до сих пор понимал? Ни тем, ни этим… Те уже пресыщены, тем нужен эпатаж, а этим – этим если и нужно какое-то искусство вообще, то это должно быть совершенно принципиально иное искусство…
Жерару вспомнились вдруг давние споры на эту тему – еще там, дома, во время войны. Он тогда считал – и рьяно доказывал, – что искусство не должно, не имеет права ограничивать себя узко понимаемыми социальными, утилитарными задачами, что его цели – цели искусства вообще – шире, свободнее, выше любых соображений сегодняшнего момента. Но странная ирония судьбы: лучшую свою вещь, «Отъезд», он написал именно тогда, когда чувствовал себя – да и был на самом деле! – полностью «ангажированным», когда никакой свободы не было и в помине. Разве не узкой, не утилитарной была тогда задача, стоявшая перед всеми французами, – задача раздолбать бошей? И разве не она подсказала ему тогда тему – напомнить Франции о ее славе?
Беба быстро подружилась с кухаркой, доньей Марией, веселой толстой чилийкой, и часто коротала время у нее на кухне, помогая чистить какую-нибудь зелень и слушая бесконечные рассказы о землетрясениях. Еще охотнее она возилась бы в саду, где было еще много работы, но садовника она почему-то побаивалась. Однажды она заметила на себе его внимательный взгляд из-под кустистых седеющих бровей и с тех пор никак не могла отделаться от ощущения, что дон Луис видит ее всю насквозь и ничего хорошего не находит.
Этот спокойный, молчаливый человек отпугивал ее своей сдержанной суровостью – или тем, что она принимала за суровость, – но в то же время ее и тянуло к нему. Может быть, потому, что дон Луис чем-то отдаленно походил на ее отца, которого она знала по единственной выцветшей фотографии, датированной 1933 годом – годом ее рождения. Беба часто следила за доном Луисом из окон, когда он возился с высаженными за террасой черенками роз, или стриг газоны маленькой ручной мотокосилкой, или отыскивал гнезда термитов, посыпан их порошком инсектицида; ей всегда хотелось подойти к нему и заговорить, но она не решалась.
Распорядок жизни на кинте был деревенским. Утренний кофе Беба пила обычно у себя в спальне, часов в девять. Кухарка и дон Луис завтракали раньше. Обедали в двенадцать, все вместе, на кухне; первые дни Беба с Жераром ели в столовой, за огромным старым столом полированной каобы, но после его отъезда она махнула рукой на условности и перебралась в кухню, благо та содержалась доньей Марией в идеальной чистоте.
С часу до трех обитатели «Бельявисты» погружались в традиционную сиесту, в пять пили кофе или матэ, после чего Беба обычно сажала в машину Макбета и уезжала с ним на прогулку; к девяти все опять сходились на кухню к ужину. Потом дон Луис уходил к себе в служебный флигель, а Беба с помощью доньи Марии делала вечернюю уборку, и для нее наступало самое тоскливое время суток. Она либо устраивалась в шезлонге на террасе, глядя на догорающую за эвкалиптами зарю, либо, не включая света, бесцельно бродила по комнатам в сопровождении неотступно следовавшего за нею Макбета. Мышастый дог, со своими человеческими глазами и гладким, как у нечистого, хвостом, с первого дня появления на кинте прочно подружился со всеми ее обитателями, но явное предпочтение оказывал молодой хозяйке. Днем, отдавая дань возрасту, Макбет носился по саду и оглушительным басовитым лаем отвечал на выговоры дона Луиса, зато вечерами он вспоминал о приличествующем догам достоинстве и проводил время с хозяйкой, бродя за нею по пятам и то и дело стараясь заглянуть в лицо.
Макбету можно было рассказывать о своих делах, но ждать от него советов не приходилось, и вообще его общества было для Бебы явно недостаточно. Она ходила из комнаты в комнату, пробуя чем-нибудь заняться, и ничем не могла отвлечься от своих невеселых мыслей.
Слушать радио тоже не хотелось. Жерар звонил каждый день, иногда утром, иногда после обеда, спрашивал о самочувствии, о делах на кинте, о поведении Макбета, и каждый раз обещал скоро приехать. Все это он говорил своим обычным тоном – ласковым и предупредительным. И совершенно лишенным той самой теплоты, которой ей так недоставало в эти одинокие весенние вечера, наполненные тоской и неумолкающим шелестящим шепотом эвкалиптов.
В один из таких вечеров Беба вышла побродить по саду и возле служебного флигеля увидела садовника, который сидел у дверей на опрокинутом ящике, покуривая свою неизменную сигарку; именно этот красный огонек, то гаснущий, то разгорающийся, привлек ее внимание, заставив подойти поближе.
– Добрый вечер, дон Луис, – тихо сказала она и вдруг спросила, поборов всегдашнюю робость. – Можно мне посидеть здесь с вами?
– Добрый вечер, сеньора, сейчас вынесу стул, – ответил тот, не удивившись, будто ожидал этого визита.
Он затоптал окурок и поднялся.
– Спасибо, не нужно, дон Луис, – быстро сказала Беба, – тут есть еще один ящик, я сяду на него.
– Осторожно, там могут быть гвозди, – сказал садовник, садясь на место.
Беба провела ладонью по шероховатым доскам и тоже села. Пришедший с ней Макбет ткнулся носом в плечо Луиса, шумно фыркнул и свалился на землю, зазвенев кованым ошейником.
– Вы еще не идете спать, дон Луис?
– Посижу еще, очень уж вечер хороший.
Беба погладила Макбета по голове и откинулась назад, обхватив руками колени. В тишине тонко прозвенел комар.
– Скоро появятся москиты, – вздохнула Беба, – сейчас, наверно, еще рано… В ноябре их будет уже полно.
– Здесь не будет, – отозвался из темноты дон Луис. – Место здесь высокое и эвкалипты кругом. Москит этого дерева не любит, он его запаха не переносит.
– О, я и не знала…
Беба запрокинула голову и стала разглядывать звезды.
– Вы умеете определять созвездия, дон Луис?
– Нет, сеньора, по правде сказать, никогда этим не занимался.
– Вот и я тоже не умею. Я знаю только Южный Крест… И потом мне показывали еще одно – такое маленькое, кучкой, блестящее-блестящее… Забыла, как оно называется, сейчас я его почему-то не вижу… Дон Луис, а вы думаете, что летающие тарелки действительно прилетают с Марса?
– Сказки это, сеньора. Кто их видел, эти тарелки?
– Ну почему, – оживилась Беба, – в Соединенных Штатах часто их наблюдают, почти каждую неделю!
– Если сосать столько виски, как это делают янки, то и похуже вещи можно наблюдать. И морскую змею можно увидеть, не то что летающую тарелку. Верно, Макбет?
В ответ Макбет нервно зевнул и завозился в темноте, звеня ошейником.
– Сеньора, я когда договаривался с доном Херардо, то он сказал, что не станет возражать, если мне иногда придется съездить в город по своим делам в будни. С вашего позволения, я взял бы себе свободных полдня завтра, после обеда. Мне нужно встретиться с адвокатом, у меня там маленькая тяжба с моим прежним патроном… из-за невыплаченного увольнительного пособия.
– Пожалуйста, дон Луис. Постойте, а завтра какой день?
– Четверг, сеньора, пятнадцатое.
– Четверг! Тогда мы едем вместе, дон Луис, я совсем забыла о своем парикмахере. Позже он меня уже не примет, перед самым праздником. В котором часу вам нужно быть в городе?
– К двум, к трем, сеньора, это не так точно.
– Поедем сразу после обеда, – кивнула Беба.
На другой день они выехали из «Бельявисты» около двух часов. Беба довела машину только до Мерло, где испугалась встречных грузовиков и смочившего асфальт короткого дождя и передала управление дону Луису. В три они были уже в центре. Дон Луис помог Бебе поставить машину в подземный паркинг на авеню Карлос Пеллегрини и отправился по своим делам. Беба позвонила Жерару, но его, по-видимому, не было дома, так как на звонки никто не ответил; позвонила в парикмахерский салон, чтобы договориться о часе приема, но и тут ее ждала неудача – ей ответили, что мсье Антуан чрезвычайно сожалеет, но никак не может принять мадам ни сегодня, ни вообще на этой неделе, поскольку мадам не договорилась заранее; если мадам угодно записаться на любой день после семнадцатого, то…
Беба не дослушала, с размаху нацепила трубку на рычаг и вышла из кабины надувшись. «А в общем, я сама виновата, – сказала она себе через минуту, – какая же дура не знает, что перед праздниками нужно записываться за две недели… Да и потом, если уж прямо говорить, какой это праздник!» Подумаешь 17 Октября! Не такая уж она пламенная перонистка, чтобы всерьез готовиться к партийному празднику…
Привычная городская суета вернула ей хорошее настроение. Пожалуй, это даже и лучше, что так получилось, – по крайней мере, некуда спешить. Погода стояла отличная, свежий pampero[22]22
Южный ветер.
[Закрыть] умерял жару, на теневой стороне улицы было даже прохладно; Беба чувствовала на себе взгляды мужчин, чувствовала, как ловко сидит на ней новый светло-серый тальер и как он ей к лицу с этим букетиком фиалок на лацкане – под цвет ее глаз.
Беба прошлась по Лавалье, «улице кино», изучила анонсы, купила у разносчика пакетик засахаренных орешков – простонародное лакомство, которое всегда казалось ей самым вкусным в мире. Будь это прилично, она принялась бы грызть их прямо на улице, на виду у всех. Впрочем, стоя перед витриной ювелиров братьев Пальмьери, она все же не утерпела, полезла в сумочку и выковырнула из целлофанового мешочка один орешек. Жуя его, она делала вид, будто во рту у нее просто резинка. Правда, при этом пострадала белая нейлоновая перчатка, пальцы которой испачкались липким коричневым сиропом; Беба подумала, махнула рукой на приличия и спрятала перчатки в сумочку. После этого она почувствовала себя еще лучше.
Почти час заняла прогулка по Флориде – не столько прогулка, сколько стояние перед витринами. Разглядывая разложенные за зеркальным стеклом соблазны, Беба испытала странное чувство. Было время, когда для нее покупка на Флориде даже полдюжины платочков была волнующим событием; теперь ей стало доступно очень многое из того, что она видела, во всяком случае, зайти в магазин и оставить там пятьсот или даже тысячу песо она вполне могла себе позволить. А желания сделать это почти не было. Собственно говоря, соблазны перестали быть соблазнами. Ну хорошо, лишняя пара туфелек, лишний гарнитур, лишняя пара клипсов. И что?
Дойдя до Авенида-де-Майо, Беба свернула по направлению к Конгрессу. На протяжении первого же квартала ей пришлось услышать не менее дюжины комплиментов; впрочем, не обязательно нужно было быть красавицей, чтобы получить их на этой улице – самой испанской во всем Буэнос-Айресе. Даже чумазый мальчишка-чистильщик и тот во всеуслышание сравнил ее с цветком, едва начавшим раскрываться, и выразил желание превратиться в колибри, чтобы помочь этому процессу. Потом с Бебой поравнялся пожилой кабальеро – элегантный, надушенный, с белой гвоздикой в петлице. Пройдя рядом несколько шагов, кабальеро искоса бросил на нее томный взгляд и прикоснулся к своей шляпе, одетой под тем точно рассчитанным углом, который отличает джентльмена от прощелыги.
– Блаженны глаза, созерцающие красоту! – воскликнул он. – Где я мог быть в тот момент, когда спустился с небес этот огненнокудрый ангел?
– Очевидно, в аду, мой сеньор, – отозвалась Беба, не удостоив его взглядом, – присматривали себе местечко…
Сказала это она совсем негромко, но человек с пачкой растрепанных книг под мышкой, только что обогнавший ее и элегантного кабальеро, очевидно, услышал ее голос и резко обернулся.
– Донья Элена! – воскликнул он, остановившись как вкопанный посреди тротуара. – Опять мы с вами встречаемся, что за черт!
– О-о, дон Хиль, – обрадованно сказала Беба, – добрый день, как поживаете? Действительно, нам везет на встречи! Откуда вы и куда?
– Я был там, за Кабильдо… у букинистов, – ответил дон Хиль, почему-то смущаясь. – Купил вот, видите. Нет, ничего интересного – одна медицина… Ну а вы, донья Элена?
Держа в охапке свои книги, он задал этот вопрос и вперил в Бебу такие глаза, что та опустила свои.
– Спасибо, дон Хиль, ничего… Смотрите, ваши книги сейчас рассыпятся – у вас нечем связать?
– Нет, разве что поясом – так штаны упадут, я без подтяжек. Донья Элена…
– Да?.. О, знаете, я придумала – сейчас зайдем в магазин и попросим веревочку! Идея?
– Гениальная, еще бы. Знаете, донья Элена…
– Ну, идемте. Я вас слушаю, дон Хиль. Да, а как ваши больные в Роусоне?
– Да как всегда – одни поправляются, другие наоборот. Донья Элена, я много думал о вас все эти два месяца…
– Правда? Я очень рада, дон Хиль.
– Радоваться тут нечему, – нахмурился Хиль. – Я и сам не радуюсь, вообще не хотел бы этого…
– Чего, дон Хиль? Я тоже часто думаю о своих знакомых – то одно, то другое… Или вы думали обо мне плохое?
– Да нет, как сказать… Разваливаются и в самом деле, будь они прокляты, – выругался Хиль, подхватывая на лету книгу.
– Дайте несколько штук мне, я понесу, пока найдем веревочку. Так какие у вас были мысли в отношении меня, сознавайтесь, дон Хиль? Плохие или хорошие?
Хиль отдал ей две толстые книги и с минуту шел молча. «Какой-то он сегодня странный, – подумала Беба, искоса поглядывая на него, – с чего бы это?»
– Я даже не знаю, как их назвать, – ответил наконец Хиль. – Понимаете, донья Элена, если бы вы оставались сеньоритой Монтеро, то эти мысли были бы хорошими, ничего такого в них бы не было. Но когда они появляются в отношении замужней женщины…
– …Постой, ты лучше не кричи и не бесись, – устало сказал Жерар. – На нас уже оборачиваются…
Он допил свой вермут и потянулся к блюдцу с соленым миндалем. Ему уже становился противен и горьковато-приторный вкус «чинзано», и этот никчемный спор, продолжающийся уже второй час, и – главное – сам его собутыльник и оппонент, сюрреалист Туха.
– Пусть оборачиваются, мне-то что, – сказал сюрреалист. – Я тебя не в тайный бардак зазываю, а веду серьезный разговор о проблемах искусства. Что ты хотел сказать?
Жерар задумчиво грыз миндаль, глядя в открытое окно бара через улицу – на оплетенную лесами громаду строящегося муниципального театра.
– Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что это и есть самый настоящий бардак… И не тайный, а явный, всем напоказ.
– Слушай, Бюиссонье, я тебя все-таки отказываюсь понимать. Что ты предлагаешь? Ладно, давай говорить спокойно. Тебе не нравится наш Сальвадор?..
– Нет, хотя некоторые вещи ему безусловно удаются. Например, «Искушение святого Антония» – кстати, я его видел в подлиннике. Так что сам Дали – это еще так-сяк… А вот вся ваша остальная банда…
– Ладно, скажем, тебе не нравится «вся наша банда». Что же ты предлагаешь? Вернуться к академизму? Ты вот упомянул об импрессионистах – а они не были авангардом? Они не отстаивали новые формы живописи, которые казались ересью старым сифилитикам из академии? Почему же Ван-Гог велик, почему Ренуар велик, почему самый поганый этюдик Сислея стоит сегодня целое состояние, а те, Кто продолжает поиски нового, ничего, по-твоему, не стоят?
Туха начал дрожать от ярости.
– Хорошо, допустим, – продолжал он, наклоняясь к Жерару через столик, – допустим, нам далеко до Манэ или Дега. Но ты не то хочешь сказать! Вовсе не то! Ты не говоришь: «Вы плохо делаете свое дело», ты говоришь: «Вы вообще занимаетесь не тем, чем надо!» Как же это так, Бюиссонье? Где же тут твоя хваленая логика? Импрессионисты были правы в своих поисках, а мы искать не имеем права! Или ты только за своими французами признаешь право идти в авангарде?
– Туха, ты дурак, – спокойно сказал Жерар.
– Или, по-твоему, в искусстве вообще не нужен больше прогресс? Дошли до какой-то черты – и баста! Что же мы теперь должны делать – копировать стариков, что ли?
– Если бы я знал, что мы теперь должны делать… – медленно сказал Жерар. Усмехнувшись, он покрутил головой и, навалившись на стол, бросил в рот зернышко миндаля. «Этот жест я где-то заимствовал», – тотчас же промелькнула мысль. Где? Ну конечно, в южных предместьях. В пивных Авельянеды, среди рабочих Тамета и Сиам-ди-Телла. Он покосился на фасад стройки напротив, по которому ползла вверх бесконечная цепь подъемника с подвешенными ковшами бетона.
– Если бы я знал, – повторил он усталым голосом. – К сожалению, я этого не знаю. Я знаю только, что мы с тобой просто паразиты. Любой пеон вон там, – он кивнул в направлении окна, – который подвозит песок к бетономешалке, что-то делает… что-то полезное, что-то такое, что останется для потомков. А мы…
– Дерьмо! – крикнул Туха. – Катись ты со своей полезностью знаешь куда! Старые разговорчики, Бюиссонье, сейчас этим уже никого не купишь. И не распинайся за всех! Ты можешь считать себя паразитом – твое дело, а мы будем вести искусство вперед. Как говорится, каждому свое!
– Вести искусство вперед? – задумчиво переспросил Жерар. – Что ж… На гребне сейчас вы, этого у вас не отнимешь. И я боюсь, Туха, что добром это не кончится. Ты бы лучше не вспоминал импрессионистов, если уж не способен увидеть разницу между ними и теперешним «авангардом». Ты даже не соображаешь того, что импрессионисты вели искусство от условности к жизни, а вы тащите его от жизни к условности. Да даже и не к условности… Какая там у вас к черту условность. Так, сумасшедший дом какой-то.
– Серьезно?
– К сожалению, Туха. И вот что я тебе скажу… Знаешь, ошибаться могут все… Я, например, вижу теперь, что и сам в чем-то ошибался, что-то проглядел, коль скоро публике на меня плевать. Ошибки, повторяю, бывают у всякого. А вот ты, Туха, ты и все ваши – вы просто самые настоящие преступники…
– Ага, даже так…
– Даже так. Вы ведете искусство по очень скверному пути, делаете его инструментом разложения… И ни к чему хорошему не придете, помяни мое слово. Кончиться это может очень скверно.
– Например?
– Я не пророк, Туха, и не собираюсь ничего предсказывать. Я знаю только одно: провозгласить смыслом искусства, его основной задачей отражение «сверхреальности» человеческого подсознания – это значит убить искусство. Или сделать его орудием убийства. Морального убийства, что, на мой взгляд, гораздо хуже физического. Весь этот ваш бред, замешанный на эротике…
Он поморщился и угрюмо замолчал.
– Ах ты мой чистый голубок, – сказал Туха, – эротика тебя шокирует?
– Нет, просто я не вижу, при чем тут искусство.
– Тем хуже для тебя! Тогда ты вообще не художник, а старая дура из Армии спасения. Эротические мотивы присутствуют в сюрреалистической живописи просто потому, что в подсознании половая сфера…
– Да знаю я, – отмахнулся Жерар, – что ты мне лекции читаешь. Читал я и Фрейда, и Юнга, и всех ваших апостолов. Но при чем тут искусство? – Он пожал плечами и потянулся за миндалем.
– Значит, ты собираешься воспитывать человечество, – ехидно сказал Туха. – Ну что ж, желаю успеха. А нам на это плевать! Мы исходим из основной предпосылки: человек никакому воспитанию не поддается, доминируют в нем животные инстинкты, и нет силы, которая смогла бы это изменить. Религия, социальные эксперименты – все это игрушки для дураков. Поэтому мы и отражаем внутренний мир человека таким, как он есть, без стыдливых недомолвок. А на твою «воспитательную функцию» мне плевать, я не учитель из приходской школы. Вот так.
– Понятно, понятно, можешь не продолжать…
Жерар закурил и с минуту молчал, следя за уплывающими в окно струями дыма.
– Все это мне давно известно, – сказал он наконец. – В том и беда, Туха, что искусство по-прежнему оказывает на людей большое влияние… И я просто боюсь думать о том, какие результаты может дать ваше. У меня сейчас одно утешение – что я, очевидно, сдохну раньше, чем смогу увидеть плоды вашей деятельности во всей их красе…
Он поднялся и подозвал мосо, чтобы расплатиться.
– Уходишь? – спросил Туха.
– Да, мне пора. И вот что я тебе скажу: оставляя в стороне личность, вы все – сволочи. Во что вы хотите превратить мир? Мало вам еще нацистских лагерей, мало вам Хиросимы?
Он сунул в карман трубку и, не попрощавшись, пошел к выходу.
Не нужно было вообще говорить с Тухой на эту тему, а уж спорить и подавно! У каждого свой вкус. Но почему этот болван решил, что он – Бюиссонье – вообще отрицает все авангардистские течения? Что за бред, черт побери. Как будто Пикассо не авангард, как будто не был авангардистом Ван-Гог, как будто Микеланджело не поносили за неканоничность «Давида»… Истинное искусство всегда творится авангардом – но опять-таки истинным, а не псевдо! Если Сезанн умышленно ломал перспективу, то это не значит, что сегодня любой неуч может объявлять свою мазню «новым словом» – у меня, дескать, тоже все вкривь и вкось…
В этом все и дело – слишком многие примазываются сегодня к авангарду. А поиск в искусстве должен быть настоящим поиском. В конце концов, тот же абстрактивизм сам по себе не обязательно плох… Ты можешь его не понимать, можешь пожимать плечами, но факт остается фактом – иногда известное сочетание фигур и красок, каким бы беспредметным оно ни казалось на первый взгляд, может отлично передать состояние человека, его восприятие окружающего, может затронуть очень глубокие струны в душе зрителя. Здесь живопись начинает уже действовать подобно музыке, вторгаясь непосредственно в область подсознательных эмоций и не вызывая зачастую никаких предметных представлений. Ты сам никогда не станешь писать в этой манере, но если у других это получается – и получается талантливо, – то почему бы и нет? Если уж отрицать эту форму искусства, то тогда нужно отрицать и многие виды музыки. Но сюрреализм, эта вывернутая напоказ душевная патология…
Хриплый рев музыки оглушил Жерара, он досадливо поморщился и оглянулся. Вынырнувший из-за угла автофургон с громкоговорителем на крыше медленно продвигался в потоке других машин, оглашая улицу бравурными звуками партийного гимна «Ребята-перонисты». Потом музыка оборвалась, и громкоговоритель заорал сорванным голосом:
– Граждане, друзья descamizados[23]23
Безрубашечники (исп.) – так называли себя приверженцы Перона.
[Закрыть], послезавтра – в День Верности – все на Пласа-де-Майо, на встречу с лидером! Генерал Перон выполняет свой долг перед вами – выполните ваш долг перед Пероном! Перон выполняет! Да здравствует Семнадцатое октября – День Верности, день единства народа и его лидера! Перонистская партия, единственная подлинно народная партия Аргентины, призывает всех честных граждан Республики еще теснее сплотиться вокруг Генеральной конфедерации труда и генерала Перона! Перон выполняет! Да здравствует Перон!
– Ола, Бюиссонье!
Кто-то с размаху хлопнул его по плечу. Жерар обернулся.
– А, еще один коллега. Салюд, Маранья. Как живешь?
– Ничего, старик. Почему – еще один? Ты кого-нибудь видел?
Снова загремел марш. Мужественный голос запел: «Мы ребята-перонисты, нас Перон ведет к победе, если нужно – жизнь свою мы за Перона отдадим…»
– Узнаешь голосок? – подмигнул Маранья вслед удаляющейся машине. – Уго Дель-Карриль, звезда экрана. Да, можешь говорить что хочешь, а парень одной этой пластинкой сделал себе состояние – и политическое, и в звонкой монете. Ну, черт с ним. Так кого из наших ты встречал?
– Почти два часа просидел с Тухой, – усмехнулся Жерар, – Тебе куда, к Обелиску? Пошли.
– А-а, маэстро Орасио Туха, восходящее светило сюрреализма. Два часа, говоришь? Я с ним десяти минут не выдерживаю. Бюиссонье! Я всегда был другом Франции. Веришь?
– Верю.
– И горячим, восторженным поклонником французского искусства – во всех его видах и жанрах, от Расина до «Мулен-Руж»…
– Не продолжай, я уже уловил твою мысль. Сколько тебе нужно, восходящее светило ташизма?
– Пятьсот? – неуверенно спросил Маранья.
– На твое счастье, такая сумма у меня наберется.
– Правда? Вот это мужской разговор! Думаю, что к Новому году смогу вернуть.
– Только не нужно уточнять, к какому именно. Держи, старина.
– Мерси, – небрежно поблагодарил Маранья, засовывая деньги в верхний кармашек пиджака, где порядочные люди обычно носят платок. – Чем же мне тебя отблагодарить?.. А, знаю! Скажи-ка, Бюиссонье, ты эстет?
– Утонченный, parbleu! Сплошные эмали и камеи. А что такое?
– Если хочешь получить подлинное эстетическое наслаждение, шпарь бегом на Авениду-де-Майо. Где галерея «Риго», знаешь? Там рядом кафе – так вот, за крайним столиком сидит самая феноменальная девочка федеральной столицы! Я ее немного знаю, раньше она бывала в нашем змеятнике, но что-то давно там не показывается. Наверное, хорошо пристроена. Это что-то совершенно… – Маранья коротко простонал, зашатался и, закатив глаза, поцеловал кончики пальцев. – Пойди взгляни на нее! Посмотри на ее волосы и, если ты решишь, что они крашеные, можешь разыскать меня где хочешь и плюнуть мне в глаза. Или отобрать назад пятьсот национальных.
– Ты имеешь в виду рыженькую Монтеро, натурщицу?
Маранья прервал свои восторги:
– Ты ее знаешь?
– Немного. Прости, старина, я пошел…
– Куда? Да ты погоди…
Но Жерар уже торопливо шел по улице, расталкивая прохожих. Едва услышав, что Беба здесь, в городе, он сразу же понял, как хочется ему сейчас побыть с ней. Даже ни о чем не говорить. Просто посидеть рядом, слушая ее милую болтовню о пустяках. Это было ему сейчас просто необходимо – сейчас, после разговора с Тухой, оставившего в душе мутный осадок какой-то безнадежности, после встречи с автофургоном субсекретариата пропаганды, после разнузданного хриплого рева из репродуктора и бодрого пения Дель-Карриля…
Подходя к кафе возле галереи «Риго», он издали увидел головку Бебы. Она сидела к нему спиной, в своем сером костюме; столик был одним из крайних, и солнце, начиная опускаться к куполу Конгресса, уже забралось под тент, ослепительно осветив ее волосы. Она была не одна – напротив сидел незнакомый Жерару молодой человек с ястребиным худым лицом типичного южноамериканского склада. Юноша – «Жерару он показался очень молодым, лет двадцати пяти, не больше, – говорил что-то быстро и негромко, не спуская глаз со своей визави. Беба сидела в немного напряженной позе, выпрямившись и, судя по повороту головы, глядя куда-то в сторону. Едва увидев все это, Жерар почему-то сразу понял, что между Бебой и незнакомцем происходит какое-то объяснение.
Конечно, разумнее было бы уйти, но он, сам не зная для чего, медленно подошел к столику. Почувствовала ли Беба его присутствие или просто перехватила раздосадованный взгляд своего собеседника, но она обернулась и ахнула:
– Херардо!
– Рад тебя видеть, шери… – Он коснулся губами ее щеки и бросил вопросительный взгляд на незнакомца.
– Ах да… Вот, познакомьтесь – мой муж… Доктор Ларральде…
Мужчины обменялись рукопожатиями, Жерар придвинул к столику еще одно плетеное кресло и сел.
– Охотно составил бы вам компанию, но у меня деловая встреча, буквально через полчаса…
Эта ложь получилась как-то экспромтом, сама по себе. Именно в тот момент, когда он догадался, что его приход был неуместен.
– Ты… Тебе нужно идти? – растерянно спросила Беба, видимо не зная, что сказать. – Я тебе звонила сегодня, телефон не ответил…








