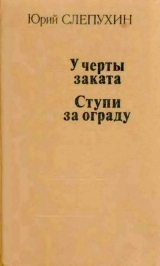
Текст книги "У черты заката. Ступи за ограду"
Автор книги: Юрий Слепухин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
После венчания пришлось еще вытерпеть прием в доме родителей невесты. Беатрис видела, что молодые люди не нашли в столичной гостье ничего интересного; она сразу почувствовала это по тому преувеличенному и злорадно-соболезнующему вниманию, каким окружили ее подружки. Ну и пусть. Она и так знает, что не обладает ни умом, ни красотой, вообще ничем. И ничего этого ей не нужно! Клипсы она выбросила, и уж во всяком случае никогда в жизни не позволит себе кокетничать, как это делают Глэдис и Энкарнасьон…
Наконец молодые уехали, осыпанные пригоршнями риса и провожаемые грохотом старых кастрюль и жестянок, привязанных к заднему бамперу их машины. Чтобы все было как полагается, вслед им швырнули еще несколько стоптанных башмаков.
– Девочка, что с тобой происходит? – спросила сеньора де Гонтран, когда они возвращались домой.
– Со мной? – равнодушно переспросила Беатрис, продолжая смотреть на спину сидящего за рулем профессора. – Ничего, донья Ремедиос… Просто я очень устала.
– Да нет, милая моя, ты уж не выдумывай. Устала! Ты думаешь, я ничего не вижу? В прошлом году ты была совершенно другой. Что с тобой, Дорита?
– Боже мой, донья Ремедиос, – вымученно улыбнулась Беатрис. – Ну просто у меня были трудные экзамены.
– Трудные экзамены! – возмущенно фыркнула профессорша. – Ты ведь сдаешь их уже второй год, лентяйка! Не стыдно тебе? Как хочешь, а я напишу Бернардо о том, какое впечатление ты на меня произвела. И муж говорит то же самое.
Беатрис внутренне усмехнулась. Вряд ли профессор Гонтран замечает вообще ее существование в своем доме! Вот и сейчас он ведет машину и – можно держать пари – не слышит ни слова из того, что говорится за его спиной. Наверное, обдумывает какую-нибудь очередную проблему международного права. Но если донья Ремедиос и в самом деле напишет папе, это будет плохо.
– Напишу, вот увидишь, – подтвердила сеньора де Гонтран, словно подслушав ее мысли. – Он должен обратить на тебя самое серьезное внимание.
– Я вас очень прошу, донья Ремедиос! – быстро сказала Беатрис. – Не нужно ничего писать, папа и без того волнуется. Уверяю вас, со мной ничего страшного! Просто у меня очень плохое настроение, ну и… Вы понимаете, у меня был один случай – еще до экзаменов, – когда я увидела, как гнусно могут поступать люди, совсем, казалось бы, порядочные… И я теперь никому не могу верить и не могу спокойно…
– Тебя кто-нибудь… обидел?
– Да не меня вовсе, донья Ремедиос. Я просто была свидетельницей! И разве это единичный случай… Я уверена, такие вещи творятся теперь всюду и в любой момент, понимаете! Как же можно быть спокойной, когда такое делается!
– Но что именно, ради всего святого?
– Ах, не все ли равно, – сказала Беатрис, нервно перекручивая перчатки. – Ну хорошо, я вам скажу. Вы понимаете… На моих глазах с совершенно чудовищной жестокостью отнеслись к одному рабочему, уволили его просто потому, что…
– Дора, Дора, – облегченно засмеялась сеньора де Гонтран, – я уже вообразила всякие ужасы, глупенькая моя девочка! А рабочий… Ну что ж, это, конечно, грустно, но рабочий может пойти в синдикат, пожаловаться, – в конце концов, в Аргентине нет безработицы, насколько мне известно. Можно ли забивать себе головку такими пустяками в твоем возрасте!
– Вы ничего не понимаете! – крикнула Беатрис. – О, простите меня, донья Ремедиос, но как можно не понимать таких простых вещей!
– Нервы, нервы, – успокаивающе сказала профессорша, гладя ее по руке.
В понедельник пришла машина из пансиона – старенький, дребезжащий пикап. Сеньора де Гонтран, испуганная молодостью шофера, с пристрастием допросила его относительно дороги, потребовала показать права и только после этого успокоилась, Посмеиваясь, шофер уложил в кузов вещи Беатрис, застелил одеялом сиденье с торчащими пружинами, и они поехали. Почти час машина ныряла и петляла по живописным горным дорогам, пока не очутилась на сонных улочках маленького курортного городка Альта-Грасиа. Здесь шофер, уже успевший рассказать все о пансионе и его обитателях, сказал, что должен забрать кое-какие продукты и что через полчаса – самое большее – они поедут дальше, а до пансиона тут остается неполных шесть километров.
– Я зайду на почту, – сказала Беатрис, – а вы подъезжайте к иезуитской миссии, хорошо? Я буду ждать там.
Четверть часа спустя она сидела на стертых ступенях древней церкви. Широкая, открытая площадь, ослепительное солнце, приземистое, вросшее в землю здание в стиле колониального барокко – так строились в семнадцатом веке почти все миссии Общества Иисуса на территориях вице-королевства Ла-Платы. Сглаженная временем каменная резьба, горячий песчаник, трава между покосившимися плитами и в трещинах карнизов. Юркнувшая откуда-то ящерица замерла в двух шагах от Беатрис, мгновенно перейдя от стремительного движения к мертвой неподвижности, зачарованно уставившись на девушку изумрудными бусинками глаз. «Иди сюда, – тихо позвала Беатрис, положив руку ладонью вверх на горячую шершавую плиту. – Иди, я же тебе ничего не сделаю…» Ящерица исчезла с той же непостижимой быстротой, как и появилась. Беатрис вздохнула и покосилась на пестрый конверт, который лежал рядом, прижатый треугольным осколком камня.
Нет, откладывать чтение просто глупо. Она взяла конверт, медленно, словно не решаясь, вскрыла и вытащила три исписанных на машинке листка прозрачной бумаги. Горячий ветер зашелестел ими, пытаясь вытащить у нее из пальцев. Беатрис разложила бумагу у себя на коленях, придерживая края.
«Уиллоу-Спрингс, 24 ноября 1953
Моя любимая,
твое письмо я получил сегодня утром. Я думаю, ты просто переутомилась в колледже за эту зиму. Иногда весна действует на нервы, скорее всего этим и объясняется твое совершенно ужасное настроение.
Трикси, ты не должна ничего бояться. Не сочти за хвастовство, но мои акции в «Консолидэйтед» уже поднялись на несколько пунктов. После того как я выполнил небольшую пробную работу, меня включили в одну из проектных бригад. Практически это означает, что я признан. Правда, получаю пока только 75 в неделю, но Рою, например, дали первую прибавку уже через три месяца (сейчас он загребает 5000 в год). Я узнавал, здесь можно купить дом на хорошей улице с ежемесячной выплатой около 80 долларов. За вычетом этого и долларов 30 за автомобиль, нам будет оставаться около 300 в месяц (я имею в виду такую же зарплату, как сейчас у Роя, т. е. 100 в неделю). При теперешнем уровне цен на это можно прожить совсем неплохо. Так что тебе совершенно не о чем беспокоиться, моя будущая маленькая скво.
Работа у меня будет очень интересной, пока я в нее еще не полностью вошел. Жаль, что нельзя тебе об этом рассказать, да ты все равно ничего бы и не поняла. Наше проектное бюро начинает разработку эскизного проекта машины, равной которой не будет в мире. На мою долю, конечно, придется в этом грандиозном деле совсем немного, но все равно, интересно в высшей степени. Когда еще приедешь ты, моя любимая девочка, я буду счастливейшим парнем в мире.
У нас уже осень, сегодня весь день сильный туман и моросит. Когда мы с Роем возвращались с завода в его машине, на нас в тумане налетела какая-то леди, смяла заднее крыло и оторвала бампер.
Настоящей зимы в Нью-Мексико нет, а вот мы с тобой съездим когда-нибудь в наш Мэн, у канадской границы, там ты увидишь снег, иногда наметает выше человеческого роста. Ты, очевидно, не умеешь бегать на лыжах? Я тебя научу, это отличная вещь.
Пока кончаю, моя любимая. Отдыхай вовсю и пиши мне почаще: твои письма для меня такая радость. И не забывай присылать фото, с сентября ты не прислала ни одного. Ты ведь обещала, Трикси, что будешь фотографироваться каждый месяц и присылать мне. Помнишь? Привет мистеру Альварадо.
Целую тебя – как тогда.
Твой Франклин.
Р. S. Моя любимая, я все равно не могу отправить это письмо в таком виде, тактика страуса еще никогда не давала результатов. Конечно, не всегда любовь выдерживает испытание временем и разлукой, я понимаю. Если с тобой случилось именно это, если ты мне прямо скажешь, что так оно и есть, – я просто замолчу. Тут уж ничего не поделаешь, Трикси, я понимаю. Но я все-таки не могу в это поверить. Ты не такая, как другие девушки, чем больше я о тебе думаю, тем больше в этом убеждаюсь. И я так же твердо верю в себя, в то, что сумею дать тебе счастье, моя единственная любимая. Mi solo amor – это правильно по-испански? Может быть, все это еще не так страшно и у тебя действительно только временная депрессия, мало ли от чего – от жары, от расстроенных нервов. Мне страшно представить себе, Трикси, что со мной будет, если ты и в самом деле ко мне переменилась. Пятнадцать месяцев я думаю только о тебе, только о жизни с тобой, и если сейчас все это рухнет, я окажусь как перед пропастью. Впрочем, я пишу глупости. Дело не во мне, дорогая. Я знаю, что моя любовь сумеет защитить тебя от всего в жизни, что бы ни случилось, и не думаю, чтобы это смог дать тебе какой-нибудь другой мужчина. Ты скажешь – хвастовство, но я сейчас просто пишу то, что думаю. Неважно, как это выглядит, сейчас это не имеет никакого значения.
Я не знаю, что тебе еще написать, моя любовь, моя маленькая черноглазая девочка. Если бы я смог сейчас очутиться рядом с тобой – все стало бы по-прежнему, я в этом уверен. Трикси, я вспоминал сегодня нашу первую встречу – у входа в инженерный факультет в Байресе, помнишь, такое огромное готическое здание из красного кирпича? Тогда было очень холодно – солнечный зимний день с пронизывающим ветром, – и ты была в кремовой канадке с капюшоном, меховым изнутри, и вся раскрасневшаяся от холода. Помнишь? А потом, когда мы вдвоем ездили в Ла-Плату на твоем старом «форде» и пришлось менять покрышку на полпути – в парке или в лесу, где такие красивые ворота в виде сдвоенной башни. Я тогда обнял тебя и испачкал твою курточку, и мы едва оттерли пятна и потом замывали их около ручья.
Трикси, я хочу, чтобы ты все это вспомнила. Если, конечно, тебе эти воспоминания еще приятны. Для меня они – самое светлое в жизни, и всегда этим останутся. Я буду любить тебя всегда и везде, что бы ни случилось, в горе и в радости. Больше мне нечего тебе сказать.
Я буду ждать твоего ответа.
Ф.Х.»
10
В полутемном зальце пульперии[36]36
Деревенский трактир в Аргентине.
[Закрыть] было душно и пахло прокисшим вином и кухонным чадом. У стойки лениво перебрасывались словами двое посетителей. Озлобленно гудели мухи под темным дощатым потолком.
Было жарко. За окном калилась на солнце пыльная площадь – такая же, как в любом из этих местечек: белые одноэтажные домики с плоскими крышами и зарешеченными окнами до самой земли, чахлая зелень, коновязь, возле которой понуро стоял оседланный гнедой мерин. Седло было гаучское – непомерно широкое, с круглыми кожаными стременами, покрытое овчиной, шерстью наверх. Чуть поодаль, за оградой из порванной проволочной сетки, лениво бродили на голенастых ногах два неизвестно зачем посаженных сюда ньянду[37]37
Вид южноамериканского страуса.
[Закрыть] – какие-то общипанные, тускло-серого цвета, с крошечными головками на голых шеях.
Жерар оглянулся, чтобы подозвать хозяина, и в этот момент в пульперию вошел новый посетитель – потрепанный, как и все вокруг, старичок типа опустившегося чиновника в отставке.
– Привет дону Тачо и всей компании! – воскликнул он. – Что это там за машина со столичным номером?
Жерар отвернулся. За его спиной пошептались, и через минуту старичок подошел к столику, неся две раскупоренные бутылки пива.
– Рад приветствовать редкого гостя, – заговорил он с витиеватыми интонациями, бесцеремонно присаживаясь напротив Жерара и не представившись. – Надеюсь, не откажете составить мне компанию…
Жерар поклонился, с любопытством глядя на старика. Тот разлил пиво, отпил и обсосал с усов пену.
– Ездите по коммерческим делам? – спросил он. – Впрочем, на негоцианта вы не похожи. Значит, для собственного удовольствия?
– Почти, – улыбнулся Жерар. – Ваше здоровье, сеньор.
– Благодарю, впрочем, это бесцельный тост. Какое здоровье в мои годы! Значит, решили посмотреть наш Север? Ну-ну. Не совсем подходящая зона для туризма, должен вам сказать. Поехали бы лучше в Сан-Карлос-де-Барилоче, куда столичные дамочки ездят бегать на лыжах. Э? Хотя вы не похожи и на туриста…
Старик окинул его пронзительным и насмешливым взглядом – Жерар в замасленной «американке» и с отросшей за месяц рыжеватой бородой и в самом деле походил скорее на бродягу.
– Да, места у вас невеселые… Вы из старожилов?
– Почти. А что? Вас интересует, как здесь было раньше? Так же! – крикнул старик фальцетом. – Точно так же, мой сеньор, было в этих местах и десять лет назад, и двадцать, и тридцать, и сорок! Знаете, кто был президентом Республики в тот год, когда я сюда приехал? Саэнс-Пенья, сударь! Не Луис, конечно, хе-хе, я еще не так стар, а его сын – дон Роке. И было это, если вы не тверды в хронологии, в лето господне тысяча девятьсот двенадцатое, за два года до начала большой европейской войны. А что изменилось здесь с тех пор? А? Ничего, мой сеньор, ровным счетом ни-че-го! Вот что меняется, только это! – Он мотнул головой на висящий за стойкой портрет Перона и стал загибать пальцы. – Их тут целая дюжина сменилась за мое время: Саэнс-Пенья, Пласа, Иригойен, Альвеар, Урибуру, Хусто, Ортис, Кастильо, Рамирес, Фаррель и, наконец, его высокое и мудрое превосходительство бригадный генерал дон Хуан Доминго Перон. Видите, до дюжины не хватает только одного. А врачей нет до сих пор! – пронзительно крикнул старик, ударив ладонью по столу и едва не опрокинув свой стакан. – Людей до сих пор лечат знахари!
– Да, об этом я читал еще в Буэнос-Айресе, – помолчав, сказал Жерар, – там одно время много писали о нехватке врачей в северных провинциях.
– Ах, даже та-а-к, – ехидно закивал старик, – оч-чень отрадно слышать, что блистательная федеральная столица вспомнила о существовании северных провинций. Позволительно ли будет поинтересоваться, о чем вы еще читали в Буэнос-Айресе, мой сеньор? О детской проституции в северных провинциях там не пишут? А о том, что у нас здесь фактически не существует семьи – тоже нет?
– Как не существует?
– А так! Не существует, потому что в северных провинциях половина детей рождается вне брака! Если в провинции Буэнос-Айрес из тысячи новорожденных сто десять являются незаконными, то, скажем, в провинции Формоса незаконнорожденных приходится шестьсот десять! А отчего это происходит? Не от безнравственности, мой сеньор! От нищеты! От того, что в Ла-Риохе пеон получает в шесть раз меньше, чем в Буэнос-Айресе, за ту же работу и при одинаковой стоимости жизни. Чего там! Ему больше и не надо, он же «черноголовый», обойдется и этим! А потом кричат о «моральной деградации северян»! Девяносто процентов служанок во всех крупных городах – девушки-креолки с Севера. Шестнадцатилетняя девчонка, которая еще ни разу в жизни не видела железной дороги, попадает в город, – много ли у нее шансов избежать беды? Начинается с того, что хозяин или хозяйский сын делает ей ребенка, а через три месяца хозяйка выкидывает ее на улицу. Что ей остается делать, позвольте спросить? Идти на фабрику? На фабриках нужны люди, имеющие хотя бы отдаленное знакомство с цивилизацией. Вы не можете поставить к станку индианку из Сальты, если она не прошла обучения. А кто станет ее учить? Кто? Вернуться к положению служанки она уже тоже не может – с ребенком ее не возьмут нигде. Что же ей остается делать, как вы думаете?
– Послушайте, – сказал Жерар. – Я иностранец, мой вопрос может показаться вам наивным. Ведь у вас, кажется, федеральная система, каждая провинция имеет свое правительство и в какой-то степени может сама решать свои местные проблемы. Что же тогда мешает?
– Коррупция, мой сеньор! – крикнул старик. – Поголовная коррупция! Человека избирают губернатором, и перед ним открывается возможность набить карман. Причем он помнит, что через четыре года этой возможности у него больше не будет. Как тут удержаться? Вот сеньор губернатор и начинает усердно разворовывать вверенную ему провинцию. А новая метла, хе-хе, метет, знаете ли, подчистую! И если учесть, что она меняется каждые четыре года, а в Мендосе даже каждые три…
– Ну, это явление не только здешнее, – заметил Жерар. – Вы думаете, у нас во Франции чиновники не воруют и не берут взяток? Меня другое удивляет – есть же у вас печать, общественное мнение, ведь не могут, простите, все поголовно…
– Могут! – взвизгнул старик. – Еще как могут! И не только могут, а все поголовно должны в этом участвовать! Вы ведь не журналист?
– Нет, никакого отношения…
– Ну понятно, журналист такого не сказал бы! Вы просто не знаете. Зато я знаю! Сотрудник газеты зависит от своего редактора, а редактор зависит от издателя. А с издателем делится своими доходами его превосходительство сеньор губернатор! Вот и попробуйте тут что-то разоблачить! Это я говорю о провинциальной печати. А вы думаете, столичная более независима? Хе-хе. Да там они вообще все куплены и перекуплены с потрохами! Видел я ваших столичных деятелей, видел и хорошо знаю. В прошлом году был тут один такой – шикарная американская машина, сам напомаженный, и вместе с ним еще и этакая модная шлюшка в зеркальных очках… «Я, знаете ли, близок к правительственным кругам, в частности к субсекретарю сеньору Апольду, меня знают там-то, я знаю тех-то, у меня опубликованы такие-то работы, теперь я собираю материалы для серии статей о положении нашего Севера, это произведет впечатление в столице…» – Старик произнес все это гнусавой скороговоркой, передразнивая своего прошлогоднего собеседника, и перегнулся к Жерару, упираясь в стол ладонями. – Будь я на десяток лет моложе, я бы его вышиб в двери пинком, этого марикона! Ему, видите ли, захотелось «произвести впечатление», и он сажает в авто свою, с позволения сказать, секретаршу и катит на Север собирать сенсации!
– Но почему вы так строго? – возразил Жерар. – В конце концов, если есть лишняя возможность напомнить властям о здешних безобразиях… или хотя бы привлечь внимание общественности? Я не понимаю…
– Очень жаль, если вы, сударь, не понимаете! Очень жаль! Что вы скажете о человеке, который в наше время что-то публикует, живет в свое удовольствие и еще хвастает, что «близок к правительственным кругам»? Честные люди сейчас молчат, мой сеньор, а если уж что-то публикуют, то во всяком случае не то, что может принести автору благосклонность апольдов и компании! А тот прохвост – его же за лигу можно было распознать, что это за птица! И такой марикон, такая проститутка в штанах будет привлекать к нам внимание общественности? Спасибо, мой сеньор! Вы говорите о «лишней возможности» – так я вам должен сказать, что таких «возможностей» нам не нужно! То, что здесь происходит… – Старик вытянул руку по направлению к окну и угрожающе затряс костлявым пальцем со вздутыми подагрой суставами. – То, что происходит во всех этих провинциях, – это трагедия целого народа, и ни один подлец не должен прикасаться к ней грязными руками! Руками, которыми он еще недавно пересчитывал свои сребреники! Мы обойдемся и без его помощи, можете быть уверены, обойдемся рано или поздно… Вы, может, думаете сейчас: вот передо мной великолепный образчик старого дурака, но я знаю одно: чистое дело делается чистыми руками, а грязными – грязное, и одно с другим не смешивается…
– Вы правы, – сказал Жерар, – правы в принципе, но стоит ли обобщать?.. Можно допустить возможность такого положения – чисто гипотетически, вы понимаете, – когда человек когда-то в чем-то ошибся и… Ну и потом хочет отмыть эти свои «грязные руки», – добавил он, криво усмехнувшись.
– Удобная гипотеза! Очень удобная! Случайную ошибку исправить можно, не спорю. Но если всякая грязь смывается с рук, мой сеньор, то далеко не всякую можно смыть с души! Во всяком случае, не такую, в которой был вывалян тот прошлогодний тип. Случайно! – Старик снова фыркнул, дернув носом куда-то в сторону. – «Случайно» люди не продаются, запомните это, молодой человек! И если он продался, то можете быть уверены, эта сделка связана не только с его прошлым, но и с его будущим. Да, да, представьте себе! Я как сейчас вижу перед собой этого напомаженного красавчика… Кстати, у него был с собой целый набор корреспондентских билетов – и от «Лидера», и от «Демократии», и я уж не помню от каких еще столичных газетенок. Этакий расфуфыренный собачий сын! Сколько их сейчас расплодилось, Иисус-Мария… Вся эта современная деловая молодежь, которая торгует чем угодно, а потом еще смеет рассуждать о возвышенных идеалах…
Старичок поговорил еще несколько минут, ругая современную деловую молодежь. Потом он церемонно распрощался с Жераром, сказав, что наступает время сиесты.
Жерар видел, как он проковылял через площадь – маленький, согнутый ревматизмом, с путающейся в ногах короткой тенью, угольно-черной на раскаленной солнцем пыли. Когда старик скрылся в двери одного из домов, Жерар машинально допил теплое пиво и сгорбился, барабаня по столу пальцами. Подошел хозяин, что-то сказал; Жерар поднял на него непонимающие глаза.
– Я говорю, машина ваша готова, – повторил хозяин, убирая пустые бутылки. – Вы собирались ехать, так воду уже налили.
– А-а… Нет, я пока не поеду, – сказал Жерар.
Хозяин ушел к своей стойке – продолжать прерванный разговор с посетителями. Жерар посидел еще с четверть часа, выкурил трубку, не ощутив вкуса. Потом встал и, волоча ноги, отправился в комнату, где провел эту ночь.
Вечером ожидался дождь, и поклажу с джипа внесли в помещение. Ящик с этюдами стоял в углу у двери. Жерар присел на корточки, откинул крышку и вытащил несколько холстов.
…А что, если все дело в том, что сказал этот старик? Что, если все его неудачи объясняются внутренним противодействием какой-то части его «я», сознающей двойственность его поведения? Но действительно ли существует эта двойственность? И реальны ли его неудачи или они просто мерещатся? Кто, черт возьми, кто может определить – действительно ли плохи его последние работы? И главное, кто сможет убедить его в том, что они хороши, если ему самому они кажутся плохими?
Да, такого, пожалуй, с ним не было еще никогда. Раньше было другое: если не считать первого периода его творчества, периода поисков и нащупывания своего пути, его никогда не покидала уверенность в себе, в правильности избранного метода. Не было признания, это верно, иногда равнодушие публики причиняло боль, но даже в самые скверные моменты он находил утешение в сознании собственной правоты. А сейчас в нем исчезло то, что является главным для художника, – уверенность в своих силах.
Это подкралось как-то незаметно, предательски. Сначала все шло отлично. Мучительные и бесплодные размышления о смысле и задачах искусства, терзавшие его в столице, показались смешными уже вскоре после того, как под колесами кончился последний километр бетона. Из столицы он выехал через Росарио, за Санта-Фе свернул прямо на север и, не успев проехать и семисот километров, очутился в совершенно другой эпохе. Трудно было поверить, что на этой же земле стоит Буэнос-Айрес с его небоскребами. Здесь ничего этого не было, здесь были лишь редкие сонные городки и вокруг них на сотни километров безликое и безымянное «кампо»: поля, выжженные солнцем пастбища, бескрайние просторы плохо обработанной или вообще пустующей земли; и люди, родившиеся в двадцатом веке и живущие неизвестно в каком.
Ни школ, ни больниц, ни намека на самую элементарную цивилизацию. Несколько раз он подъезжал к какому-нибудь ранчо – набрать из колодца воды для радиатора. Его встречали со спокойным гостеприимством, лишенным и тени подобострастия, всегда приглашали закусить или выпить матэ. Как правило, он оставался, в свою очередь угощал хозяев своими консервами (почти недоступным для тех лакомством), подолгу расспрашивал о жизни. Его интересовали эти люди, в которых ни нищета, ни постоянный произвол власть имущих, от полицейского комиссара до последнего представителя управляющего, не смогли вытравить врожденного чувства собственного достоинства. Объясняться с ними было трудно: они говорили на местном диалекте и сами плохо понимали заезжего гринго, но жизнь их была как на ладони. Собственно, о ней не приходилось и расспрашивать – так красноречиво рассказывала обстановка. Глинобитное ранчо, часто с прямоугольными дырами вместо окон и дверей, примитивная утварь времен Мартина Фьерро, чумазые нечесаные ребятишки, одно и то же выражение привычной и нежалующейся тоски в глазах у взрослых – нищета, самая отчаянная, безысходная нищета…
И так было повсюду. Дальше к северу пошли безводные места, на полустанках железной дороги Жерар видел длинные очереди оборванных людей с самыми разнообразными посудинами, от глиняных кувшинов – порронов до десятилитровых жестянок с маркой «Шелл мотор ойл». Раз в сутки через полустанок проходил товарный состав; если на нем не было инспектора, машинист мог остановиться и позволить людям набрать воды из тендера – затхлой и радужной от нефти, но пресной. Если состав не останавливался, очередь терпеливо ждала следующего.
Вот что нужно было писать! Вот что нужно было показать публике блистательного Буэнос-Айреса – показать ее собственную страну, брошенные поля и развалившиеся от непогоды ранчо, оборванных детей и очереди за водой на полустанках… Вспоминая столицу, Жерар стискивал зубы от ярости. «Самый большой в мире» аэропорт Пистарини! Новый автодром «17 Октября»! Студенческий городок «Президент Перон» – игрушка стоимостью в полмиллиарда! А на Севере люди травятся водой из паровозных тендеров, потому что правительство не может прислать установки для бурения артезианских колодцев, а крестьяне бросают поля, ставшие их проклятием, и либо превращаются в батраков и бродячих сезонников – брасерос, либо пополняют собой ряды городских люмпенов. Зато по столице расклеены лозунги правящей партии – «Земля тем, кто ее обрабатывает»…
Жерару очень скоро показались смешными все его попытки нащупать какой-то новый путь. В городе он мог наблюдать жизнь рабочих предместий и «не видеть темы»; там эта проблема не стояла так остро, не ставила художника перед категорическим императивом. Городской рабочий находится все же в лучшем положении: у него есть товарищи, его интересы в какой-то степени охраняются синдикатом, он, наконец, может что-то делать, как-то протестовать. Но здесь…
Здесь вообще не может возникнуть для художника этот вопрос: а чему, собственно, должно служить твое искусство? Когда перед тобой оборванный рахитичный ребенок, не знающий, что такое конфета или грошовая игрушка, – ты не станешь думать о приобщении столичного сноба к таинству природы и не станешь писать какой-нибудь «Закат над пампой». Ты напишешь этого ребенка; напишешь вереницу безликих фигур с бидонами; напишешь брошенное людьми ранчо, где когда-то слышался смех детей и аромат горячего хлеба. И напишешь все это так, что каждая из твоих картин, выставленная на Флориде, будет как пощечина…
Первые две недели Жерар не торопился приступать к работе – ездил, наблюдал, исподтишка делал беглые зарисовки. Потом взялся за этюды.
Сначала он не заметил ничего. У него уже и раньше бывало так, что новая тема не давалась сразу, что проходило какое-то время, прежде чем он чувствовал себя окончательно настроившимся именно для этой работы. Хотя период настройки на этот раз слишком уж затянулся, Жерар не придал этому значения. Но потом появились тревожные симптомы.
Впервые в жизни Жерар познал отвратительное состояние творческого бессилия, когда образы, выношенные и, казалось бы, готовые уже излиться на холст, вдруг расплываются и исчезают, едва приступаешь к работе. После нескольких бесплодных попыток он однажды утром поймал себя на мысли, что ему неприятен сам вид палитры и запах красок. Это испугало его. Промучившись над этюдом целых полдня – так ему показалось, – он посмотрел на часы и тихо выругался: оказалось, что он работал всего час с лишним. Раньше бывало наоборот – только меркнущее освещение напоминало ему, что пора кончать работу…
В ту ночь он долго не мог заснуть. Ему приходилось слышать о художниках, терявших вдруг вкус к работе, но до сих пор это было выше его понимания. Как можно охладеть к делу своей жизни? Когда ему говорили о таких случаях, он молча пожимал плечами – значит, парень никогда не был настоящим живописцем! Ну а он сам?
Потом ему показалось, что он нашел разгадку. Всякий раз, берясь за кисти, он не мог не вспомнить О работе, выполненной для Руффо; написанная им самим мерзость то и дело снова вставала перед глазами. Это был, очевидно, род психологической травмы. Самое страшное – Жерар это сознавал – заключалось в том, что он, против своей воли, выполнил тот заказ не просто как ремесленник, но вложил в работу частицу своего таланта. Как сказал сейчас этот старик, далеко не всякая грязь отмывается…
После того дня, после разговора в пульперии, Жераром овладела какая-то апатия. Правильной или неправильной была его оценка своих последних работ – она укрепилась еще больше, потому что он полностью принял на свой счет слова о грязных руках.
Очевидно, думал он, в этом и заключается разгадка всех его неудач. С одной стороны, для него не прошла бесследно работа для Руффо, травмировавшая его и в какой-то степени исказившая его восприятие мира; это совершенно естественно – надломленная душа никогда не воспримет окружающее так же, как здоровая. С другой стороны, честный художник может работать лишь в том случае, если его совесть чиста, если он уверен в правоте своей позиции и в своем праве ее занимать. У Жерара не было именно этой уверенности.
Солнце уже садилось. Оно лежало на краю земли тяжелым раскаленным куполом, и в огне зажженного им пожара сгорели, казалось, все краски природы, кроме черной и багрово-алой.
Зловещие их сочетания были нереальными, бредовыми. Вообще нереальным стало теперь почти все. Почти все, за исключением быстро надвигающейся ночи и ландшафта вокруг – ландшафта, в котором осталось только два цвета, только два измерения. Ровный, без деревца и возвышенности, круг в кольце горизонта и расколовшая его трещина дороги. Дороги, идущей в никуда.
Эта пустыня и этот путь без цели были теперь единственной его реальностью. Единственным, что осталось ему в жизни, если только можно назвать этим большим словом то существование, на которое он был теперь обречен.
Как заключенный, окидывающий взглядом стены своей одиночки, Жерар поднял голову и огляделся, щурясь от бьющих в глаза закатных лучей. Да, объемного пространства больше не было, мир стал двухмерной плоскостью. Его мир. А третье измерение – это химера, отныне и во веки веков. Химера, изменчивый мираж, недоступный людям. Человек обречен оставаться на плоскости, ходит ли он по земле или поднимается в воздух…








