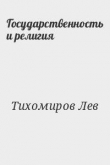Текст книги "Год спокойного солнца"
Автор книги: Юрий Белов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
– К сожалению, нет, – развел руками Казаков. – Но думаем, ищем…
«Чего же это он так выкладывается? – удивленно подумал Назаров; ему показалось, что Сомов бросил на него беглый недвусмысленный взгляд. – Никто за язык не тянул. Такой бумеранг запустил, себе же в лоб». Не удержавшись, он спросил:
– Выходит, кирка в единоборстве с буром торжествует?
– Ну какое это торжество, – пожал плечами Казаков, и было видно, что вопрос неприятен ему, – так, смех сквозь слезы. – И уже обращаясь к американцу, добавил: – Торжество старого над новым всегда временно. Сейчас в пустыню пришли гелиоопреснители, термоэлектрические генераторы, солнечные водоподъемники…
Гость кое-что уточнил, делая пометки в блокноте, и неожиданно спросил:
– И вас не страшит будущее? – Встретив недоуменный взгляд Казакова, захлопнул блокнот, спрятал в карман и пояснил: – Давайте не для печати, мне самому хочется понять… Восьмидесятые годы могут оказаться совсем не такими спокойными. Обстановка в мире… но здесь трудно загадывать. А «парад планет»? У нас в Штатах в еженедельнике «Ньюсуик» была опубликована статья американских ученых. Кажется, она называлась «Когда планеты выстраиваются в линию». В ней указывалось, что в 1982 году планеты солнечной системы выстроятся на одной линии по одну сторону от Солнца. Приливные силы вызовут на нашем светиле необычайное число солнечных вспышек, и это приведет к катастрофам на Земле – изменится скорость ее вращения, начнутся землетрясения, наводнения, тайфуны…
– Крэш? – улыбнулся Казаков.
Но Пэттисоны смотрели на него очень серьезно, миссис Джозина даже достала из сумочки очки, чтобы лучше разглядеть собеседника.
– Вы не считаете, что с Солнцем шутить нельзя? – закончил свою мысль Фрэнк.
По этому поводу писали и наши газеты, подробностей же Казаков не запомнил и теперь жалел, что читал не очень внимательно.
– Насколько мне известно, советские ученые не разделяют тревог американских коллег, – проговорил он и глянул на Сомова: – Вы помните, Кирилл Артемович, что у нас писали?
– Да, «Ньюсуик» переборщил, какие там катастрофы, – охотно отозвался тот, явно щеголяя осведомленностью. – Наши астрофизики доказали, что прогноз Гриббина и Плейджмена не имеет достоверных обоснований. А если при этом повысится солнечная активность, то будет меньше раковых заболеваний, к такому выводу пришли наши ученые-онкологи. У меня жена врач, я знаю.
– Есть такая зависимость? – удивился Пэттисон и переглянулся с женой. – Я не слышал. И все-таки как лично вы, – он снова выжидательно посмотрел на Казакова, – относитесь к возможным катастрофам?
– Лично я? – пожал плечами Казаков. – Думало, что не этих катастроф следует опасаться человечеству. А что касается высокой солнечной активности… – Он весело улыбнулся, обрадовавшись, что пришла на ум эта мысль: – Тогда мы перевыполним план на наших гелиоустановках.
Пэттисон ответил улыбкой на улыбку, но было видно, что ему совсем не весело, все эти вопросы волнуют его серьезно.
– Вы остроумный человек, а это лучшее из достоинств в наш век, полный тревог и страхов. Спасибо за беседу. У меня больше нет вопросов. Если есть у вас ко мне – пожалуйста.
Он перевел взгляд с Казакова на Сомова и Назарова, задержался на нем. Что-то дрогнуло в его лице, но он ничего не сказал и снова посмотрел на Казакова.
– Вопрос один, – ответил тот: – Мы можем ехать на пастбища?
– О, конечно! – обрадованно воскликнул мистер Фрэнк, поднимаясь. – Мы готовы, мы рвемся в путь, ибо движение есть жизнь. Так учит диалектика!
У него опять было хорошее настроение.
Когда они выходили из кабинета, Казаков негромко сказал Назарову:
– Видите – мне надо уезжать. Если возникнут вопросы, созвонимся и встретимся. Хорошо?
– А сейчас далеко? – спросил Марат. – В какой колхоз?
– Недалеко, колхоз «Захмет», но быстро вряд ли обернемся, так что ждать вам нет смысла, – не понял его Ата.
– Нет, я о другом. Можно мне с вами? Мне очень нужно. Очень. У вас какая машина? Место найдется?
У него, было такое просительное лицо, что Казаков не посмел отказать.
– РАФ, – сказал он сухо, недовольный настойчивостью корреспондента, – места хватит. Поезжайте, если хотите.
Обрадованный Назаров хотел было позвонить в редакцию, предупредить, но побоялся, что уедут без него, и торопливо стал спускаться вслед за гостями по широкой лестнице к выходу. Ему предстояло ехать в места, с которыми были связаны полузабытые уже, упрятанные в глубинах души воспоминания, всколыхнувшиеся, поднявшиеся вдруг и ожившие, словно и не лежали меж теми событиями многие годы…
25
Его надежда питала тогда, она же и мучила, изматывала силы. Порой, томимый предчувствиями, он буквально трепетал от ожидания: вот… сейчас… Но тянулись и проходили дни, а звонка не было, никому он пока не нужен был в этом городе, а она могла и не обратить внимание на подпись под очерком – мало ли Назаровых. Это он так успокаивал себя, а сердце сжималось каждый раз, когда в редакционной комнате раздавался телефонный звонок. Но все это было не ему, не ему… Второй свой материал он подписал полностью: Марат Назаров. Ведь читает же газеты, увидит, догадается, сердце ей должно подсказать…
В тот день он был очень занят, готовил в номер письмо с целины, звонка и не расслышал.
– Марат, тебя.
Он взял трубку и вдруг почувствовал, как замерло, затаилось сердце и дыхание стало неслышным.
– Я слушаю.
– Марат? – Да, это был ее голос, и сердце его совсем остановилось. – Ты почему молчишь? Алло? Ты слышишь меня?
– Слышу.
Но и она замолчала, что-то там думала или переживала тоже, а Марат, прижимая трубку, пытался услышать ее дыхание и догадаться, что думает, что чувствует она в эти секунды.
– Значит, приехал… – Наташа вздохнула, он это точно расслышал. – Ну, здравствуй.
– Здравствуй, – еле выговорил он.
Она еще помолчала, а Марат продолжал затаенно вслушиваться в шорохи, доносившиеся из трубки, и все понять не мог ее настроения. Но уже ясно становилось, что не ахнула, увидев его имя в газете, не бросилась сразу звонить, искать его…
– Решил насовсем сюда? – И поскольку Марат не ответил, она забеспокоилась: – Алло! Ты слышишь меня?
– Слышу.
– Знаешь, – произнесла она твердо, с незнакомым металлом в голосе, хотя тон показался ему не настоящим, наигранным, театральным, – ты зря все затеял. Изменить ничего нельзя и, самое главное, не нужно – ни тебе, ни мне, никому. Ты это должен понимать, ты же умный мужик. Прошлое не вернуть, да и не было у нас такого прошлого. Кстати, можешь меня поздравить – у нас с Кириллом второй сын.
– Поздравляю, – подавленно сказал он.
– Спасибо, – как будто бы даже обрадовалась она. – Ты-то как?
– Ничего, – ответил он.
– Ну, здоровья тебе, успехов в работе, счастья в личной жизни, – торопливо проговорила она и, выпалив все это, неожиданно грустно добавила: – А надумаешь уезжать – дай знать, все-таки росли вместе. Ты телефон запиши…
Нет, не таким представлялся ему их разговор. А впрочем на что он мог рассчитывать? На слезы умиления? Ах, ты приехал, мое сердце разрывается на части… Надеялся, что она увидеть его захочет, поговорить… а о чем? Все давно было ясным, и сказано было все, еще там, на Комсомольском озере. Нет, надеяться ему было не на что…
И он со странным спокойствием, несколько даже высокопарно сказал себе: все, мосты сожжены. Наташа сама поднесла к ним спичку, и они занялись дружно, балки стали рушиться и с шипением падать в воду, в ту реку, на разных берегах которой оказались он и она, только сизые дымки взвивались и таяли в небе.
«Ты это должен понимать, ты же умный мужик». Он-то понимал, да в таких делах одного понимания недостаточно, не зря говорят: сердцу не прикажешь.
А мосты пылали, и она была на той стороне, недосягаемая, едва видимая за дымом и пламенем, – и не пылающие, шипящие и чадящие в воде балки, а надежды его рушились на глазах… Все, конец, в самом деле зря он это затеял, уезжать надо и как можно скорей… Получить расчет и – на вокзал. Уже стучали в ушах вагонные колеса, встречный ветер овевал лицо, плыли за окном весенние степи – и успокаивалась душа, спасительное бегство исцеляло его…
– Марат, тебя.
Он недоуменно смотрел на черную трубку, положенную перед ним на письменный стол: какие еще могут быть разговоры, с кем? Но в то же мгновение горячая волна обдала его изнутри, кровь застучала в висках: это она! Ну конечно же, одумалась, поняла, что теряет его и в слезах бросилась к телефону… Поспешно схватив трубку, он крикнул возбужденно, не думая уже о том, что не один в комнате:
– Да! Я слушаю, слушаю!
– Товарищ Назаров?
Это была не Наташа. Кто-то звонил по делу, будто бы по его просьбе, из сельского райкома, что ли, он и не разобрал, ни о какой просьбе не помнил.
– Вы запишите. Колхоз «Захмет», Тачмамедов Караджа.
– Спасибо, – машинально ответил Марат и фамилию все-таки записал, хотя понимал, что никакие дела его больше здесь не удержат. Другие поедут в этот «Захмет», другие будут беседовать с Караджой Тачмамедовым, может, и напишут, что-нибудь стоящее, если, конечно, хорошие факты соберут, характерные детали, живые черточки подметят… У него потеплело на душе – Николай Семенович тогда как в воду смотрел, сказав: «Может, пригодится».
Вспоминая ту ленинградскую встречу, Марат выдвинул ящик стола и стал перебирать бумаги, благо их не много еще накопилось. В дорогу надо идти налегке, без лишнего груза. Ненужные он тут же рвал или сминал и бросал в корзину, кое-что откладывал. Папку с тесемками взвесил на ладони – брать или не брать? Груз невелик, да вот надобность в ней вроде бы отпала. Чего возить с собой? Как память о неудачном литературном опыте? А зачем она нужна, такая память? Он папку в редакцию принес, думал показать ребятам. Были среди новых его товарищей такие, кому захотелось поверить свою тайну. Но теперь это ни к чему.
В тот свой первый побег, когда очертя голову умчался он в Сибирь, Марат надеялся, как клин, клином вышибают, победить в себе страх перед снежными зимами и – не Наташе, себе – доказать собственную жизнестойкость. Поплавав навигацию на Оби и зиму проработав в затоне, он попробовал еще и сочинить небольшую повесть под названием «Большая река». Дело, вроде бы, пошло, и в конце зимы он отнес рукопись в журнал. Ждал похвал, ну в крайнем случае каких-то частных замечаний, которые можно легко поправить. Но повесть безжалостно «зарезали». Много ему всякого наговорили. Рыхлость композиции, неумение лепить характеры, стиль в конце концов – все это еще понять мог, с обидой да принять. Одного не понял ни тогда, ни после: его обвинили в незнании жизни. Так, как он описывал, в жизни, оказывается, не бывает. Матросы не таскают на заплечных «горбушах» огромные сундуки, не дерутся в кровь, не… Словом, в портах механизация растет, повышается общий и профессиональный уровень плавсостава и все такое прочее. Возвращаясь из редакции к себе в общежитие, он хотел разложить на льду реки, прямо на пешеходной тропе костер и сжечь злосчастную рукопись. Но в последний момент передумал и папку эту сохранил.
Развязав тесемочки, Марат стал перебирать листы, читая то одно место, то другое. Теперь, спустя время, все написанное и впрямь казалось слабым, надуманным, будто и не о пережитом писал. Но что-то и нравилось. Заключительные строки вдруг отозвались в душе тоской об ушедшем.
«Теплоход шел в свой последний рейс. Приближалась зима. Под Белогорьем уже ледяные забереги появились, а в Салехарде повалил густой липкий снег и серая шуга поплыла по реке. Южнее же, когда возвращались, берега были еще по-осеннему ярки. Во всей красе плыла мимо русская, сибирская природа, ставшая за месяцы плавания родной, понятной, любимой. Я вспомнил, что через несколько дней судно встанет на всю зиму в затон, и почему-то стало вдруг грустно. Отчего же? Ведь так ждал, когда придет всему этому конец, когда не нужно будет выходить на палубу с мокрой шваброй, таскать на „горбушах“ ящики и мешки по крутым ступеням трюма, мыть из шланга пассажирские ватерклозеты… Когда чистенький мальчик в окне каюты первого класса спросил меня: „Дядя, вы дворник?“ – я твердо решил из матросов уйти и искать себе другую профессию. И вдруг – грусть…
Летели в высоком бледно-голубом небе гуси, призывно кричали – звали с собой, в погоню за ушедшим летом, в бесснежные зеленые края. Милые, куда же вы зовете, зачем? Ведь сами же, если уцелеете в чужих краях, вернетесь сюда весной…
Таяла в мглистой дали гусиная стая, гонимая близкими морозами в нелюбимые страны. Упрямо летели птицы на юг, не ведая, доведется ли им вернуться туда, где каждая из них, впервые взлетев в поднебесье на молодых неокрепших крыльях, увидела, как хороша эта бескрайняя, сияющая под невысоким солнцем холодная земля, которая называется родиной».
С грустным чувством закрыл он папку, завязал тесемки и подумал: я вот тоже хочу улететь с земли, которая называется родиной, с земли отцов…
И тотчас же авиационной бомбой взорвалась в сознании мысль о последнем телефонном звонке. У него дух захватило от волнения: это же об отце! Это же отца знал Тачмамедов Караджа! Вот о чем позвонили ему из райкома, куда в самом деле обращался он с просьбой…
– Ребята, как в колхоз «Захмет» ехать? – спросил он, срываясь с места. – И, пожалуйста, кто-нибудь письмо сдайте, мне бежать надо!..

Часть вторая
И доброта и злость в тебе заплетены клубком, пустыня.
Сеиди.
1
День выдался пасмурный, серый, облака летели чередой, закрывали солнце. Но глаз радовала свежая сочная зелень распустившихся деревьев и густых, еще не тронутых солнечным жаром трав на обочине дороги, по краям полей и на недалеких холмах. А горы за холмами были, словно ватой, обложены облаками. Засеянные уже карты полей влажно темнели – на них тоже приятно было смотреть. И Марат смотрел и смотрел в окно рейсового автобуса, на бегущую весеннюю притихшую землю, испытывая сладостное чувство привязанности к ней. Земля отцов… Как тогда Николай Семенович сказал? «Землю отцов надо знать и любить». А он обиделся: у меня нет отцовской земли. Каким же глупцом выглядел он в глазах Николая Семеновича!
И с жадным, ревнивым вниманием, совсем по-хозяйски продолжал смотреть в окно.
К этому приятному волнению исподволь примешалась обида, возникшая после сегодняшнего разговора с Наташей, – но не надолго. А ведь верно говорит туркменская пословица, подумал Марат с горделивым чувством первооткрывателя: разлученный с милой плачет семь лет, разлученный с родиной плачет всю жизнь. Что ж делать, если так получилось. Была бы Наташа счастлива. А я – на родную землю вернулся, про отца, наконец, узнаю, про мать. Может, и прав был Николай Семенович, всякое могло случиться, и не сами они меня бросили, а судьба так сложилась. Приеду, а мне их дом укажут… мой дом… От этих предположений у него сердце захолонуло.
Автобус остановился и, едва Марат ступил на землю, снова тронулся, двери с шипением и скрежетом закрылись на ходу.
От шоссе ответвлялась узкая асфальтированная дорога, обсаженная по обе стороны шелковицей. Деревья дали побеги, но выкормка шелкопряда еще не началась, и зеленые гибкие ветви с резными листьями волнисто покачивались на ветру, точно прощались с весенним этим миром, ожидая острого серпа обрезчиков. Стволы были искорежены, обезображены прошлыми порезками, как будто губительные бури обрушивались на них ежегодно, и изуродованные деревья каждый раз выживали, распрямлялись и снова тянули ветви к солнцу.
Земля под деревьями и на близких полях была изрыта – где лопатами, где плугом, срезы отвалов жирно блестели, а рассыпавшиеся комья подсохли и посерели. Асфальт был сух, занесенная автомобильными шинами глина рассыпалась в пыль, ветер нес ее поземкой, взвихрял крохотными смерчами.
Марат прошел под высокой деревянной аркой, на которой в обрамлении аляповато изображенных овощей, фруктов и кудрявых овец красовалась надпись: «Колхоз „Захмет“. Добро пожаловать!»
За деревьями показались домики с плоскими крышами, глиняные заборы, дворы с виноградниками и со всем тем, что свойственно селу, – с хозяйственными пристройками, круглыми глиняными печами – тамдырами для выпечки лепешек, штабелями недавно обрезанных виноградных лоз. Собаки провожали его спокойными взглядами, незлобивыми они здесь были.
В конторе было сыро и тихо. Где-то негромко щелкали счеты, и Марат пошел на звук, но вдруг одна из ближайших дверей открылась, и он столкнулся с человеком в красном полосатом халате поверх военного кителя, в синих галифе с красной окантовкой, хромовых сапогах и артиллерийской фуражке со следом снятой звездочки.
– Я из редакции, – сказал Марат. – Мне нужен Тачмамедов Караджа. Не подскажете, где его найти?
– Подскажу, – живо, с необычайным интересом к новому человеку ответил бывший артиллерист и чуть отстранился, чтобы лучше разглядеть незнакомца. – В песках он.
– Как в песках? – не понял Марат.
– А просто – сел на верблюда и уехал. Караджа в заготконторе работает, саксаул заготавливает. Разве не знаете?
– Это далеко? – упавшим голосом, сам понимая никчемность, вопроса, произнес Назаров.
– Далеко, – ответил демобилизованный и вдруг обнял Марта за плечи и повел к выходу. – А что, письмо поступило?
– Нет, я по личному вопросу. Говорят, он отца моего знал.
Они вышли на просторную пустую террасу, и тут только Марат разглядел своего собеседника. Было ему лет тридцать пять, но глаза, несмотря на бодрый тон разговора, смотрели устало, боль пряталась в них.
– Сен туркменми? – спросил он снова, при дневном ярком свете разглядывая Марата.
– Туркмен, – по-русски ответил Марат. – Только вырос в Ташкенте, в детском доме, туркменского не знаю.
– А кто твой отец?
Обычный, вполне законный вопрос вызвал у Марата смущение.
– Я мало о нем знаю… Он из этих мест. Поехал учиться в Москву, но в Ташкенте исчезла вся семья… кроме меня, конечно. Сначала маленький был, потом война, вот теперь только сумел добраться сюда.
– Аман Гельдыев, – протягивая руку, назвал себя бывший артиллерист. – Ты какого года? Воевал?
– Нет. Но первую блокадную зиму в Ленинграде был, на заводе работал. Под бомбежку попал…
– Понятно, – кивнул Гельдыев. – А я под Кенигсбергом ногу потерял, протез освоил. – Он выставил левый сапог, повертел носком влево-вправо и, довольный, спросил: – Ты, верно, и не заметил?
– Не заметил, – согласился Марат.
– И с одной ногой жить можно, – словно бы сам себя убеждая, сказал Гельдыев. – В школу направление получил, детишек учу, а у самого десятилетка, придется в педагогический заочно поступать. Так что ты у Караджи узнать хотел?
– Мне сказали, что он отца моего мог знать.
– Отца как звали? Назар?
– И вы знали его? – вскинулся Марат.
– Ну, знать – откуда? Я тогда мальчишкой был. Но слышал эту историю. – Он задумался, потом сказал: – Да, пожалуй, один Караджа и остался. Сверстники Назара все с войны не вернулись. Дружок его Казак, правда, живой остался, да весной сорок восьмого погиб, в колодце его завалило.
– А вы не знаете, что с отцом произошло? – с надеждой спросил Марат.
– Я же сказал – мальчишкой был, – неожиданно рассердился Гельдыев. – А говорили… мало ли что могут болтать, всех слушать – уши повянут.
– Но хоть какой человек был – это известно?
– Какой человек… Не наш он был, не здешний. Наши не умели колодцы рыть, не знали этого дела, со стороны приглашали. Назар, говорят, и был среди них. А Караджа, точно, знал его. Караджа, он у нас такой: то там наймется, то здесь. В колхозе только семья его живет, а сам все скитается.
– Вы сказали, семья его здесь, – просительно сказал Марат. – Может, они что знают?..
– Может, что и знают, – ворчливо ответил Аман, глядя отсутствующим взглядом в поле. – Этот Тачмамедов у нас как кость в горле. Ему дом разрешили на колхозной земле оставить, участка не лишили, воду на полив отпускают наравне с колхозниками, а он все недоволен, все жалуется – то в район, то в Ашхабад.
– На что жалуется? – только из вежливости, вскользь спросил Марат, хотя ему совсем не интересно было знать подноготную Караджи Тачмамедова.
– Совести нет – вот и жалуется. Отцовская кровь в нем кипит. Тачмамед из богатых был, за границу ушел и скот угнал, а сын его почему-то остался и даже от отца отрекся: я, мол, за новую власть, за трудовой народ. А теперь нутро его поганое наружу вылезает… – Аман помолчал, видимо, сдерживая себя, и продолжал уже спокойнее: – В колхозе рабочих рук не хватает. Сорняки после дождей пошли, в поле люди не справляются, а тут время выкормки шелкопряда подошло. Правление решило обратиться за помощью к женщинам, у которых больше пяти детей. По уставу им не устанавливается трудовой минимум, но раз такое положение… Жену Караджи тоже попросили взять десять граммов грены, выкормить червей, сдать коконы. Она согласилась, а Караджа узнал – так вскипел весь. В Москву грозил поехать с жалобой. Я думал, ты по этому поводу…
– Может быть, все-таки стоит попытаться узнать у них? – думая о своем, напомнил Марат. – Где они живут?
– Я бы объяснил, тут у нас не заблудишься, – недовольно пояснил Гельдыев. – Да только жена его по-русски плохо понимает, а ты родной язык еще не выучил. Как же разговаривать будете? Пойдем, – решительно добавил он и первым шагнул на крыльцо.
Они шли по улице поселка, но не по той, что вела к шоссе. Здесь асфальта не было. Разбитая посредине колесами, с вешней водой в рытвинах, дорога слегка поднималась в гору и поворачивала так, что дальнего конца не виделось за домами и деревьями. По обочине вдоль арыка была протоптана сухая уже совсем тропинка, настолько узкая, что двоим не разойтись, и Марат вынужден был поотстать, вопросы свои задавать в широкую спину спутника, туго обтянутую халатом, в стриженый его затылок под старенькой, с засаленным околышем фуражкой. Протез чуть поскрипывал при ходьбе, но шаг у Амана оказался неожиданно спорым.
– А мы… ну отец и мать мои в этом поселке жили? – с любопытством оглядываясь и в то же время под ноги посматривая, чтобы не шагнуть с тропинки в грязь, спросил Марат.
– Нет, – не оборачиваясь, ответил Гельдыев, – этот поселок уже потом построили, перед войной. А сперва мы кочевали от колодца к колодцу.
Совсем рядом во все горло закричал петух, ему отозвались в разных местах – каждый на свой лад, на свой голос. И это было как сигнал того, что они пришли.
– Вот их дом, – произнес Аман, останавливаясь.
Через арык были переброшены мостки к плетеной калитке. Забор у Тачмамедовых тоже был плетеный из ветвей кустарника, а не глиняный, как у всех. Сам же дом был обычный, саманный, с низкой дверью и крохотными оконцами. В углу двора в тесном загоне жались одна к другой четыре овцы. Куры копались в навозной куче.
Из дома вышел мальчик лет десяти, сказал что-то бойко по-туркменски.
– Здравствуй, – по-русски ответил учитель. – Человек к вам из города. Отца спрашивает. Не знаешь, когда приедет?
– А отец дома, – почему-то обрадовался мальчик, и сияющие глазенки никак не соответствовали тому, что он сказал: – Ночью приехал. Заболел и приехал. Жар у него. Проходите, пожалуйста.
Посторонившись, Гельдыев дал Марату дорогу, пропуская к мосткам.
– Повезло мне, – благодарно улыбнулся Казаков и протянул руку. – Спасибо вам.
Аман руку пожал, но не ушел, а следом направился в дом. Склоняясь в низком дверном проеме, спросил мальчика:
– За фельдшером ходили?
– Отец велел табиба позвать, – виновато опуская глаза, еле слышно ответил мальчик.
– Он бы еще порхана позвал, тот бы всех злых духов из него выгнал своим шаманством. Ты бы ему разъяснил, пионер.
В полутемной комнате, пока не привыкли глаза, Марат не сразу разглядел больного. Тот лежал у стены, укрытый лоскутным, давно не стиранным, потемневшим по краям одеялом. Голова его с иссиня-черными, коротко остриженными волосами покоилась на цветастой подушке. Воспаленные глаза смотрели настороженно, недобро. Дышал он прерывисто, но руки лежали поверх одеяла спокойно, сильные, крепкие руки, черные от загара.
Подобрав полы халата, учитель опустился рядом с ним на кошму, отставив в сторону ногу с протезом, и что-то спросил, Марат только одно слово и понял – табиб – знахарь. Караджа насмешливо ответил и посмотрел на незнакомца, пытаясь определить, что за человек пожаловал в его дом. Перехватив его взгляд, Аман сказал по-русски:
– Верно говорят: в голове темно – весь мир мрачен. Злость твоя так и не остыла за все эти годы.
Караджа снова ответил ему что-то с издевкой в голосе и опять посмотрел выжидательно на Марата.
– Ты, Караджа, как скорпион, – покачал головой Гельдыев. – К тебе прикасаться опасно.
– А ты не прикасайся, – вдруг резко и тоже по-русски сказал тот. – Об одном прошу – оставьте меня и мою семью в покое. А насчет скорпиона… Сказано: скорпион – брат змеи. Значит, ты змея, Аман.
Учитель досадливо крякнул, но промолчал.
Мальчик принес скатерть, расстелил между гостями и больным отцом, положил лепешки, расставил пиалы, затем внес два фарфоровых чайника с отбитыми носиками и молча вышел, неслышно прикрыв дверь.
«Они, что же, выходит, братья?» – недоумевая, подумал Марат.
Шумно отхлебнув чая, Аман проговорил насупленно:
– Сын Назара к тебе пришел. Ты помнишь Назара?
Какая-то неведомая сила толкнула Караджу, он вскинулся, сел, одеяло скользнуло с груди, открыв ее взору – могучую, густо поросшую черными волосами, в которых поблескивали уже белые нити. Словно желая прикрыть ее, Караджа провел широкой ладонью по мускулистым полудужьям, и ладонь замерла с левой стороны, там, где сердце. Глаза были растерянные, испуганные, шарили по лицу гостя.
– Какого Назара? – хрипло спросил он.
– Ты чего испугался, Караджа? – Аман внимательно вглядывался в его лицо. – Чего всполошился?
Но тот уже совладал с собой, откинулся на подушку, натянул одеяло до подбородка.
– Это какого же Назара? – словно не расслышав, снова спросил он, продолжая шарить глазами по лицу Марата, отыскивая в нем что-то, ему одному ведомое. – Не могу вспомнить… В Иране во время войны служил со мной Назар Бадаев из Ташауза. Не его сын?
– Назара Уста-Кую, – жестко напомнил учитель. – Как же ты мог забыть?
– А… – словно простонал Караджа и прикрыл глаза.
– Ты же работал с ним, колодец рыл, – продолжал Гельдыев.
– Работал, – как эхо повторил Караджа, не открывая глаз, помолчал, хрипло дыша, и добавил уже раздраженно: – Мало где я работал, с кем работал… И потом – не работал, а учеником был, да недоучился, ушел.
– Сын про отца ничего не знает, – упрекнул его учитель. – Тебя приехал расспросить. Ты один можешь помнить.
– Помнить… Что я могу помнить? Сколько лет прошло… Что все знают, то и я знаю.
– А письмо, которое твой отец показывал? – тихо сказал учитель и напряженно потянулся к больному, ожидая ответа.
Но у того только веки вздрогнули, глаз же он не открыл и ответил тоже очень тихо:
– Нет у меня отца, ты это знаешь. Я всю жизнь своим трудом кормлюсь.
– Но тогда отец еще с вами жил, мог же рассказать что-то, – настаивал Гельдыев, с прежним напряжением вглядываясь в лицо Караджи.
– Нет у меня отца, – упрямо повторил тот. – И ничего он мне не рассказывал.
– Что за письмо? – спросил Марат.
Повернувшись к нему, Гельдыев ответил хмуро:
– Тачмамед письмо от Назара… ну говорили так, что от Назара привез, а в том письме Назар будто бы писал односельчанам… не знаю точно, но ругал Советскую власть и сообщал, что за границу ушел с семьей.
– Как же – с семьей, если я здесь? – чувствуя, что кровь приливает к лицу и сердце начинает торопиться, воскликнул Марат.
– Я же сказал: точно не знаю, люди рассказывали, – смутился Аман. – Будто не на учебу посылают, а заставляют другую веру принимать и детей отбирают.
– Чушь какая-то, – приходя в себя, пожал плечами Марат и вопросительно посмотрел на Караджу, ожидая, что тот опровергнет эти нелепые россказни.
– Сын Назара к тебе пришел, – понимая его состояние, напомнил хозяину учитель, – он правду знать хочет. Он имеет на это право – он сын.
У Тачмамедова дыхание было прерывистое, в груди хрипело, посвистывало. Он упорно молчал и глаз не раскрывал.
– Письмо это сохранилось? – спросил Марат.
– Времени-то сколько прошло, – напомнил учитель и снова обратился к хозяину: – Так ничего и не скажешь сыну Назара?
Караджу одолел кашель, он приподнялся на локте, схватился ладонью за грудь и содрогался всем телом. Однако глаз не раскрыл, из-под прижмуренных век покатилась по щеке слеза. Когда отпустило, он снова лег и руки сложил поверх одеяла, которое вздымалось на его груди от тяжелого хриплого дыхания.
– Фельдшера я тебе пришлю, – проговорил учитель и, хватаясь за край кованого железом сундука, неловко вытягивая ногу, стал подниматься. Марат помог ему. Они пошли к двери, и тут, вдруг вспомнив, Марат резко обернулся:
– Если он врагом Советской власти был и такое письмо написал, зачем же имя мне такое дал – Марат? Революционное имя?
Вот когда Караджа раскрыл глаза. Они слезились после недавнего приступа кашля, но смотрели зорко, пытливо.
– Мурад твое имя, – прохрипел он. – Это я точно помню – Мурад.
И снова закрыл глаза.
По той же тропинке шли они вдоль арыка обратно, к центру поселка. Марат брел за учителем в подавленном молчании. Только на развилке дорог, где ему надо было сворачивать к шоссе, спросил:
– Вы братья?
Брезгливая гримаса исказила лицо Амана.
– Не родные, отцы наши были братья.
– Двоюродные, значит.
– Да. Мой отец у его отца овец пас. Вот такие родственники. – И крепко пожав руку Марату, сказал: – Вы адрес оставьте, если что всплывет, я дам знать.
«Куда ж мне теперь уезжать? – подумал Марат, вырывая из блокнота листок, на котором написал сбой адрес. – С земли отцов… Никуда мне теперь уезжать нельзя, мне теперь только лечь в эту землю можно».
2
Его никогда не тянуло больше в «Захмет». Гельдыев вестей не подавал, ничего нового там, видимо, не всплывало, и с годами охранительное защитное чувство прикрыло пережитое там некоей пленкой, позволяющей удерживать в памяти тягостные подробности встречи с Караджой и в то же время делающей их как бы музейными, отторгнутыми от нынешней жизни Марата. А потом и вовсе улеглось, устоялось, ряской подернулась вода в горьком том омуте, без опаски можно было глядеться. И сейчас он легко решился поехать в тот колхоз, никакие предчувствия не остановили, не удержали его.
Микроавтобус проскочил город, и вот уже раскинулся по обе стороны дороги зеленый весенний простор. Даже там, где барханы, подходили к самой обочине, бока их зеленели молодой травой, такой нежной и слабой, что даже на ходу она вызывала нежное чувство умиления.
Облака шли высоко и были редки, степь и предгорные холмы лежали в пятнах тени и света, у гор же собрались темные тучи, прикрыли вершины, а в ущельях белел густой туман.