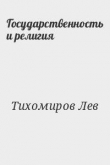Текст книги "Год спокойного солнца"
Автор книги: Юрий Белов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
– Что же все-таки? – спросил Марат.
Прикрыв глаза, чтобы память сосредоточить, тетушка Биби произнесла чуть хрипловато, точно сразу в горле у нее пересохло:
– «Здравствуйте, люди! Я, Назар, пишу вам и тебе, Казак… никогда, потому что не могу такого стерпеть… не учеба, а заставляют русскому богу молиться… отбирают детей, чтобы… Не верьте… дороже родной земли нет ничего… за границу уходить…» – Она раскрыла глаза и, вздохнув, сказала: – Вот и все. Эти только слова и остались.
Они посидели тихо, даже Вовка застыл меж колен у отца и смотрел на Назарова с любопытством.
– Да, – попытался улыбнуться Марат, – слово сказанное – одно, а написанное – это уже документ, вы правы. Так я возьму это?
– Конечно, конечно, – быстро закивала тетушка Биби. – Пусть у вас хранится теперь. Память об отце.
– Горькая память, – снова невесело улыбнулся Марат.
– Назар был хорошим человеком, так Казак мой говорил, а он разбирался в людях, – строго возразила тетушка Биби. – Вы отца не судите. На всяком суде доказательства нужны точные. А Тачмамеда слова никакой честный суд не посчитает доказательством, потому что он – враг. И обрывок этот – тоже не доказательство. Может, в письме самых главных слов и не хватает.
Марат понял, что она слова мужа повторяет, и благодарно кивнул ей:
– Спасибо. У вас доброе сердце, тетушка Биби.
– Мой отец завещал мне строить колодцы в пустыне, – сказал Ата, – я по этому пути и пошел. А вы знаете, что ваш отец хотел, чтобы его сын стал летчиком?
– Летчиком? – удивился Марат.
– Возница рассказывал, на чьей телеге уезжали вы из села, что в пути самолет над вами пролетел. Назар подбросил вас и спросил: – «Хочешь быть летчиком? Тоже будешь летать над землей».
– Знаете, – оживляясь, вспомнил Марат, – я в юности мечтал летать – как Ариэль. Помните у Беляева? Если бы не война, может быть… Впрочем, я наверное стал бы художником, да не повезло – контузило в Ленинграде, отнялась рука, а потом уже не до того стало.
– Вы на войне были? – спросил Вовка.
– Ну не совсем на войне, в блокадном Ленинграде оказался, работал на заводе. А бомба как раз угодила в наш цех.
– Я по телеку видел блокадный Ленинград, – серьезно сказал Вовка. – Страшно. Но я бы тоже не забоялся.
Отец потрепал его по голове, а тетушка Биби всплеснула руками:
– Не дай бог испытать вам войну.
– Ой, – всполошилась вдруг Мая, – заговорились, а про чай забыли. Я сейчас свежего заварю.
Они еще долго сидели все вместе, беседа шла легко и было Марату просто с ними, раскованно, хорошо.
– Знаете, – сказала ему Мая, когда Марат собрался уже уходить, – а мы с вами почти коллеги – я ведь тоже литератор: русский язык и литературу в школе преподаю.
– Вот как! – удивился Марат и подумал: какая интересная семья, у каждого что-то свое, очень ценное, особенное, туркменка учит детей русскому языку, про Пушкина, Толстого, Чехова, Горького рассказывает – как необычно.
– Заходите почаще, теперь дорогу к нам знаете, – улыбнулась Мая.
– Всегда будем рады, – подхватила тетушка Биби. – В воскресенье мы пироги всякие печем, отведаете. С женой приходите, с детишками… у вас, наверное, большие уже.
Он смутился и промямлил, потупившись и чувствуя, что краснеет:
– Да я бессемейный… Так уж вышло. Бобылем живу.
Короткая заминка произошла, всем им стало неловко, а у тетушки Биби даже глаза повлажнели от жалости.
Ата вызвался его проводить, и Марат догадался, что разговор будет о письме – есть, наверное, что сообщить наедине. Но вышло все по-другому.
17
Ночь уже наступила. На бетонных столбах горели лампы и окна в домах – светились, но деревья вдоль улицы разрослись густо, и хотя только-только прорезались молодые листочки, тротуар был затемнен, лица не разглядишь.
– Вы об этом случае… ну, на участке Совгат – в газету писать не собираетесь? – нерешительно спросил Казаков.
Марат всем существом своим почувствовал это его борение – и как ему неловко говорить о том случае, и как – боится он, что неправильно его поймут, не так истолкуют сказанное, но и нестерпимое желание выяснить, раз уж довелось им встретиться и вроде бы подружиться, поскольку важно было знать, надо ли ждать удара еще и с этой стороны. Но ожидая совсем другого разговора, он испытал разочарование и некоторую даже неприязнь к Казакову. Видно, от начальства влетело, пропесочили как следует, вот и боится, что газета подольет масла в огонь, оскандалит…
– Попало вам? – спросил он, не отвечая.
– Да было дело, – неохотно ответил Ата, помолчал и вдруг горячо заговорил, полуобернувшись и пытаясь разглядеть выражение лица собеседника, понять, как тот реагирует: – Разве ж меня это беспокоит! Не о том заботы. Мы, строители, к выговорам привыкли. Я вот все думаю… И горько на душе, и обидно, и стыдно за себя. Может, в самом деле очерствел, перестал красоту замечать?.. Да нет, – сразу же отбросил он эту мысль, – и это не так. Тут другое. Я ведь пустыню люблю, как иные лес любят, луга, речку или море – у каждого свое, а у меня – пески. Рассвет люблю в пустыне встречать – волнение охватывает каждый раз, как будто впервые такое вижу. Но моя любовь к пустыне не такая, как у Гельдыева, учителя этого. Я для своего удовольствия люблю, потому что радость приносит, а он еще и боль ее чувствует, сострадание к ней имеет, защитить ее готов – и защищает, страдания ее облегчает, врачует как может. Вот ведь в чем дело. Понимаете?
– Более или менее, – улыбнулся его горячности Назаров.
А тот улыбку в его голосе уловил и еще жарче продолжал, – может быть, улыбка эта ему усмешкой показалась:
– Но это же так важно! Я раньше, до встречи с Гельдыевым, думал о себе: вот какой молодец, великое и благородное дело делаю, обводняю пустыню… – Уловив движение Марата, предотвращая вопрос или возражение, поспешно взял его под руку: – Подождите, не сбивайте меня. Я знаю: действительно великое и действительно благородное дело. Но как я его делаю – вот в чем вопрос! Гельдыев же прав – дальше своего носа, то есть дальше своего конкретного дела, ничего не вижу, не знаю и знать не хочу. Да, не хочу знать, мне собственных забот хватает – у меня план, у меня техника, у меня люди, успевай крутиться, некогда мне еще и вопросами экологии заниматься. Есть люди, которым за это зарплату платят, вот пусть они и занимаются! Ведь так рассуждаем, так, не спорьте. Не умеем мы сопрягать интересы своего предприятия и интересы природы, не умеем. А в итоге? В конечном итоге не умеем сопрягать интересы своего конкретного дела и интересы государства, народа.
– Это, пожалуй… максимализм, – теперь уже явно усмехнулся Назаров. – Как раз важно, чтобы каждый честно делал свое дело, вот тогда…
– Вы так думаете? – внезапно остановившись, пытливо вгляделся в него Ата, но ответа дожидаться не стал, подтолкнул вперед и на ходу заговорил уже спокойно, раздумчиво: – Может быть, максимализм тут даже на пользу. Давай порассуждаем вместе… Я… вернее мы своей работе подчиняем все, ни с чем не считаемся, у нас все средства хороши, лишь бы срок, лишь бы план дать, а лучше перевыполнить – тогда и премии, и почет. Славу и деньги все любят, чего тут скрывать. Вы вот как к славе относитесь?
– Как сказал поэт Виктор Гусев, слава приходит к нам между делом, если дело достойно ее, – снова не смог сдержать улыбку Марат.
– Значит, все правильно, – сразу же подхватил Ата. – Раз переходящее знамя дают, на совещаниях хвалят, выходит, дело достойно славы. А если приглядеться повнимательнее? В пустыне издревле так: где вода – там жизнь. А у нас страшный парадокс: чем больше воды, тем меньше растительности. Да, да! Вы поезжайте, посмотрите. Если колодец маловодный, вокруг него овцы еще могут корм себе отыскать, а где воды вдоволь – там мертвая зона, все вытоптано, вытравлено, идет активный процесс обарханивания. А вдоль водоводов что делается! На пять километров по обе стороны травники живой не сыщешь, голый песок. Гонят вдоль трубы и колхозные отары, и личный скот, находятся мудрецы – дыру пробьют – вода прямо в рот льется… и в песок уходит. А на мокром месте все равно ничего не вырастает – так земля копытами измолочена.
– Что ж, выходит, Пэттисон прав? – уловив паузу, осторожно спросил Назаров.
– Нет, конечно, – устало, точно на свою исповедь потратил все силы, ответил Ата. – Пески нас не засыпят, мы не Австралия. Вооружены против пустыни хорошо. Может быть, даже слишком хорошо, – с затаенной болью добавил он. – И осознав свое могущество, подчас стали забывать, что сами мы, люди, – всего лишь частица природы. Я на днях за город поехал на холмы. Глянул оттуда – пустыня далеко, еле видна, и так мне тревожно стало… Сначала не разобрался в чем дело, а потом понял: мы же отдаляемся от пустыни, теряем ее, даже работая в самом ее сердце. Придет время, когда нам нечего будет показать в Каракумах своим детям, кроме рукотворных творений своих.
– Мы уже сейчас показываем эти творения с гордостью, – не понял его Марат. – Разве эта гордость незаконна?
– Законна, – совсем уже тихо, со вздохом согласился Ата. – Но показываем мы только то, что создаем. А вот то, что разрушаем при этом… в лучшем случае стараемся не замечать.
Ата замолчал, и они пошли молча.
Прохожих почти не было, только на скамеечках возле подъездов сидели кое-где люди, в одном месте играли в нарды, и долго было слышно, как стучат кости.
– Вы спросили, не собираюсь ли я писать об этом в газету, – проговорил наконец Назаров. – А я ведь из газеты ушел. Сегодня как раз редактор подписал мое заявление.
– Правда? – не удивленно, а скорее разочарованно отозвался Казаков.
Марату хотелось, чтобы Ата стал расспрашивать его, а он бы рассказал, как устал, что годы уже не те и здоровье, пора и на спокойную работу, и чтобы тот посочувствовал ему, но Казаков ничего больше не сказал, и он произнес, словно извиняясь:
– Так вот…
Ата не спросил даже, куда переходит Назаров, видно, ему не интересно было, и это вызвало у Марата обидное чувство.
– Газета, она, знаете… – начал он, по замолчал, поняв, что нелепо оправдываться, да и почему, собственно, нужно оправдываться. Что он, совершил что-то предосудительное.
– А я думал, вы мне во всем этом поможете, – вздохнул Ата. – Если бы газета взялась…
«Знал бы ты о Севкиной статье», – подумал Назаров и, досадуя на себя, сказал:
– Там, кроме меня, есть кому взяться.
– Это конечно, – огорченно согласился Ата. – Но мне казалось, вы к этому делу неравнодушны.
В ответ Марат только плечами пожал. Ата не мог в темноте увидеть этого жеста, но почувствовал или догадался о нем и опять вздохнул. Все-таки очень наболело в нем то, о чем затеял он поздний разговор, и он не сдержался, сделал еще одно признание, наперед зная, что говорит это зря:
– Я совсем голову потерял, не знаю, что предпринять. Какая-то ломка в представлениях нужна, но как подступиться…
Снова ничего не ответил ему Марат, и молчание их стало вдруг тягостным.
– Вы извините, я не решился снова предложить вам свою «Яву», – сказал Казаков, и это прозвучало как намек, что пора прощаться. – Вам далеко до дому?
– Теперь ужо близко, спасибо, – с облегчением ответил Назаров. – И за письмо спасибо. Хотя если честно, сам не знаю, зачем оно мне… такое.
Они пожали друг другу руки и расстались без недавнего радушия.
Марат пошел своей дорогой с тяжелым сердцем. Не сделав и десятка шагов, мучимый сознанием вины перед Казаковым, он не выдержал, остановился и посмотрел назад. Ата уходил неторопливо, закинув рука за спину. Шаги его гулко раздавались в ночной тишине. «Это же навсегда, – подумал Марат с внезапной тоской. – Уйдет, и мне уже никогда не бывать в их доме, не вернуть его расположения».
Сердце сжалось, и он пошел, почти побежал следом.
– Ата! Постойте, Ата!
Тот оглянулся недоуменно, подождал молча, навстречу не пошел и ни о чем не спросил.
– Ата, – взволнованно проговорил Назаров, тяжело дыша от короткой пробежки, – я не хотел, чтобы вы плохо думали обо мне. Я не потому отказываюсь, что не хочу вас поддержать… и не отказываюсь вовсе… У меня теперь будет много свободного времени, и я смогу писать о чем хочу. А газетную работу бросаю – не по мне стала. Вот пробежал несколько шагов – и одышка. А корреспондента, говорят, ноги кормят. Это кто не знает, тому кажется, что журналистская работа в газете нечто легкое: пришел, собрал материал, написал… А в редакции вечная спешка, нервотрепка… Если я ввяжусь в эту историю, мне не вырваться из газеты, тут ведь одной статьей не отделаешься, надо с головой влезть… Да, меня взволновало то, что вы говорили, я только вида не подавал. Но не потяну я такую тему, физически не потяну. Вы уж не судите строго, не думайте…
– Ну что вы, – мягко остановил его Казаков, – я все понимаю.
– А чем смогу – помогу, – воспрянул духом Марат, хотя и холодные нотки звучали в голосе Аты. – О Гельдыеве напишу обязательно. Я его уже четверть века знаю. Там целая история… В гостях у него был. Такой интересный человек! Он ту саксауловую рощу по зернышку сажал. Пешком ходил на протезе и сажал. Сын того Бекмурадова, который с басмачами в село ворвался и письмо моего отца показывал, саксаул на этом месте весь вырубил, а Гельдыев решил восстановить. А во дворе у него целый ботанический сад – просто чудо! А библиотека! Глаза разбегаются… Книги о растениях, о животных… Вот вы знаете, почему верблюд может долго не пить?
Ата дернул плечом:
– Так устроен…
– А он знает. И много еще всякого… Я обязательно напишу о нем очерк. И о вас…
– Ну про меня, наверное, фельетон писать надо, – хмуро возразил Ата.
– Да что вы! Какой там фельетон! – Марат вдруг осекся, вспомнив подготовленную им статью «Кирка против бура?».
– Про меня не надо, – попросил Ата. – И не переживайте, что так вышло. Желаю вам успехов на новом месте. Всего доброго.
Пожимая протянутую руку, Марат снова испытал то тоскливое чувство покинутости, которое заставило его обернуться и позвать Казакова, – выходит, зря? Все у них разладилось, ничего уже не поправить. Но он не хотел, не хотел терять его…
– Мы так далеко ушли от вашего дома, – проговорил он виновато. – Давайте теперь я вас провожу. – И боясь отказа, взял его под руку и пошел рядом. – Хотите, я вам о себе расскажу. Всю жизнь чужие биографии выслушивал, а о себе ни разу никому не рассказывал… Жена не заругает, что припозднились, не будет волноваться?
– Да вот будет автомат – позвоню, – все еще холодновато, но стараясь смягчить тон, ответил Ата.
– Тут есть по пути. Обязательно позвоните, я ведь вас скоро не отпущу. – Марат вдруг засмеялся тихо, чуть нервно. – Признаться, мне очень подружиться с вами хочется.
Такая неожиданная откровенность поразила Казакова. Невольная обида и настороженность исчезли, и он уже с новым добрым чувством посмотрел на своего спутника.
– Мне тоже, – сказал он и почувствовал, как дрогнула рука Назарова, лежащая на сгибе его локтя.
18
«Славный, славный человек, – думал Марат с улыбкой, расставшись, наконец, с Казаковым. – Как хорошо, что свела нас судьба. Отцы наши дружили, и мы подружимся обязательно».
Ему долго не попадался исправный автомат – то трубка была оборвана, то монету глотал, а не соединял. Он уже пожалел, что пошел не по той улице, откуда Ата звонил домой. При нем Марат, разумеется, не мог связаться с редакцией, а теперь вот столько времени потерял зря, Наконец, все оказалось на месте, монета провалилась, в аппарате щелкнуло, и он услышал знакомый деловитый голос Сережи Гутова, дежурного секретаря:
– Редакция.
– Привет, старик, – бодрым голосом сказал Марат. – Как сегодня газета идет?
– А, ренегат, – узнал его Гутов и беззлобно засмеялся. – Тебе что, поиздеваться хочется? Но зря торжествуешь – как раз сегодня газета идет почти по графику. Внутренние полосы в машину взяли.
– Везет тебе, – позавидовал Назаров. – Я в последний раз дежурил – чуть не до утра провозились.
– У тебя дело или так? – спросил Гутов. – А то, понимаешь, выпускающий из цеха по внутреннему звонит… Подожди минутку. Это не тебе, Марат. Так что у тебя?
– Да плевое дело, – заспешил Назаров. – Там в папке уже полмесяца статья лежит. «Кирка против бура?» называется. Так ты напиши «в разбор», пусть в гарт бросят.
– Какой разбор! – закричал Гутов. – Какой гарт? Ты в своем уме? Она же в номере стоит. Шеф только концовку чуть изменил и велел заверстать. А что случилось?
У Назарова екнуло сердце.
– Снять надо, Сергей, – попросил он. – Пока не поздно…
– Да поздно, старик, поздно. Я же сказал – в машину взяли. Полосы переливать? А что, серьезный ляп? – спросил он, понизив голос, и снова крикнул сердито: – Да погоди, я по другому телефону говорю, А, Марат?
– Нельзя ее давать, – сникая, неуверенно уже попытался настоять на своем Назаров. – Нельзя и все. Долго объяснять.
– Ну ты даешь! – снова засмеялся Гутов. – Может, сковырнуть что? Слово забить?
– Нет, ты времени не теряй, у тебя выпускающий на проводе, скажи, чтоб переверстали.
– Если так, тогда ты самому звони, – рассердился Гутов. – Пока не уехал из редакции.
Марат повесил трубку, но ладонь не разжал, готовый набрать номер редактора. Однако смелости недоставало. Какой смысл звонить? Полоса подписана, сейчас печатники приправляют и вот-вот запустят ротацию. Надо иметь веские причины, чтобы все остановить, вынуть набор, поставить на его место новый, снова отлить полосу… формально-то в статье все правильно… Но Ата… Как он завтра ему в глаза посмотрит?..
Ладонь на трубке вспотела, но он все сжимал ее, возбуждая в себе решимость. В конце концов доброе имя человека – разве это не веская причина для того, чтобы задержать выпуск газеты? Доброе имя хорошего человека…
Набирая номер, он старался придать голосу нужную уверенность и бодрость.
– Добрый вечер, Олег Николаевич. Я понимаю, что несколько поздновато, но обстоятельства обязывают: во-первых, хочу забрать заявление об уходе…
– Ты давай уж сразу, «во-вторых», – ворчливо перебил его редактор. – Тут ко мне Гутов зашел, все рассказал… Что это ты на ночь глядя фортели выкидываешь?
– Это не фортель, – вдруг рассердился Марат. – Статью действительно надо снять. Она пролежала в секретариате…
– А я днем на исполкоме был, кое с кем консультировался. И мне, наоборот, сказали, что очень своевременная тема. Ты эту историю с американцем слышал?
– Я просто был там, на участке Совгат, – крикнул Марат. – И поэтому с полным основанием…
– Тем более, – тем же ворчливым голосом, не дослушав, веско вставил редактор. – У нас, бывает, прикрываясь лозунгами научно-технической революции, под видом новшеств внедряют всякую незрелую чепуховину. Вот и в данном случае колхозники выступают против чрезмерного использования техники на пастбищах. Так сказать, разрушители машин. Конечно, я в смысле юмора, нельзя сравнивать с выступлениями луддитов, – быстро вставил он, видимо, испугавшись, что его не совсем правильно поймут, обращаясь, может быть, даже не столько к Назарову, сколько к находящемуся в кабинете Гутову, любителю покритиковать на редакционных летучках. – То было стихийное движение, луддиты видели в машинах своих угнетателей. У нас же совсем другое. Речь идет о разумном использовании техники. Пастьба – дело тихое, это любой чабан скажет. Помните, в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов подняли шум вокруг Байкала. Так вот как бы нам не пришлось скоро вводить рубрику «В защиту Каракумов». Словом, статья правильная, я кое-что подправил в том смысле, что, мол, трудно пока предположить кто окажется победителем в споре кирки и бура, но что к спору этому прислушаться соответствующим руководителям следует. Подправил и полосу подписал. Сейчас мне вот еще одну принесли, надо читать. А насчет заявления – приходи утром на работу, можешь его забрать и порвать или оставить на память о неразумном шаге. Газетчик навсегда останется газетчиком. Спокойной ночи.
– Подождите, Олег Николаевич, – быстро сказал Назаров. – Мы с Казаковым, о котором в статье речь идет, весь вечер по улицам бродили, много о чем говорили, он как раз и озабочен бесхозяйственным отношением к пастбищам, он мне столько всего понарассказал, может, и вправду надо рубрику про Каракумы вводить…
– Завтра, завтра, – торопливо проговорил редактор. – Меня полоса ждет.
В трубке пошли отбойные гудки.
«Как же я теперь с Казаковым встречусь? Как объясню ему? – с болью подумал Марат. – Выходит, я все время камень за пазухой держал… Вот стыд-то!» Надо позвонить пораньше, объяснить все, как было, признаться, что сглупил, покаяться, дать слово помочь ему, поддержать… Должен же он понять, поверить…
Утром он позвонил Казакову, но телефон не отвечал.
Весь день Марат был как в воду опущенный, все пытался представить, как там Ата, и сердце сжималось от дурных предчувствий. Позвонить Казакову еще раз, а тем более приехать в трест и поговорить с ним у Марата не хватило духа. Успокаивал себя: пусть пройдет немного времени, поуляжется…
А вечером произошла встреча, которой он никак не ожидал и которая все перевернула…
19
С Казаковым же в это время случилось вот что.
Накануне вечером он вернулся домой сильно возбужденный. Возбуждение было веселым, и все-таки Мае что-то не понравилось в муже.
– Что, загулял, казак? – спросила она с шутливой строгостью. – Где это вас до такого позднего часа носило?
– Ой, Майка, – обнял Ата жену и так, привлекая к себе одной рукой, чувствуя плечом доверчивое ее плечо, повел в комнату. – Этот вечер я надолго запомню. Тебе Назаров понравился?
– Вроде бы неплохой человек, – уклончиво ответила Мая.
– Вроде, – передразнил Ата. – Очень даже неплохой. Он честный человек, это уже много. Мама и Вовка спят? – спросил он вдруг озабоченно.
– Конечно. Время-то – посмотри…
– Тогда мы тихо, – не отозвался на ее упрек Ата. – Садись на диван, я тебе рассказывать буду. Если разойдусь, ты меня приструни.
– Может быть, завтра? – несмело спросила Мая.
– Да что ты! – взмахнул руками Ата. – Я пока не выскажусь – не усну. И не перебивай, пожалуйста. Знаешь, о чем мы говорили? О пустыне. О нашей вине перед ним и перед пустыней. И бог знает о чем еще – о жизни! В ней ведь все переплетено, таким тугим узлом связано… И знаешь, Назаров, только я разговор с ним о своих сомнениях завел, сразу замкнулся. Я поначалу не понял. Э, думаю, ты, брат, только на словах активную жизненную позицию занимаешь, а как до дела доходит – в кусты…
– Ан нет, – с улыбкой подсказала Мая, стараясь как-то притушить его горячность.
– Ан нет, – согласился он, но шутливого ее тона не поддержал. – Там другое… Собственно, с ним то же произошло, что поначалу со мной, когда учитель Гельдыев не пустил нас в свою рощу. Во мне все тогда восстало. Я воду в пустыне добываю. А туркменскую пословицу помнишь? Счастлив тот, кто имеет пустыню и воду. Пустыня наша родина, горькая, если нет воды, жестокая даже, но если у человека есть вода – он счастлив на своей земле. Стало быть, я делаю людей счастливыми. Так кто же смеет обвинять меня – в чем! – в нелюбви к родной земле! Все бунтовало во мне, но и тревога поселилась в душе. А когда я поостыл и стал думать, вспоминать, прикидывать, то вышло, что не такой уж я благодетель для пустыни. Я свое дело делаю, может быть, даже хорошо делаю, с творческим, так сказать, подходом, но я только свое дело и вижу, а что чуть в стороне – это уже не мое, меня не касается. И многие другие так. Понимаешь, какой-то особый вид эгоизма – производственный. Канал строят, а о дренаже не думают – не наше дело. А пройдут годы, и на борьбу с грунтовыми водами выбрасывают огромные средства. Геологи из Дарвазы в Сарыкамыш тягачами буровую вышку тянули. И снова: смелое решение, огромная экономия! А в результате на двести пятьдесят километров протянулась через пастбища полоса обарханенных песков, и никто не знает, когда эта мертвая зона опять оживет, и оживет ли…
– Ата… – Она укоризненно посмотрела на него и глазами показала на дверь, за которой спали матушка Биби и Вовка.
– Я помню, – понизил он, голос. – Тот американец – я рассказывал тебе – про австралийские пустыни толковал, как они на поля наступают. Да я и без него знаю. Сахара вон за каждое десятилетия по сто с лишним километров к югу продвигается, уничтожая все новые площади плодородной земли… Так он меня спрашивает: а вы этого не боитесь? Я в ответ чуть не ляпнул: скорее наоборот, мы нашу пустыню в цветущий сад превратим. Похвастаться хотел, да вовремя сдержался. Это же нелепость – превратить пустыню в цветущий сад. А пастбища? А отгонное животноводство? Ликвидировать, что ли? И блаженствовать под сенью садов? Чепуха! Пустыню сохранить надо такой, какая она есть. А для этого следует научиться разумно хозяйничать на своей земле, беречь ее, щадить, хоть и называется она пустыней. А мы… За свое дело болеем, ищем рациональные решения своих задач, находим и претворяем, премии получаем и благодарности, а как эти решения в смежных областях отзовутся – это нас не волнует. А вот учителя Гельдыева волнует. Ему пустыня как таковая дорога, без прикрас, и он ее уберечь хочет, детей этому учит. И против бульдозера как против танка пошел, связки гранат только и не хватало…
– Но ты же нарочно, не со злым умыслом, а ради улучшения пастбищ, я так понимаю, – начала жена, но он так и вспыхнул:
– Да что ты такое говоришь! Я же не отрекаюсь от того, что делал и делаю. Но… – Ата помрачнел и сказал с обидой: – Меня учитель Гельдыев упрекнул: не на благо, мол, а во вред пустыне. А если пустыне во вред, то как же может быть на пользу пастбищам, на пользу людям?.. И я это так понял: земля для меня стала всего лишь местом работы. Как заводской цех для технолога, например. Производственная площадь. Улучшай, совершенствуй, перестраивай без оглядки – лишь бы эффективность была, лишь бы труд людей облегчить, механизировать, поднять производительность. Но ведь я не в цехе работаю, а на родной земле, на живой земле, чуткой к каждому моему шагу…
– Выходит, все зря? – упавшим голосом спросила Мая.
– Что – зря? – не понял Ата.
– Ну… бессонные ночи, вывернутый колодец, ваши выдвижные лапы… И Якубов прав? – Она испуганно оглянулась на дверь.
– Нет, не зря, уверен, что не зря, – снова загорелся он, отвечая ей звенящим от волнения шепотом, тоже с оглядкой. – И Якубов не прав. Разве можно остановить технический прогресс? Еще и не то будет! Сибирские реки вон собираются к нам повернуть… Да мало ли… Но что бы мы ни делали, какие бы грандиозные задачи ни решали, мы не должны забывать о пустыне. О пустыне как экологической среде, географической зоне, которая является неотъемлемой частью всей нашей планеты. И прежде чем делать что-то, спрашивать себя: а не нанесем ли урон природе? И решительно отказываться даже от очень выгодного проекта, если такая опасность есть. Да и сообща поумерить свой пыл. А то возомнили: человек – покоритель природы! Знаешь, мне Марат сказал, что мичуринские слова язвительные острословы уже в новый афоризм переделали; «Мы не можем ждать милостей от природы после того, что мы с ней сделали». Ядовито, а если вдуматься…
– Все это хорошо, но тебе отвлечься надо, – обеспокоенно остановила его. Мая. – Ты же уснуть не сможешь, а завтра на работу.
– Я усну, – отмахнулся Ата, – и буду спать как убитый. Но я тебе про Назарова не досказал. Его душу тоже Гельдыев разбередил. Но едва я заговорил с ним, он в свою раковину сразу ушел. Будто совсем ему неинтересно. Жаловаться стал: возраст, мол, ухожу из газеты на спокойную работу. Но я же вижу: никуда он не уйдет, не такой человек. Расстались, и вдруг он догоняет. Не могу, говорит, так вот уйти, я подружиться с вами хочу. Пошли, стали опять говорить. В нем и прорвалось… Ходили по ночным улицам и, как мальчишки, громко, перебивая друг друга, хватая за руки, изливали душу. Надо же что-то делать, чтобы разноголосицы не было, чтобы ведомственные барьеры не мешали соседям видеть друг друга, чтобы сообща о родной земле думать и заботиться!..
– Ты прости, Ата, но тебе в самом деле надо переключиться, – настойчиво повторила Мая. – Хочешь, я тебе о судьбе Дантеса расскажу? Ты же вроде бы Пушкиным увлекся…
В последних ее словах прозвучала легкая ирония, он обиделся и ответил резко:
– Пушкиным – да. Но не Дантесом. – Все-таки Ата никак не мог переключиться на новую тему. – На кой ляд он мне? У меня вон с пустыней столько проблем…
– А я вот собираюсь ребятам своим рассказать, – упрямо возразила Мая.
– Нашла чего! – Ата искрение возмутился. – По мне, так я бы вообще вычеркнул это имя из всех учебников. Забыть раз и навсегда сукина сына!
Решительно поднявшись с дивана, Мая поманила его:
– Иди-ка сюда. У меня такие интересные материалы…
Она не оглянулась, зная, что он пойдет следом, и радуясь, что, кажется, удалось отвлечь мужа от навязчивых мыслей.
20
В спальне у них стоял письменный стол, один на двоих. Сейчас он завален был книгами, раскрытыми на нужной странице или с закладками, и общая тетрадь, исписанная ровным учительским почерком, лежала на стекле.
– Садись и слушай, – повелительным тоном сказала Мая. – Я с тобой категорически не согласна. Судьба Дантеса поучительна, даже очень. Он дожил до глубокой старости и внешне все у него было благополучно. Но только внешне. Старость его не была безмятежной, скорее наоборот – она была мучительна. Судьба словно бы нарочно отпустила ему долгую жизнь – обрекла его быть свидетелем триумфа Пушкина. Думаю, уже одно это – столь мучительная пытка – была бы заслуженной расплатой за содеянное. Но судьба не ограничилась только этим. Неожиданное возмездие настигло его на пороге смерти, и кто знает, может быть он предпочел бы лучше умереть, чем пережить такое…
Ата сидел в кресле, закинув ногу на ногу и сомкнув на колене пальцы рук. Что-то важное, близкое сердцу, давно беспокоившее, но неясное еще, почудилось ему в рассказе жены. И она, заметив вспыхнувший в нем интерес, стала говорить, все больше волнуясь, подавляя в себе это волнение, стараясь казаться спокойной и неторопливой. Но по мере того, как рассказывала она об изгнанном из России офицере Жорже Дантесе, ставшем затем сенатором Франции, одним из участников разгрома Парижской коммуны, ей все труднее было сдерживать себя. И тогда она перестала думать о том, как выглядит со стороны, и даже жестикулировать начала, чего никогда не позволяла себе в классе. Она совсем на девчонку стала похожа, на абитуриентку, сдавшую первый вступительный экзамен в институт. И так милы были ее жесты, так наивны, что Ата, залюбовавшись женой, невольно улыбнулся.
Натолкнувшись взглядом на эту улыбку, она растерянно умолкла, и краска смущения стала заливать щеки.
– Разве это так смешно? – спросила она, отчаянно перебарывая в себе смущение и растерянность, стараясь казаться строгой.