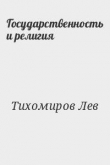Текст книги "Год спокойного солнца"
Автор книги: Юрий Белов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
– А вы чего же? Или рангом не вышли? Вы здесь кем работаете?
– Младший научный сотрудник, – снова вспыхнув, ответила она.
– Младший, но все-таки научный. – ободрил ее Сомов. – А зовут вас как?
– Лена, – быстро ответила она и так же быстро поправилась: – Елена Ивановна Мазуренко.
– Лена лучше, – снова улыбнулся Кирилл. – Тая вот, Леночка, поскольку у нас производство и время, сами понимаете, не ждет, вы бы мне разъяснили по-научному, как нам поступить и чем руководствоваться.
– А водовод для чего?
– Обводнять пастбища.
– Колхозные?
– Само собой, не частный сектор.
– И проект утвержден колхозным правлением?
– Все честь по чести, как должно быть.
– Ну тогда чего же вас смущает? – удивилась Лена.
Тут зазвонил телефон, Лена порывисто встала, схватила трубку.
– Я слушаю… Тише ты. Тебя по всему институту слышно. Что случилось?
«Подруга? – попытался догадаться Кирилл. – Не похоже. Все-таки есть у нее кто-то. Может быть, последний шанс. Замуж-то небось хочется…»
Разговаривая по телефону, Лена отвернулась к окну и Сомов придирчиво оглядел ее фигуру. И почему-то вспомнил Наташку, как она тогда стояла у окна в их ташкентской квартире, а он, одурев от ее близости и казавшейся доступности, облапил… и получил оплеуху.
Неловкое чувство заставило его отвести глаза. На столе перед ним лежала книга в желтой обложке. Под заголовком – «Улучшение пастбищ Центральных Каракумов» – была помещена фотография отары овец на краю саксауловой рощи, точь-в-точь как та, в Совгате. Раскрыв книгу наугад, прочитал: «Кормовая ценность и поедаемость черного саксаула меняется по сезонам года». Далее приводились данные о продуктивности саксаула как корма для скота, и Сомов решил записать их на всякий случай – авось пригодится щегольнуть где-нибудь в разговоре.
– У нас тут работа срочная. Но я что-нибудь придумаю, – сказала Лена и положила трубку. Вернувшись на свое место, смущенно пояснила: – Секретарь вице-президента. Срочно просят прийти.
– Я понимаю, – с хитрой ухмылкой произнес Сомов. – На зов начальства надо лететь стремглав, подобно джейрану. Но закончим наш разговор. Я так понял, что колхоз сам этот вопрос решает…
Она уже торопилась, это видно было, и поспешно кивнула:
– Раз проект утвержден правлением, колхоз сам за все отвечает.
– Ну, Леночка, вы у меня прямо гору с плеч сняли. С виду такая хрупкая женщина – и такую гору. Лучше бы, конечно, документ получить. Сейчас как говорят: без бумажки я букашка. Но раз уж все на симпозиуме… Только чур уговор: если что, Леночка, я опять к вам. Не прогоните?
– Если нужно… – растерянно отозвалась Лена, пряча бумаги в стол.
Сомова обидело ее равнодушие, но проститься с ней вот так холодно и официально он не хотел.
– Может быть, вас проводить? – заглядывая ей в глаза, спросил Кирилл Артемович. – Или подвезти? У меня машина.
– Нет, нет, что вы, – поспешно отказалась она. – Мне тут рядом. Всего доброго.
15
Сева шел по залитой солнцем улице, и каждый, кто видел его – красивого, уверенного в себе, шагающего широко, подумал бы: вот идет счастливый человек, которому легко живется и который многого может достигнуть в жизни. Себя же он таковым не считал и не ощущал в душе ни уверенности, ни легкости, ни тем более счастья, Наоборот, все в чем было возмущено и угнетено, оскорбленное чувство не находило успокоения. Недолгое возбуждение, пришедшее во время разговора с Назаровым, прошло бесследно и действие выпитой рюмки коньяка тоже окончилось, на душе было тревожно и муторно. Хорошо хоть Назаров подтвердил про статью, хоть здесь ждет его успех. Не то скис бы окончательно и наверное напился бы до чертиков. А так только заскочил через черный ход в ресторанный буфет, где давно его знали.
– Здорово, Жорик.
– Привет, Сева. Сто? Двести?
Они с буфетчиком были, наверное, ровесники, но тот смотрел на давнего знакомого с тем терпеливым осуждением, с каким взрослые порой смотрят на шалости чужих детей: плохо поступают, но мне-то какое дело, небось есть кому их учить. Пьяниц он не любил, хотя кормился именно за их счет.
– Сто мало, двести много, налей два по сто пятьдесят, – ответил Сева расхожей шуткой и добавил. – Хватит сегодня ста.
– Что мало? – равнодушно, скорее чтобы только разговор поддержать, спросил Жора, наполняя мензурку. – За рулем, что ли?
– Нет, просто предстоит еще пить сегодня.
– А я думал – машину купил. Давно не забегал. – Буфетчик привычно перелил из мензурки коньяк в стакан и положил рядом конфету. – Сейчас кто без машины, тот и не человек.
– А я принципиально за пешее хождение. – Сева одним духом выпил и, не закусывая, не поморщившись даже, добавил с достоинством: – Захотел бы, давно уже купил, Мне это – раз плюнуть.
Чуть приметный интерес зажегся в глазах буфетчика. Он не очень верил в возможности спортивного тренера, но больно уж жгучая была тема.
– Серьезно?
– Машину? – усмехнулся Сева. – Я же сказал. Хочешь, тебе достану? Или ты привык на толкучке покупать?
– На толкучке новую не купишь, – навалившись на стойку, чтобы поближе быть к собеседнику, проговорил Жора и даже пальцем поманил Севу, оглянувшись воровато: – Ты в самом деле можешь? В накладе не будешь, знаешь меня.
Только теперь позволил Сева себе взять конфету. Разворачивая ее с небрежностью, ответил с деланным равнодушием:
– Есть кой-какие связи… – Ему приятно было видеть заносчивого Жорика в роли угодливого просителя. – На толкучке за старую «Ладу» двенадцать – тринадцать тысяч берут…
Снова зыркнув глазами по сторонам, задержав подозрительный взгляд на проходившей мимо официантке, Жора опять поманил его пальцем и зашептал почти на ухо:
– Я как на толкучке дам, только чтобы новая. «Жигули» любого выпуска, лучше последнего, конечно, но не обязательно.
К буфету подошла молоденькая официантка, с любопытством глянула на Севу, и тот улыбнулся ей обещающе. Она нахмурилась и бросила Жоре:
– Три по сто коньяка.
Не став дожидаться, пока недовольный ее вторжением Жора выполнит заказ, Сева сказал, не сводя с девушки взгляда:
– Так мы еще встретимся и обо всем договоримся. Будь!
– Когда придешь? – с излишней суетливостью спросил Жора.
– Днями! – уже из узкого полутемного коридора ответил Сева.
Настроение у него выровнялось. Солнечный яркий день отозвался в душе потребностью в празднике. А пропади все пропадом! Жить надо, а не хныкать, любить, пока любится, пить, пока пьется!
Увидев телефонную будку, он внезапно решился позвонить Лене.
– Институт, – ответил ему знакомый голос.
– Товарища Мазуренко Елену Ивановну можно? – солидным баском, делая вид, что не узнал, попросил Сева.
– Я слушаю.
– Ленок! – крикнул он ошалело. – Ты можешь отпроситься?
– Тише ты, – сказала она и наверное прикрыла трубку ладонью. – Тебя по всему институту слышно. Что случилось?
– А то случилось, что меня в пух и прах раздолбали на обсуждении, – весело ответил Сева. – Но главное не это, главное то, что я хочу тебя видеть, ну просто жить без тебя не могу!
– Ты где? – помедлив, спросила она.
– Не важно, через пять минут я буду у входа. Скажи, что к президенту Академии наук вызывают.
Она опять помолчала и произнесла неуверенно:
– У нас тут работа срочная. Но что-нибудь придумаю…
Весенний день сиял, солнце уже припекать начинало, а ветерок был свежий, приятный. Сева шел быстро, почти бежал. Он в самом деле через пять минут был на троллейбусной остановке, но Лена еще не вышла. Тогда Сева встал за деревом и стал наблюдать за институтской дверью. От нетерпения его трясло, так ему хотелось ее увидеть, но когда она наконец вышла, он остался за деревом и с улыбкой наблюдал, как она оглядывается растерянно, не видя его, и медленно идет к остановке. А когда она поравнялась с ним, выскочил из-за дерева и спросил строго:
– Что вы здесь делаете в рабочее время, гражданка?
Она вздрогнула от неожиданности. Сева обнял ее, привлек, хотел поцеловать, но она отстранилась.
– Сумасшедший. Ты что, выпил? Среди дня?
Ему не понравился ее тон.
– Только давай без этого, – проворчал он, но тут же оживился. – Был у меня знакомый, компанейский мужик. Анекдот любил на эту тему. Как только выпадет случай выпить в рабочее время, обязательно вспомнит и расскажет. Начальник с подчиненным на охоту поехали. Подчиненный любитель выпить, а при начальнике боится. Утром во время завтрака предлагает робко: – «У меня спирт во фляжке. Может, по маленькой?» Начальник делает страшные глаза: – «Что такое? С утра? Да еще спирт? Можно». Не смешно?
Пожав плечами, она обеспокоенно посмотрела в сторону института и предложила деловито:
– Давай пройдемся. Так что у тебя стряслось?
Как всегда, у нее были старательно уложены волоса и косметика наведена умело, тонко, почти незаметно. Но Сева только сейчас разглядел чуть видные круги под глазами и сеточку морщин возле рта. Она поймала его изучающий взгляд, смутилась на мгновение, но тут же улыбнулась, и улыбка по-новому осветила ее лицо, сделала его почти юным.
– При свете яркого дня он разглядел все ее изъяны и пожалел о клятве верности, произнесенной минувшей ночью, – насмешливо и несколько театрально продекламировала она. – Точно?
Ее ироничность обидно кольнула Севу. Ему показалось, что Лена посмеивается над его поэтическими неудачами и хочет показать, что дело это плевое и любой, стоит только захотеть, может и стихи сочинить, и прозу, и все что угодно. Но его и удивила ее способность угадывать чужое настроение. И впрямь колдунья. Вон в глазах полыхает чертово пламя.
– Смеешься, да? – плаксивым голосом произнес он, словно бы подхватив ее игру и все в игру же и превращая.
Он и обнять ее хотел шутливо, но она снова отстранилась и оглянулась смущенно.
– Не надо, – недовольно проговорила она. – Люди же кругом. И вообще…
– Что «вообще»? – рассердился Сева. – Выпил, да? Ну и что? Не под забором же валяюсь…
– Еще бы не хватало, – зябко повела она плечами.
– Так зачем ты вызвал меня? Там работа…
На ней было шерстяное тяжелое платье с накладными карманами, она в эти карманы засунула руки, и казалось, ей в самом деле холодно. Похоже, она не очень обрадовалась его приходу, и Сева вдруг испугался, что та близость, которая возникла меж ними в ночь после просмотра фильмов, была случайной и ничего уже не повторится, никогда.
– Поедем к тебе, – робко попросил он, уже не веря, что она согласится, и жадно вглядываясь в ее усталое лицо. – Ну поедем, Лен…
Остановившись и внимательно оглядев его, не вынимая из карманов рук, все так же зябко вобрав плечи, Лена странно усмехнулась и ответила просто:
– Поедем.
– Я сейчас! – радостно вскрикнул Сева и выскочил на дорогу ловить такси.
В машине она доверчиво прижалась к нему и затихла. А он сидел, не шелохнувшись, боясь спугнуть ее, обидеть невзначай резким движением, неловкой фразой, и Лена чувствовала эту его боязнь, его настороженную скованность. «Нет, он парень неплохой, – подумала она, – его только в руках держать надо. – И тут же спросила себя: – А кто будет держать его в руках? Я?» Обманывать себя не хотелось, не нужно ей это было, ни к чему лелеять в душе никчемные мечты…
– Отомри, – прошептала она, слегка отстраняясь, и тихо засмеялась.
А когда они вошли в полутемную прохладную прихожую и за ними защелкнулся замок в двери, она положила ему руки на грудь. Снизу вверх глядя в глаза, с непривычки в полумраке не видя их выражения, но чувствуя, как внимает он ее словам, проговорила раздельно:
– Знаешь, я вспомнила про немецкого поэта Штиглица. Где-то прочла случайно… Его жена, поняв, что муж не станет знаменитым, убила себя ударом кинжала в грудь. Так вот: я себя убивать не буду, даже если все литературные критики мира в один голос заявят, что твои стихи, никуда не годятся. Потому что люблю тебя, тебя самого, а не поэта Всеволода Сомова. Но мое признание ни к чему тебя не обязывает, я хочу, чтобы ты знал это.
И чтобы не дать ему возразить, не желая никаких слов, она поднялась на носки и прильнула губами к его губам.
Сева задохнулся от этого неожиданного поцелуя и разом забыл обо всем на свете…
Измученные сладостной лихорадкой, они в изнеможении лежали рядом без всяких желаний, и мысли были ленивыми, тягучими, неясными. По мере того как возвращались растраченные силы, Лена начала ощущать раскаяние и стыд. Хотела убедить себя в том, что любовь все оправдывает, что она и есть та единственная индульгенция, которая в самом деле дает отпущение грехов. Да и грех ли это? Конечно, вместе им не быть, это ясно, но и не чужого же мужа она отбивает и не малолетнего совращает в конце концов. За что же терзать себя?
Не поворачивая головы, Лена скосила глаза на Севу. Он смотрел в потолок, лицо его было спокойным, умиротворенным. Ему ведь тоже хорошо со мной, продолжала оправдываться она, так что же плохого в том, что двум людям хочется быть вместе? Но что-то в Севином лице тревожило ее.
– О чем ты думаешь? – спросила она.
Сева ответил не сразу. И в голосе его зазвучала обида.
– Ты же знаешь… Ты почему-то всегда все знаешь обо мне.
«А ведь верно, – удивилась она, – сейчас он думает о том, что нас ничего не соединяет, кроме плотской любви. Может быть, не так сложно, но…»
– Знаю, – кивнула она. – Но ты не огорчайся, все образуется, все встанет на свои места. Ты только плохо не вспоминай потом обо мне…
– Ты как понимаешь учение Фрейда? – спросил Сева.
«Выходит, я в самом деле знала…» Это открытие огорчило ее. Все-таки она надеялась, что догадка ее не верна, что и какое-то духовное сродство удерживает возле нее Севу.
– Я плохо с ним знакома, – попробовала она уклониться от неприятного разговора.
– Ну как же, – удивился Сева, – о нем столько говорят. Фрейд в основу всего клал сексуальное влечение.
– Либидо, – вставила она.
– Что? – не понял Сева и сразу замкнулся, обиделся.
– Это научный термин, – пояснила она, – означающий то же самое. А вообще-то фрейдизм – модная, но далекая от научной базы философская концепция.
Он продолжал дуться и молчать, скулы его напряглись, взгляд затуманился.
«Самолюбив до ужаса, – поглядывая на него, равнодушно констатировала Лена. И вдруг новая, неожиданная мысль поразила ее: а что если взяться за него всерьез, заставить выбрать тему и засадить за диссертацию? Помочь, конечно, но он, пожалуй, на одном самолюбии многого может достичь. Что-нибудь вроде: влияние родов на потенциальные возможности спортсменок».
Ей стало весело.
– Ты сны помнишь? – спросила она.
– Сны? – Сева посмотрел на нее подозрительно. – При чем тут сны?
– Зигмунд Фрейд разгадывал сны. – Она приподнялась на локте, близко смотрела ему в глаза, и он, почувствовав ее веселость, еще больше насторожился, ожидая подвоха. – Считал, что сон – это прорвавшийся крик души. У него много всяких деталей было разработано: дом с гладкими стенами, дом с выступами… Больной рассказывал ему во всех подробностях, что видел во сне, а Фрейд делал выводы и назначал лечение. Он считал, что основа личности – в бессознательном, а сознание занимает подчиненное место.
– И он с этой хохмой прославился? – с сомнением проговорил Сева. – Это ж надо… Он кто – поляк? Зигмунд.
– Австриец. Но ты не ответил на вопрос – сны помнишь?
– Кое-что помню…
– Ну, расскажи, – заинтересованно попросила Лена. – Вот вчера, позавчера…
– Вчера… – Сева усмехнулся. – Тебя видел.
Она вспыхнула и с трудом сдержала радостную улыбку:
– Как?
– Ну… шли мы куда-то. За руки взялись и шли. А место… не помню… вроде бы степь.
– Ночью или днем шли? – Лена села, подтянув к подбородку одеяло, и глаза ее горели жадным ожиданием…
– Вроде бы днем… или нет – ночью. Огни впереди горели. На эти огни мы и шли. Но и светло было, легко было идти, видно под ногами.
– Вот и хорошо, – словно бы с облегченьем сказала Лена. – Значит, все правильно, все так и будет, как я подумала.
– Что будет? – Сева тоже сел, обхватил колени сильными руками и смотрел на нее немного сбоку, кося глазами; беспокойство не покидало его.
– Потом узнаешь, – таинственно улыбнулась она. – Не бойся, все будет хорошо.
Наблюдая за его меняющимся выражением лица, она снова подумала, что если как следует завести, впрячь в работу, то Сева уже не остановится, доведет дело до конца. А работа изменит его в лучшую сторону, к старому он уже не повернет.
– Вот такие дела, – произнесла она почти нежно и тихонько поцеловала его в нервно вздрагивающие губы, однако он не отозвался, остался холодным, и Лена, нахмурившись, попросила: – Отвернись, я одеваться буду.
Сева скорчил удивленную гримасу, но подчинился, упал на подушку и повернулся на бок, вперив глаза в стену. Учись, вот как поступают подлинно интеллигентные люди. Только что – вот она вся, делай что хочешь, а одеваться – отвернись, стыдно ей, видите ли. Подумал он это с усмешкой, однако ему и приятно было, что Лена такая.
– У тебя диссертация о чем? – спросил он.
«Боже мой, – удивленно замерла Лена, – неужто в самом деле телепатия? Это уже слишком…»
– Методы улучшения водного режима почвы при фитомелиоративных работах, – с готовностью, но и некоторой долей нервозности ответила она.
– Мудрено уж очень, – лениво отозвался Сева.
– Это же моя специальность, – она словно бы оправдывалась. – Слушай, а у тебя не было такого желания – попробовать написать диссертацию по какой-то спортивной теме? Да ты повернись, можно, – засмеялась она.
– Нет, у меня другие планы. – Сева снова лег на спину, закинув руки за голову. – Мне это ни к чему.
– Вот и зря, – горячо возразила Лена. – Ты подумай. Это же интересно – провести самостоятельное исследование…
– Поэт всю жизнь исследует жизнь, характеры людей, проникая в их души, – с прежней леностью, не глядя на нее, ответил Сева.
Ее удивило, что он не смутился, произнеся такую высокопарную речь.
– Одно другому не мешает, – в ее голосе прозвучало огорчение. – Я знаю писателей, которые одновременно ведут научную работу в Академии…
– Ты знаешь… – Он посмотрел на нее, сощурясь. – И многих?
– Дурак, – отозвалась она беззлобно. – Ладно, валяйся, я пошла. Если будешь уходить, захлопни дверь. Но лучше дождись меня. Поужинаем вместе.
– Нет, – решительно возразил Сева, – мне надо идти. А дверь я захлопну.
– Как знаешь, – беззаботно, как ей казалось, крикнула она уже из прихожей; дверь открылась, сквознячок потянул холодком по голым рукам Севы, но он слышал, что Лена не ушла, стоит почему-то в дверях. И она вернулась, остановилась в проеме, сказала дрогнувшим голосом, в котором уже слезы слышались. – Может быть, когда закончишь свои дела, все-таки придешь?. Мне не хочется сегодня быть одной.
– Я посмотрю, – уклончиво ответил Сева. – Если удастся вырваться… Да ты не вешай носа, – с показной бодростью добавил он. – Вот поедем в круиз, день и ночь будем вместе. Проведем испытание на психологическую совместимость.
Она отступила назад, в прихожую, и ее плохо стало видно в полумраке. Оттуда, из глубины неосвещенной прихожей, она сказала ему упавшим голосом:
– Я не поеду, Сева.
Вообще-то ей хотелось бодро это произнести, легко, с беспечной улыбкой, но не получилось, и улыбка была вымученной. Может быть, она и отступила в полумрак, потому что чувствовала, что не сумеет сдержать себя и сообщить ему свое решение так, как намечала.
– Ты что? – Сева был изумлен. – Мы же договорились, документы сдали, все готово уже. Да ты не тушуйся, – ободряя ее и сам уже поверив, что сумеет что-то предпринять, пообещал он. – Я за двоих заплачу. Есть у меня в загашнике.
– Зачем ты?.. – Она сумела преодолеть обиду и шагнула в проем двери на свет.
Сева увидел ее всю – ладную, в шерстяном плотном платье с накладными карманами, в которые она опять сунула руки. В облике ее одновременно проглядывалось и женское несуетливое достоинство, и строгая, совсем девчоночья недоступность.
– Да точно же, – не поняв ее, воодушевляясь, снова стал убеждать Сева. – Сказал, значит, знаю что. Мы еще погуляем с тобой по заграницам. Да я для тебя… – И он вскочил с кровати, готовый доказать, на что он способен ради нее.
Но она протянула руку, ладонью отстраняя его, не подпуская к себе, и губы ее брезгливо изогнулись.
– Ну зачем ты? – Лицо ее вдруг исказилось, глаза наполнились слезами. – Как ты деньги можешь мне предлагать, Сева! Неужели не понимаешь?..
Горько и обидно было ей, она совсем забыла, какой предстала сейчас перед ним, но в последнее мгновение вспомнила и, чтобы не видел он ее такую, круто повернулась и почти выбежала из квартиры. Дверь оглушительно захлопнулась, из-под верхней планки косяка тихо просыпалась известковая пыль. Стоя босым на холодном линолеумном полу, Сева бездумно смотрел, как задувавший в невидимую щель воздух лестничной площадки шевелит пыльное пятно под дверью, не дает ему устояться.
16
Ата позвонил домой, предупредил, что придет с гостем.
Спускаясь с Назаровым по лестнице к выходу, он вдруг подумал, что неудобно предлагать пожилому человеку ехать верхом на мотоцикле, а свободной машины сейчас возле треста, пожалуй, не найти. Машин действительно не было, и Казаков, смущаясь, сказал:
– Вы уж извините, я не подумал о транспорте. Сам на мотоцикле привык, но у меня без коляски… Может быть, сделаем так…
– А давайте я пристроюсь сзади? – охваченный молодым задором, попросил Марат. – Не упаду небось. Шлем у вас запасной есть?
Обрадованный тем, что так легко решилась проблема, Ата успокоил его:
– И шлем есть, и поеду потихоньку. Да здесь и не далеко.
Испытывая удовольствие от предстоящей поездки, Марат натянул каску, неумело застегнул ремешок на подбородке, устроился позади Казакова, обхватил его руками и, когда тот оглянулся, взглядом спрашивая, все ли в порядке, произнес насмешливо:
– Трясясь Пахомыч на запятках…
И по тому, как Казаков быстро засмеялся в ответ и кивнул, он понял, что тот знает Козьму Пруткова. Это обстоятельство еще больше расположило его к Казакову, и всю дорогу он думал: а ведь хороший человек, непременно хороший человек, как же я сразу-то не разобрался… Но вспомнив Севкину статью, Марат огорчился, настроение упало. Факты проверены, в управлении насчет несовершенств механических колодцев сказали вполне определенно: мол, поспешили в тресте, главному инженеру не терпится свое детище поскорее в жизнь пустить, а детище еще и на ногах стоять как следует не умеет. Да и сам Казаков в беседе с американцами подтвердил, что не полностью еще механический колодец сравнялся с обычным шахтным. Но все-таки ведь и преимущества у казаковского детища есть, не так уж оно беспомощно. Казаков ему факты приводил, цифры – выходило, что механический колодец не так уж и плох, а даже скорее хорош во многих отношениях: и скорость строительства, и безопасность, и передовые методы труда… Какая-то сумятица от всего этого была в голове у Марата, и он подумал, что надо обратиться за советом к специалистам нейтральным, не имеющим в этом деле своего интереса, который всегда может оказаться корыстным. В управлении у Якубова могут судить и не совсем объективно, могут быть там свои соображения, узковедомственные. Бывает же так…
Ата попросил его обождать возле дома, пока он припаркует мотоцикл, и Назаров, оставшись один, перебрал в памяти факты, изложенные в сомовской статье, и теперь они показались ему не такими уж убедительными. Нет, обязательно надо проконсультироваться у знающих, но беспристрастных людей, лишенных предвзятости. А то недолго и дров наломать. Долбанем хорошего человека фактически ни за что. Нечестно же – остановить человека на полпути и обругать за то, что не дошел еще до конечной цели. Он же идет, продолжает поиск. Да если бы и остановился, то и тогда ему спасибо надо сказать за сделанное, а не облаивать. Не он, так другие пойдут дальше. Не будь в свое время летающих «этажерок», авиация так и остановилась бы на Икаровых крыльях, не имели бы мы современных могучих лайнеров и космических кораблей…
Подумав так и вспомнив, с каким упоением работал он над Севкиной статьей, какое вдохновение испытывал и как радовался, что она удалась, Марат почувствовал стыд, даже щеки у него запылали.
Но тут возвратился Ата, сказал извиняясь:
– Ждать заставил, вы уж не сердитесь. Замок у гаража заело, едва открыл. Да это и не гараж вовсе, а так, металлический ящик. Сюда, на второй этаж…
«Завтра же заеду в редакцию, скажу, чтоб разобрали набор, и дело с концом», – решил Марат. Однако облегчения не испытал, беспокойство не ушло и чувство стыда не исчезало, сквозило все время, пока был он у Казаковых. Поэтому был скован и сдержан, словно бы все время настороже. И даже когда заговорили о его отце и тетушка Биби уверенно, не по возрасту страстно стала уверять, что не мог Назар пойти на такую подлость – бросить на произвол судьбы сына, сбежать с баями за границу да еще полное злобной клеветы письмо односельчанам послать, не мог и все, не такой был человек, – даже тогда вспыхнувшая радость не смогла заглушить чувство вины перед Казаковым. «Сегодня же позвоню в редакцию, – решил не откладывать Марат, – пусть распорядиться, чтобы бросили набор в гарт». И от того, что пришла к нему такая решимость, уверенный уже в бесповоротности судьбы пресловутой статьи, Марат почувствовал наконец легкость и даже распрямился, точно груз сбросил с плеч.
Ему нравилось в этом доме все – искренность, с какой встретили гостя, сердечность обращения, желание помочь, разобраться, ободрить. К давней истории отнеслись здесь заинтересованно. Мая менялась в лице, когда тетушка Биби рассказывала, как ворвались ночью в село басмачи и Тачмамед-бай, оказавшийся с ними, потрясал письмом от Назара и кричал с пеной у рта: «Вот что вам уготовано, люди! Русские превратят вас в своих рабов, ваши дети забудут родной язык, родная земля станет для вас адом! Вставайте все! Идите с нами! С оружием в руках мы отстоим свое право оставаться мусульманами!» – как трещали объятые пламенем кибитки и выла обезумевшая женщина, муж которой надвое был располосован саблей. Сама Биби, совсем тогда молоденькая девчушка, от страха потеряла создание и тем была спасена.
– Это их последний налет был, – мерно кивая сама себе, своим воспоминаниям, негромко говорила тетушка Биби. – Разбили их красноармейцы. Кто живой остался, за кордон ушел, и Тачмамед-бай с ними. А сына его Караджи в тот раз с ними не было, где-то он скитался, а вернулся только перед самой войной, стал в заготконторе работать, потом в армию ушел, в Иране, говорят, служил, а после Победы снова в заготконтору подался, саксаул заготавливал. Ничего, не тронули его, не припомнили про отца…
Все это Марат уже знал, послушал со вниманием, хоть и думал о своем, – о том, как невзначай едва не обидел зазря хорошего человека. Та статья не только самого Казакова ударила бы, а и всех – и старушку, и Маю, и Вовку, нашлись бы мальчишки во дворе, которые обсмеяли бы, а каково сыну про отца такое узнавать… Ах, как часто, не предвидя последствий, бил он жестким словом малознакомых людей, зная о них только одно: какую оплошность допустили они, за что и попадали в очередной фельетон. А слово бьет, раны и ссадины заживают долго, а то и не заживают совсем, кровоточат всю жизнь… Но он не только стыдился того, что в спешке не вникнул в суть, не пригляделся к человеку, которого собирался публично критиковать, он и радость испытывал от решимости сегодня же изъять статью, а там уж внимательно изучить вопрос, разобраться поглубже и решать ответственно, не с кондачка.
– А письмо то, говорят, пропало, – сказал Марат и вздох вырвался у него совсем горький. – Мне бы только взглянуть на него. Сам не знаю, для чего, но так хочется… Почерк-то все-таки признали отцовский…
– Почерк признали, да от письма клочок только остался, как поймешь, что там было изначально, – быстро сказала тетушка Биби.
– Как клочок? – изумился Марат. – Разве осталось что-то?
С несвойственной ее возрасту живостью старушка глянула на сына, тот встретил ее взгляд вопросительно и напряженно, что-то там произошло меж ними, понятное, видно, только им двоим, согласие и одобрение, вернее всего, – и она, мгновенно успокоившись, произнесла распевно:
– Осталось, осталось, как же… И у нас оно, не письмо, конечно, а тот клочок, и мы его вам отдадим.
Так это было неожиданно, что потрясенный Марат не сразу нашелся что сказать, онемел будто, и только спустя время, когда тетушка Биби, сходив к себе, вернулась с узелком, проговорил, не веря все еще:
– Письмо у вас? Вот чудо-то! Почему же никто мне не сказал раньше. Я и у Караджи был, и с учителем Гельдыевым беседовал, и с другими людьми – не знают, что ли?
– Не знают, – кивнула старушка. – Зачем всем знать? Тень на Назара кладет эта бумажка, а мой Казак говорил: не верь, не просто здесь все. Для чего же мы стали б всем показывать да говорить? Так – поговорили и забыли. Разговор – одно, а бумага – документ.
В узелке у нее были какие-то старые документы, пожелтевшие, потрепанные, некоторые надорванные на сгибах. Развернув его на коленях, щурясь близоруко, она неспешно стала перебирать бумажки и нужную нашла не сразу.
– Вот! Казак спрятал, хотел разобраться, да не сумел…
Марат осторожно принял обрывок ломкого, распадавшегося желтого листа с едва видными словами арабской вязи, выведенными некогда фиолетовыми, а теперь поблекшими чернилами. Если бы он и знал арабский шрифт, все равно с трудом разобрал бы эти каракули, но арабского он не знал. Огорченный, не испытывая уже волнения, смотрел он на ломкий обрывок, готовый, казалось, рассыпаться в прах от малейшего дуновения. Зачем же так хотелось ему увидеть письмо отца? Надеялся, прочитав, тут же опытным глазом отыскать ответы на давно мучившие его вопросы? Отгадывай вот теперь…
– Возьмите, – кивнула тетушка Биби, решив, что он не решается спрятать бумагу. – Мне оно очень дорого, да что поделаешь, вы – сын Назара, пусть оно у вас теперь будет. Только вы тоже не верьте и не огорчайтесь, что такая молва пошла. Сказать все можно, слово полетит, ох далеко может полететь, да не всегда оно верным бывает. Казак говорил: что-то здесь не то, уж он вашего отца знал хорошо. Может, когда и раскроется правда. Правда, она все равно раскрывается рано или поздно.
– Спасибо, – сказал Марат, все еще держа листок на ладони; он глаз с него не сводил, не веря, что когда-то эта бумага лежала перед отцом, и тот заскорузлой, непривычной к перу рукой выводил по ней кривые строчки, а в каждой строке была ложь, гнусная и злая ложь. Неужто он и сына отдал в детский дом только для того, чтобы хоть так ложь свою подтвердить? – А вы не сможете прочитать, что здесь написано? – просительно поднял он глаза на старушку. – По-арабски не можете?..
– Зачем мне читать, – пожав плечами, она снова бросила на сына короткий взгляд, прочла ответ в его глазах и увереннее уже добавила: – Я и так помню. Каждое слово… Казак бывало сядет вечером, лампу придвинет и читает вслух. Прочтет и задумается, прочтет и задумается… Неспроста, говорил, Тачмамед не все письмо оставил, а только обрывок, и порван как-то странно – и с одной стороны, и с другой, и снизу. А осталось такое, что глаза верить отказывались…