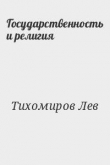Текст книги "Год спокойного солнца"
Автор книги: Юрий Белов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– А ведь мы знакомы! – воскликнул он и даже руки раскинул, точно хотел обнять старого друга. – Вчера посреди песков вы сказали: «Не оскверняйте этот уголок девственной пустыни, оставьте его потомкам». Я правильно запомнил? – обратился он одновременно к учителю и переводчику. – Скажите учителю, что я преклоняюсь перед его мужеством.
– Ну, какое же мужество, – смутился Гельдыев, к их разговору прислушивались, и ему было неприятно говорить о случившемся в Совгате. – Дело житейское. Разве вы не заступились бы за дело рук своих?
– Я? – Фрэнка этот вопрос застал врасплох, он не мог себя представить в той роли, в какой оказался этот сельский учитель. – Наверное… впрочем, не знаю, – честно признался он.
Наверное у него на лице было написано то, чего он испугался, – а вдруг они здесь знают о его прошлом и только и ищут повода упрекнуть, устыдить? – потому что Гельдыев сразу же перевел разговор:
– Мы рады гостям, чувствуйте себя свободно, здесь все высоко ценят дружбу.
– Спасибо, – проникновенно ответил Фрэнк, сразу же решив, что ничего они о нем не знают и не могут знать. Максимов, тот да, его могли и проинформировать, а остальные…
Их усадили за длинный стол, налили водки.
– О, рашен уодка! – развеселился Фрэнк. – Карашо!
И тут же отозвался белобрысый. Откуда он только взялся, будто бы и не было его поблизости…
– Чего хорошего? Знаем мы вас! Все знаем – в про Кинга, и про Альенду…
Двое парней подхватили его под руки и довольно грубо вывели, вернее вытолкнули из комнаты.
– Вы не обижайтесь, – покраснела Гозель. – Совсем пьяный. Вообще-то хороший парень… А вы не переводите, что он тут наплел, – повернулась она в Максимову.
Фрэнк понял, что Максимов сгладил фразы, брошенные пьяным, – получалось, что тот солидарен с негритянским населением Штатов, подвергающимся расовой дискриминации, и с многострадальным народом Чили, где фашистская хунта свергла законное правительство. Наверное, так оно по существу и было, но Фрэнк по лицу парня видел, что он что-то еще имел ввиду, его, Фрэнка Пэттнсопа, в чем-то упрекал или обвинял. Не зря же помянул он Кинга… Фрэнк отыскал глазами Назарова, тот дружески кивнул ему и поднял рюмку, предлагая выпить.
– Другари! – встал за столом человек с орлиным профилем, совершенно седой, хотя глаза сверкали молодо. («Это наш бригадир», – шепнул Данчо Максимову, и тот перевел Фрэнку). – Выпьем за молодых, за их счастье. За то, чтобы дом ваш, дорогая Гозель и дорогой Данчо, всегда был полная чаша. Живите долго, любите друг друга верно и нежно, и пусть у вас будет много детей – на радость и на счастье! Горчите!
– Горько! – подхватили за столом.
Данчо и зардевшаяся Гозель поднялись, он откинул фату и осторожно поцеловал ее в губы.
Фрэнк посмотрел как пьют остальные, тоже опрокинул рюмку в рот, крякнул и понюхал хлебную корочку.
– Вот это по-нашему! – стрельнув шалыми глазами, одобрительно крикнул вновь появившийся белобрысый парень. – Мир, дружба! – И взмолился: – Налейте мне, братцы! Грешно за мир и дружбу не выпить!
За столом разгоралось веселье.
– Кушайте, – певуче произнесла Гозель, обращаясь к Джозине. – Или не вкусно?
Та вопросительно посмотрела на Максимова и, поняв вопрос, взволнованно сказала:
– О, большое спасибо, все очень, очень вкусно, я бы все съела, но мы недавно обедали. Мы же не знали, что так получится…
Гозель улыбнулась ей доброй улыбкой.
– Скажите, Гозель, – спросил Фрэнк, – вот вы туркменка, ваш муж болгарин, он рано или поздно уедет к себе на родину, а как вы – тоже поедете с ним? Не боитесь в чужую страну? Там другие люди, свои обычаи…
– Если там такие люди, как мой Данчо, чего мне бояться? – она на секунду прижалась к нему плечом и та же добрая улыбка осветила ее лицо. – А потом… мы еще не решили, где будем жить – в Болгарии или в Туркмении.
– Я понимаю, – сказал Фрэнк, – Болгария тоже социалистическая страна. Но если бы вы полюбили такого же красивого парня из другой страны, не социалистической, вы уехали бы с ним?
Она посмотрела на Данчо, словно не понимая, чего добивается от нее этот иностранец.
– Чтобы полюбить – одной красоты мало. – Газель застенчиво потупилась. – Надо иметь много общего… интересы… я не знаю…
– Ну, он был бы богат, мог дать все, что захотите, – виллу, яхту, слуг, возможность путешествовать, – допытывался Фрэнк. – Тогда вы согласились бы?
– Извините, мы говорим на разных языках, – сказала она огорченно. – Нам трудно понять друг друга.
Фрэнк развел руками.
В дальнем конце завели песню. Данчо первый подхватил ее, за ним – Гозель.
– О чем поют? – нагнулся Фрэнк к Максимову.
– В Болгарии есть памятник русскому солдату. Болгары называют его Алеша. Он не может дарить цветы девушкам, потому что погиб на войне с фашизмом, и теперь девушки приносят ему цветы.
Фрэнк вслушивался в незнакомый мотив. Песня показалась ему грустной и светлой. «Странные люди, – подумал он, – на свадьбе поют такие песни»…
Потом немолодой уже, медлительный, очень сосредоточенный туркмен, отодвинув к стене стул, сел, закинул ногу на ногу, неторопливо настроил двухструнный инструмент и, закатив глаза, запел, аккомпанируя себе. Сильный гортанный голос заполнил всю комнату и был похож на плач. «Будто негритянский блюз», – удивился этому сходству Фрэнк и повернулся к Максимову, который что-то спрашивал у Гозель.
– Мне объяснили, что это бахши, народный певец, – громким шепотом пояснил переводчик. – Песня на слова туркменского классика Махтумкули. Поэт лишен своей любимой и…
– Я так и понял, – остановил его Фрэнк…
Джозина вышла из ванной в махровом халате.
– Ты не спишь?
– Устал, сон не идет. Почитаю и усну.
Он взял с тумбочки книгу, с которой не расставался в дороге. Это была любимая книга, подаренная ему автором лет пятнадцать назад. Фрэнк всегда немного завидовал ему, – хотел бы сам написать что-нибудь подобное. Но ведь не каждому дано, теперь он это знает…
На титульном листе поблекла от времени надпись: «Писать можно только о том, что наблюдаешь и чувствуешь. От писателей Америки потребуется еще много серьезных усилий, чтобы покончить с несправедливостью социального и политического положения негров в нашей стране. Пусть не оставят Вас силы на пути своего долга». Роман назывался «Ближе к дому» и автором его был Эрскин Колдуэлл.
Нет, они не были друзьями, даже близкими знакомыми не были. Но в те годы Фрэнк активно работал под руководством Мартина Лютера Кинга, ему удалось выпустить книгу, в которой были собраны потрясающие документы о жизни негров. Книга понравилась Колдуэллу, однажды их познакомили, они поговорили минут десять в холле гостиницы, и Эрскин прислал Фрэнку свой последний роман с автографом. Теперь они оба уже старики. Эрскин на пять лет старше. Но он все-таки белый, ему легче…
– Я думаю, как ты будешь обо всем этом писать, – озабоченность прозвучала в голосе Джозины.
– Я сам не знаю, – вздохнул он. – Меня это тоже мучит. То, что мы здесь увидели, издателям Харриса совсем не нужно. Но я твердо решил: писать, только о том, что вижу и чувствую.
– Как подумаю, что нас ожидает, если он не примет твою рукопись…
Фрэнк опять тяжело вздохнул.
– Спи, – сказал он мягко. – Завтра рано вставать на самолет. А я почитаю немного.
Он держал перед собой книгу и думал. Конечно, после того, как Фрэнк выпустил свою новую книжку, Эрскин ему даже руки не подаст, это точно. Но после убийства Кинга он испугался и ничего не мог с собой поделать. Они это чувствовали и вдруг пригласили к самому Роберту Л. Харрису и предложили написать «правду» о расовых волнениях в негритянских кварталах, вспыхнувших в 1968 году. Надо было показать участников событий просто как хулиганов, подстрекаемых красными. Он не посмел отказаться… А теперь вот эта поездка по заданию фирмы Харриса. Они уже заранее знали, что он должен здесь увидеть и описать, они всегда все знают заранее…
Раньше он думал об этом без иронии, скорее старался вообще не думать. А теперь… Не надо было ему сюда ехать. Но разве он знал, откуда ему было знать, что здесь все не так, как ему говорили Уж он-то думал, что, рассказывая о жизни в Каракумской пустыне, не придется кривить душой. Во имя высшей правды… Нет, конечно, не этот здешний газетчик разуверил его, все случилось значительно раньше, значительно раньше, а Назаров…
Когда включили магнитофон и молодежь начала танцевать, Фрэнк с Джозиной и Максимовым подошли к Назарову.
– Салам, коллега, – не без труда произнес Пэттисон новое слово. – Собираетесь писать об этой свадьбе?
– Я здесь в гостях, – уклончиво ответил Назаров. – А вообще-то наверное интересно было бы читателям узнать об этой паре.
– Сенсация? – поинтересовался Фрэнк. – Болгарин женится на туркменке…
– Любовь и дружба никогда не считались сенсацией.
Видимо, Назарову не очень нравился разговор на эту тему, но Фрэнку хотелось получше разузнать, какие принципы исповедует туркменский журналист.
– Простите, – сказал он, – мы оба литераторы, и мне хочется поговорить с вами попросту… – Он даже обнял Назарова, заглядывая ему в глаза, улыбаясь. (Теперь ему стыдно было об этом вспомнить, все проклятая водка!) – Вот вы собираетесь писать об этой свадьбе. Тут все более или менее ясно. А как насчет стычки учителя с работниками треста? Тоже напишите?
– Не знаю, – честно признался Марат. – Но это меня заинтересовало. Я еще побываю в том колхозе и в тресте… Учитель Гельдыев очень интересный человек, в нем я увидел те душевные качества, которые особенно ценны в человеке, – любовь к людям и к природе, самоотверженность, честность…
– Я знаю, – перебил его Фрэнк, значительно позже поняв, что получилось это не очень учтиво, – положительный герой, так это у вас называется. Хотя в природе не может быть только положительного – электрические заряды, плюс и минус в математике, мир и антимир. Вот этот пьяный… о нем вы тоже будете писать?
– Я не люблю писать о пьяницах, – Марат пристально посмотрел ему в глаза. – А вы любите?
– Я? – Фрэнк весело засмеялся, после выпитого ему казалось, что он свой среди этих в сущности совсем незнакомых людей, и чувствовал себя раскованно и свободно, хотелось быть откровенным. – Я не знаю – ни разу не писал о пьяных. Но, наверное, тоже не люблю. Да, действительно, кому это нужно? А впрочем… – Вот тут что-то произошло с ним, исчезли раскованность, ощущение близости с окружающими, одиноко и неприютно стало ему, и он заговорил уже с другой интонацией, чуть натянуто и раздраженно: – Впрочем, писать нужно правду. А значит, и о пьяном тоже. И о боли, и о страданиях, о подлости и всякой мерзости, и бог знает о чем – правду и только правду. Вот вы всегда пишите правду? Вам разрешают писать правду о жизни?
– Правду нам всегда разрешают писать, – ответил Назаров. – Нас наказывают за ошибки, за неточности, за ложь, за правду же – никогда. Только надо определить, что есть правда.
– А что есть правда? – устало, теряя интерес к разговору, спросил Фрэнк.
– Наверное, то, что отражает сущность явления, – пожал плечами Назаров.
Немного оживившись, Пэттисон сразу же задал новый вопрос:
– Значит, по-вашему, факт можно повернуть и так и эдак?
– Факт всегда остается фактом, о чем вы говорите…
– Но все-таки приходится иногда чуть-чуть передернуть факт, подать его в ином свете во имя каких-то высших интересов, во имя высшей правды, ведь верно?
Он заглядывал в глаза собеседнику, пытаясь уловить, есть ли единство в выражении лица Назарова и в том, что он говорит, и досадовал на Максимова, который не очень внимательно слушал их разговор и переводил как-то вяло, бесстрастно. Наверное, ему не интересно все это было, а для Фрэнка так важно, что он, кажется, даже заболел от своих мыслей и переживаний.
Но в этот раз Назаров ответил не сразу, а словно бы задумался, хотя глаз не отвел, не опустил, смотрел открыто.
– А разве есть такая высшая правда, – произнес он раздельно, сам, наверное, чувствуя, что голос звучит не к месту сердито, и от этого смущаясь, – ради которой можно говорить или писать неправду?
Слушая перевод, Джозина вдруг взяла Фрэнка под руку, точно так же, как сделал он на развалинах давно заброшенного человеческого поселения в пустыне, когда уловил, почувствовал в ней внутреннюю боль от внезапно нахлынувшего чувства одиночества, и просительно заглянула ему в глаза – она не хотела, чтобы он продолжал этот разговор, да он и сам знал, что ни к чему это, и положил ладонь на ее пальцы и слегка пожал их.
– Благодарю вас, – сказал он Назарову без улыбки. – Вы, безусловно, правы. Мне не следовало задавать такой вопрос. Простите.
Может быть, теперь Джозипа тоже вспомнила об этом разговоре?..
– Ты помнишь «Игру в кости» Карла Сэндберга? – спросила она и прочитала наизусть:
– Спи, – сказал Фрэнк. – Не мучай себя.
Может быть, действительно почитать, и сон придет? Он попытался сосредоточиться, но едва только стал читать, как снова подумал о жене. Героиню романа тоже звали Джозина, и то, что она говорила в книге, слилось со словами его Джозины, будто Колдуэлл каким-то образом сделал из двух женщин одну:
«…– Нет, – сразу ответила она, глядя прямо на него и качая головой. – По-старому больше не будет. И мы тоже ничем этому помочь не можем.
– Почему не можем?
Джозина опять отвернулась.
– Джозина, почему не можем?
– Потому что нам не дадут жить вместе. Ты это знаешь. А больше я никак не хочу жить».
Осторожно положив книгу на тумбочку, он нажал кнопку настольной лампы.
В просветлевших окнах стали видны легкие облака, подсвеченные луной. Необыкновенная притягательная сила была в этих таинственно светящихся облаках. Хотелось взлететь к ним, прикоснуться рукой, и тогда – он это чувствовал, даже наверное знал – их сила и легкость перейдут к нему…
«Нет, по-старому больше не будет, – повторил он слова Джозины. – И мы ничем этому помочь не можем. Не можем, не можем, не можем», – твердил он. Но ни в чем убедить себя не сумел.
13
Обсуждение затянулось, и Назаров уже жалел, что пришел сюда. Он сидел в углу между вешалкой и шкафом и, время от времени выглядывая из-за чьих-то спин, видел переменчивое лицо Севы. Было ясно, что тот взбешен и едва сдерживается. «Наговорит глупостей и совсем все испортит, – обеспокоенно думал Назаров. – А ведь не дурак и мог бы понять, что говорят правду». Конечно, в таких случаях редко кому удается понять это сразу – слишком много надежд питает молодой поэт, когда несет на суд старших товарищей свои творения. Но Сева был уж слишком агрессивно настроен. Может быть, выпил для храбрости, и теперь теряет ориентацию, видит все в искаженном свете? С него станется… Но и суд праведный был суров. Самолюбивому вынести такое не просто. Выступавшие были единодушны и высказывались резко. Но ведь – поделом. Все было справедливо – и что неприемлема художницкая концепция автора, и что нравственные ориентиры им потеряны, и что надрывные вымученные стихи не пробуждают «чувства добрые», и что просто автор с грамматикой не в ладу… Но, судя по всему, Сева с этим не был согласен. Он то усмехался криво, то головой покачивал и что-то записывал себе в крохотный блокнотик, то порывался возразить, а к концу насупился и только желваками играл на скулах.
Назаров хотел уйти незаметно, но пробраться к двери было трудно – стулья стояли плотно у самого выхода.
Его опасения оправдались. Когда в заключение слово предоставили автору, Сева даже не встал, лишь голову вскинул. В лице его было что-то такое, что насторожило собравшихся, и в комнате стало тихо, напряженно.
– «Я пишу иначе, чем говорю, говорю иначе, чем думаю, думаю иначе, чем должен думать, и так до самых темных глубин». Это Кафка, но я мог бы…
Губы у Севы затряслись, глаза замутились от обиды, и странно было видеть это на его породистом красивом лице, на котором только что лежала печать высокомерия. Резко поднявшись, схватив со стола кожаную папку со своими стихами, он пошел к выходу, не видя никого, не слыша, что ему говорят. Рубашка, словно сшитая из газетных полос – с заголовками, колонками текста и оттисками клише – натянулась на сильных его плечах, и со спины он по-прежнему был внушителен и самонадеян.
Только на улице Назарову удалось нагнать его. Сначала Марат молча пошел рядом, справляясь с одышкой, потом сказал с упреком:
– Зря ты так… Кафку приплел… Зря.
– Что зря, что зря? – зло отозвался Сева. – Они же ни черта не смыслят в поэзии, а туда же – судить!
– Ты не кричи, – урезонил его Назаров, – прохожие оглядываются. А насчет поэзии… правы они. Сева, правы, и тебе бы прислушаться, а не хамить.
Сева глянул на него и хмыкнул в ответ. Тут только Марат уловил приторный запах винного перегара. Так и есть, выпил. Ну, дурак, разве серьезные дела под хмельком делают… но вслух он ничего не сказал.
Они проходили мимо сквера, на мраморном столбике-постаменте был установлен бюст Пушкина, и Назаров предложил посидеть на скамейке. Сева опять ничего не сказал, но свернул за ним и сел рядом, ребром поставив на колени кожаную папку.
Накануне прошел короткий дождь. И сейчас еще плыли по небу облака, но не мрачные, а светлые, клубящиеся, точно пар, и чистые, без подпалин. Яркое солнце пробивалось в промоины. Земля парила, и этот особый дух, подобно запаху свежевыпеченного хлеба, волновал и приятно кружил голову.
В сквере женщины-цветоводы высаживали вокруг памятника рассаду из ведер. Клумбы под их руками, как по волшебству, загорались синими, красными, желтыми, белыми, фиолетовыми соцветиями.
И хотя все вокруг настраивало на мажорный лад, Назарову пришел на память давным-давно прочитанный ужасный рассказ Франца Кафки «Превращение», в котором некий молодой коммивояжер однажды проснулся гигантским клопом – с чешуйчатым животом и тонкими мохнатыми лапами. С этого фантастического утра начались мучения несчастного коммивояжера, ставшего изгоем среди своих сородичей. От рассказа осталось ощущение гнетущей безысходности. Назаров и сейчас содрогнулся, вновь пережив прежнее чувство омерзения. Конечно же, вспомнилось это в связи с таким неудачным выступлением Севы. И чего нашел в Кафке?
– Кафка же был современником Октябрьской революции, – сказал он вслух. – А разглядеть в бурных социальных переменах начало конца бесчеловечности не сумел. Бесчеловечность казалась ему свойственной обществу на все времена. Безнадежно устроенный мир, бессмысленность борьбы со злом – вот его взгляд…
Сева напряженно молчал, только сильнее сжал руками край папки, и суставы побелели, взгляд же был устремлен куда-то вдаль, словно и не слушал вовсе, а о своем думал, переживал и осуждал недавних противников. Но он слушал.
– Его взгляд, – повторил он вдруг после безнадежных, казалось, томительных минут молчания. – У того свой взгляд, у этого… А почему мой взгляд на мир, на человека не хотят принять? Отвергают только потому, что не стандартно, непривычно…
– Отвергают потому, что плохо, – наконец рассердился Назаров. – И тот взгляд на мир, на человека, который ты выдаешь за свой, на самом деле заимствован у других, у того же Кафки. И мастерством не блещешь. К литературе, как и ко всякому делу, надо относиться серьезно, ответственно, профессионально.
– Ладно, посмотрим, – буркнул Сева, и не понять было, скрытая это угроза или в самом деле парень решил подумать…
Со скамьи видна была черная мраморная доска на светлом, мраморном кубе в нижней части постамента и золотом сверкающие слова. Отсюда их не разглядеть, но Марат и так знал, что там выбито, какие строки. С другой стороны куба, на такой же черной доске, еще две строки, он их знал и любил. Но будь его воля, он выбил бы другие пушкинские строки.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…
Они ему очень дороги были и казались выражением сущности и цели не одной только поэзии. Как же устроители памятника не догадались именно это запечатлеть на камне? Впрочем, ставили его до революции, а за теми двумя шли другие строки, которые власти ни за что не решились бы напомнить:
…Что в мои жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Вот ведь в чем дело…
– Ты когда в круиз? – спросил Назаров.
– Через две недели, – неохотно ответил Сева и, вдруг озлясь, добавил: – Если, конечно, вообще поеду. А то ведь могут и не пустить. А как же: идейно невыдержанный, политически незрелый!
– Эк тебя, – покачал головой Назаров; помолчав, посоветовал:
– Ты блажь из головы выбрось. Съездишь, посмотришь на мир, может, тогда и свой дом лучше понимать будешь, товарищей своих. – Он посмотрел на Севу; что-то изменилось в его лице, какая-то волна прошла, но Марат не смог понять, что это. – Конечно, в туристической поездке мало что поймешь – «галопом по Европам», но все-таки… Иногда в самом деле надо в дальних странствиях побывать, чтобы по достоинству оценить на родине самую малую малость, которой и значения-то не придавал. Ты какой иностранный язык изучал?
– Английский.
– Не забыл?
– Да так… – Сева неожиданно зыркнул на него глазами, усмехнулся и сказал скороговоркой: – Ай эппли ту ю политикал асайлум.
– И что же это означает? – нахмурился Назаров; ему не понравилась кривая ухмылка парня, и он подумал, что сказанная им фраза не может быть случайной, ученической болтовней, и ожидал насмешки, издевки даже, но то, что услышал, поразило его.
– Прошу политического убежища, вот что.
Набычившись, Сева выжидательно посмотрел на Назарова.
– Глупо, Сева, ты уж извини меня, – сказал Марат, опять качая головой. – Так, брат, не шутят.
– А я и не шучу, – с вызовом бросил Сева. – Меня только что во всех смертных грехах обвинили: я и такой, я и сякой, я и безнравственный. Что же мне остается?
– Ох, Сева, Сева! – Назаров был огорчен и не знал, как убедить молодого человека. – Обида разум твой мутит, я понимаю. Но все-таки нельзя так распускаться. Пределы есть во всем, и святое в душе у каждого должно быть – беречь его надо.
– А что – святое? – вспыхнул Сева. – Святое – это – что в божьих храмах проповедуют. А здесь, – он глазами повел вокруг, – где оно, святое? Ну покажите! Они о поэзии рассуждают, а сами даже Хлебникова не читали. А учение Фрейда! Разве он не прав? Половое чувство в основе творческой деятельности человека…
– А ты сам-то читал? – в упор спросил Назаров. – Кафку, Фрейда читал?
Сева не ожидал такой резкости, прямоты этой. Он Назарова только предельно вежливым знал, деликатным…
– А вы как думаете? – попытался он вызов изобразить, но сам почувствовал, что неуверенно, и жалко прозвучал его контрвопрос.
– Я не думаю – я уверен, что не читал, а только что-то там такое слышал. Модно, видите ли, в определенной компании Кафку помянуть всуе или Аполлинера. А уж Фрейд… Но ты же о них ничего не знаешь, а берешься судить. Ты слышал, что Зигмунду Фрейду принадлежит статья «Достоевский и отцеубийство»? Он свой голос присоединил к злобному западному хору, и по сей день обвиняющему великого художника бог знает в чем – в отцеубийстве, кровесмешении, садизме, гомосексуализме. И это о писателе, который всеми силами души восставал против мирового зла! А ты – Фрейд, Фрейд… Не все то хорошо, что где-то модно. Новаторство, Сева, – чуть смягчаясь, продолжал Назаров, – от постижения жизни должно идти, а не от голого умствования. Хлебников всю жизнь не только новую форму стихосложения искал – он постичь хотел смысл человеческого бытия. Но в жизни искал, в самой жизни, хоть и не прямой дорогой шел, часто плутал. В двадцать первом году Хлебников приехал в Персию. Его там прозвали Гуль-мулла. Священник цветов. Цветов, заметь, а не призраков.
– Премного благодарен, просветили, – с нескрываемой иронией произнес Сева и даже поклонился церемонно, хоть и не встал при этом. – Еще бы послушал, да мне на тренировку пора. Как говорится, сила есть – ума не надо.
Видимо, он как-то переборол себя, обида отходила, только злость виделась во всем – в интонации, в жестах, в словах. Но он скрывал ее, скоморошничая, хотел казаться уверенным в себе. Он и поднялся легко, и руку поднял театрально, прощаясь.
– Чао!
– Ты все-таки от сегодняшнего урока не отмахивайся, поразмышляй на досуге, когда остынешь, – посоветовал Назаров и тоже махнул ему рукой.
– Ладно, – на ходу кинул Сева, но вдруг остановился, спросил с наигранной беззаботностью, за которой виделась все-таки настороженность, беспокойство: – А как там моя статья? Говорили: пойдет, да что-то не видать на газетных страницах. Или тоже нашли, что потеряны нравственные ориентиры? Постфактум, как говорили древние греки.
– Тогда уж римляне, – улыбнулся Марат. – Слово-то латинское. Но это так… А статья пойдет. Она однажды даже на полосе стояла, но слетела – официоз вытеснил. А у газетчиков примета: если слетела раз, то еще полетит. Но не в корзину не бойся.
– И на том спасибо, – снова церемонно поклонился Сева. – Как говорили древние… не знаю кто, магарыч за мной.
– Французы про таких говорят: ужасный ребенок, – подавляя в себе желание снова грубо осадить его, сказал Назаров. – Ты должен знать, что магарыч имеет два значения, одно из них – взятка. Ладно, не обижайся. Скажи, а как ты на этот материал вышел?
– Секрет фирмы, – засмеялся Сева. – Но факты железные.
– Я знаю…
– Проверяли, да? – обиделся Сева. – Думали – липа?
– Ничего не думали, просто так положено, ты же не штатный, мало ли что. А материал острый, серьезный.
– Прозвучит? – враз позабыв обиду, загорелся Сева.
– Поживем – увидим, – улыбнулся его горячности Назаров.
Мальчишка, думал он, провожая Севу взглядом. Тщеславия много, отсюда и обиды. Ничего, время пообтешет… И тут у него замерло сердце: а откуда же Сева эту фразу про политическое убежище знает? Язык учил кое-как, сам признается. В учебниках такого нет, надо же со словарем посидеть, чтобы сложить… Да не может быть, чтобы всерьез, попробовал отмахнуться он, просто мальчишеское ухарство. Вот и эту фразу сложил, чтобы в компании дружков произвести впечатление. Дурной еще просто.
Ему и в голову не могло прийти, как низко пал этот статный, обаятельный парень, такой с виду интеллектуальный, такой весь современный…
Многого не знал он о Севе. – Придет время, и он подумает об этом с горечью и будет казнить себя за невнимание, за черствость и бог знает за что еще, в чем и не повинен вовсе. Но теперь, глядя, как удаляется его высокая крепкая фигура и колышутся длинные волосы в такт легкому шагу, Назаров только жалел его, как жалеют человека, которого постигла неудача, – жалко, да что поделаешь, сам виноват, молодой еще – исправится…
14
Коридор был по больничному светел, тих и чист. Линолеум влажно блестел, на нем и следов не было видно, будто никто здесь не ходил. За закрытыми дверьми по обе стороны не слышно ни голоса, ни звука.
Живут же люди, с внезапной завистью подумал Сомов. У них в конторе всегда стоял шум и гомон, коридор затоптан кирзовыми сапогами, и пахло всюду табачным дымом, окалиной, соляркой и тем застойным людским духом, какой бывает еще разве только на вокзалах. В конторе работало немало женщин, которые и хорошими духами пользовались, и пудрой, и другой косметикой, но дух этот, оставленный вваливающимися время от времени механизаторами, разгоряченными работой и неполадками, был неистребим.
А здесь и впрямь потянуло вдруг тонким запахом дорогих французских духов, и Сомов замер и насторожился, под стать гончей, почуявшей след. Безошибочно определив, откуда исходит этот волнующий запах, он для порядка стукнул в дверь согнутым пальцем и толкнул ее.
В комнате, тесно заставленной столами и шкафами, сидела молодая еще, привлекательная, хотя и чуть поувядшая женщина. Едва глянув на нее, Кирилл Артемович понял: женщина одинока. Разведенная или вовсе не сумевшая построить семью, засидевшаяся в девках. Он и сам не понимал, как и почему узнавал это, и каждый раз такое открытие вызывало в нем безотчетное желание заигрывать. Ему казалось, что такие женщины видят в нем, как, впрочем, наверняка и во всех других незнакомых мужчинах, возможную партию, А это словно бы давало ему некую власть над ними; власть же всегда приятно щекочет самолюбие, даже если она иллюзорна.
– Можно? – с улыбкой, вкрадчиво спросил он. Но та, видимо, была занята чем-то, захватившим ее, и не сразу смогла переключиться на новое явление, смотрела на Сомова недоуменно, не понимая, кто это и зачем. Тогда он шагнул в комнату, осторожно, не сводя с нее завораживающего, как ему казалось, взгляда, прикрыл дверь и улыбнулся еще шире: – Я по делу, хотя, если честно, с удовольствием пришел бы к вам просто так, поболтать…
– Что вам надо? – дрогнувшим голосом, с испугом спросила она и оглянулась, словно ища защиты.
Следя за ее взглядом, Сомов тоже оглянулся, на мгновение остановился на репродукции Моны Лизы, приколотой к шкафу. «И чего таинственного находят в ее улыбке? – подумал он. – Улыбка как улыбка, небось художника завлекала, когда он ее рисовал».
Тревога не покидала ее. Сомов помолчал, разглядывая женщину без стеснения. «А что, – подумал он, – вполне. Вот охмурить бы. Научных сотрудников у меня еще не было».
– Что вам нужно? – снова спросила она, и голос ее зазвенел от напряжения.
– Да не бойтесь вы, – миролюбиво произнес Кирилл, – сказал же: по делу. Я начальник пээмка, то есть, если не знаете, передвижной механизированной колонны. – Его уже понесло, не мог остановиться. – Собственно это не колонна в обычном понимании, когда машины идут одна за другой, а такая организация, вполне, между прочим, приличная, которая…
– Я знаю, что это такое, – недовольно прервала его женщина. – А зачем вы собственно ко мне?
– Да я не знаю, к кому мне надо, – понизив голос, сообщил Кирилл. – Толкнул первую дверь – и вот… Но я, право же, не жалею…
– Так что вам все-таки надо? – совсем уже обретя уверенность, сердито проговорила обладательница французских духов.
– Справочку получить, – все так же вкрадчиво, любуясь ею и видя, что нахальство незваного посетителя начинает ее смущать, сказал Кирилл; ее и впрямь бросило в краску. – Мы строим водовод в песках. А там саксаульник. Приходится его немного потеснить. Так вот: может, он какую научную ценность представляет? Нанесем непоправимый урон матушке-природе. Природу защищать сейчас стало модным, вот и мы не хотим отстать…
– Это не по моей части, – еще больше смущаясь оттого, что так ярко зарделась, и пальцы приложив к щекам, будто остужая их, ответила она. – Но сейчас никого нет – все уехали на наш стационар в Каракумы, там выездной симпозиум…
«Ну, конечно, – вдруг обидчиво подумал Сомов, – у них симпозиум. Большую науку делают. Где уж нам уж выйти замуж…» И спросил: