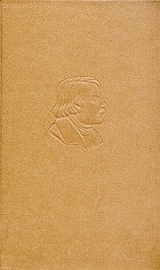
Текст книги "Мертвые души. Том 3"
Автор книги: Юрий Авакян
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
– Что же это вы молчите, милостивый государь? С дамою хотя бы поздоровались что ли? – усмехнулся Чичиков, от чего взрогнувши, словно бы от испуга Ноздрёв поспешно и послушно в одно время, припал к руке Натальи Петровны, и вдруг неожиданно заплакал горько и не таясь.
Тут, разумеется, не обошлось без слёз и со стороны Натальи Петровны, которая принялась гладить его по некогда кудлатой голове, что—то приговаривая и нашептывая ему на ухо, на что Ноздрёв согласно и точно дитя кивал в ответ.
– Ну, всё, всё! Будет вам сантименты разводить, – с заметным нетерпением проговорил Чичиков. – Ты вот что, братец, послушай—ка лучше меня – в том для тебя выйдет больше проку.
На что Ноздрёв снова вздрогнувши, словно бы от полученного им пинка, оторвался от ручки Натальи Петровны и утеревши слёзы несмело взглянул на Павла Ивановича.
– Так вот же, братец, в этом конверте все твои бумаги, и весь ты в них словно бы на ладони, – сказал Чичиков, тряхнувши у него перед носом уже знакомым нам с вами серым конвертом. – Я решил, что покуда оставлю их все при себе, на тот случай, ежели в тебе сызнова начнет просыпаться резвость, и вздумаешь ты несть на мой счёт всякую околесицу, хотя бы и о «мёртвых душах». Так что смотри же, голубчик, не позабудь об этом. И ещё хочу тебе сказать, что надеюсь на то, что всё произошедшее послужит тебе хорошим уроком, и ты, наконец—то, поймёшь и усвоишь ту простую истину, что не тебе – шуту уездному, со мною тягаться. Это, видишь ли, любезный, не шашки с доски воровать… Одним словом – даю тебе сроку до завтрашнего дня, чтобы убирался ты восвояси и сидел бы там у себя в деревне молча, точно бы воды набравши в рот. Ежели ослушаешься ты меня, и не покинешь Петербурга до названного мною сроку, то завтра же ввечеру сызнова окажешься в прежней же палате, на прежней же койке. Это я тебе более чем верно обещаю! Надеюсь, что ты хорошо понял меня, и мне не потребуется вновь прибегать в отношении твоей персоны ко всяческим карательным мерам?! – сурово глядя на присмиревшего Ноздрёва спросил Чичиков.
– Завтра об каком часе уезжать? – с обречённой покорностью в голосе и всё так же не смея поднять глаз на Чичикова, спросил Ноздрёв.
– Об каком говоришь часе? – точно бы задумавшись переспросил Чичиков и словно бы для верности глянувши на стрелки извлечённых из кармана часов, сказал:
– Нынче уж почитай, что два часа пополудни; так вот завтра, чтобы апосля двух часов в Петербурге и духу твоего не было! Ну как, договорились?
– Договорились, – ещё ниже склонивши обритую голову, отвечал Ноздрёв.
– Что ж, вот и славно! Однако же я думаю, что нам с вами уж пришла пора проститься, потому как меж нами уж нет никаких взаимных интересов. Прощай же, любезный, прощайте голубушка, – сказал Павел Иванович и сдержанно поклоняясь вновь соединившимся любовникам, зашагал прочь, чувствуя, как приятною тяжестью тяжелят его карманы две тугие пачки пятидесятирублевых билетов.
Вечером того же дня собираясь к ужину, в разве что не ставший ему уже родным докторский особняк, Чичиков отдавал помогавшему ему со сборами Петрушке строгие указания – быть начеку и никого из посторонних в комнаты не пускать, а во первую голову Ноздрёва, который по мнению Павла Ивановича вполне был способен сделать в его отсутствие ревизию всем его бумагам, и, конечно же, замечательной, со штучными выкладками шкатулке, хранящей в своём чреве немало важных и заманчивых тайн. Но в конце—концов бумаги в коих нынче сосредоточена была вся будущность, вся судьба Ноздрёва решил взять он с собою, резонно полагая, что так они, в случае чего, останутся целы, и, пригрозивши на прощание Петрушке спустить с того шкуру, ежели что, сунул серый конверт во внутренний карман своего сертука, и отправился к ужину.
Надобно сказать что ужин сей не отличался ничем примечательным. Наталья Петровна так и не вышла к собравшимся в гостиной зале старцам, коим было объявлено, что она часом ранее отправилась с визитом к своей модистке, и верно уж воротится нескоро.
«Знаем мы, к каковой она отправилась модистке…», – думал Чичиков, поглядывая украдкою на Ивана Даниловича, в котором однако не было заметно никаких перемен, из чего Павел Иванович заключил, что бедняга доктор всё ещё находился в абсолютном неведении в отношении давешнего освобождения ненавистного Ноздрёва. Поэтому несколько успокоившись на сей счёт, решил наш герой продолжить свои искания в отношении заклада приобретённых им «мёртвых душ», те, что в связи с переполохом возникнувшем в последние дни из—за фигуры Ноздрёва, были им словно бы отчасти заброшены. Теперь он то уж знал наверняка, что при «правильном повороте дел», возможно было получить за ревизскую душу втрое более обычного, но в наше просвещённое время кажется и дитя ведает о том, что для «правильного поворота дел» надобно и знаться с «правильными людьми» – иначе никакого толку не будет. Вот потому—то и решился Чичиков искать протекции у того самого ветхого старичка в тёмно—синем фраке, что успел тем достопамятным вечером побывать в пленниках у Ноздрёва, и посему, конечно же, как и прочие гости Ивана Даниловича по понятным причинам, весьма благоволил Павлу Ивановичу.
Старичок сей, прозывавшийся попросту – Николаем Николаевичем, на самом же деле был особою весьма непростою, потому как служил прежде начальником канцелярии «Думской Ревизионной Комиссии» и безо всякого сомнения мог помочь Павлу Ивановичу явиться, куда тому было потребно, не простым просителем с улицы, а вроде бы как и «своим человечком». Вот посему—то, не откладывая дела в долгий ящик, Павел Иванович и подступил к означенному старцу со всеми теми любезностями да приветственными словами, на которые, как мы с вами, дорогие мои читатели, знаем, всегда был горазд. Не размениваясь на обиняки, он сразу же приступил к самоей сути того разговора, который, по совести сказать, и был главною причиною нынешнего его визита, а Николай Николаевич слушая излагаемую Чичиковым просьбу, принялся делать некие знаки лицом, те, что должны были означать безусловное понимание им рассказанного Павлом Ивановичем предмета. По окончании сделанной Чичиковым просьбы, он возвёл очи своя к потолку, что, конечно же, свидетельствовало о глубоких размышлениях, в которые погрузился сей могучий ум, после чего уже, переведя взгляд вновь на Павла Ивановича, сказал, прошамкавши беззубым ртом:
– Дело сие не то, чтобы совсем уж невозможное, а скорее чрезвычайно хлопотное, голубчик вы мой. Да и что вам было не обратиться напрямую в ваш Губернский Поземельный Банк? Пошто было отправляться в таковую даль – в Петербург, за тридевять земель?
На что Чичиков, вовсе не бывший расположенным раскрывать кому бы то ни было истинные рычаги и пружины создаваемого им предприятия отвечал, прикинувшись воплощённою простотою, что рассчитывал здесь в столице произвесть сей заклад через Опекунский Совет для той цели, чтобы сумма заклада была повыше, а проценты насколько возможно ниже.
– Опекунский Совет тут мешать ни к чему. Опекунский Совет всё равно сам денег не даёт. Да и откуда у него деньги? Он натурально обратится в тот же Земельный Банк, так что акромя затяжки времени вы, любезный Павел Иванович, ничего иметь не будете, – сказал Николай Николаевич, – но, коли вы уже здесь в столице, то ступайте, в таковом случае, в Земельный Банк сами. Незачем вам в таком разе с Опекунским Советом связываться. Бумаги надо думать у вас все в порядке, вот и проводите заклад самостоятельно – всё быстрее будет.
– Таковой совет, признаться вам, дорогого стоит, да только вот слыхивал я, будто имеются некия пути, что позволяют получить по закладу втрое более той цены, что выплачивается по обычной закладной, – проговорил Чичиков, затаивши дыхание, потому, как сие и была наизаветнейшая часть того разговора, что вёл он нынче с почтенным ревизором, – сами понимаете, достопочтеннейший, что не хотелось бы продешевить, когда есть способы, как избежать убытков. Вот по сией—то причине и отважился обеспокоить вас просьбою, быть советчиком, либо заступником в моём деле.
– Не стану скрывать, тем более что вы и сами о том знаете – таковые пути имеются, да вот только получение подобного закладу и впрямь – дело непростое. Ведь для того, чтобы подобное дельце выгорело, надобно иметь заслуги перед отечеством, либо же какие—никакие отличия. В противном случае, думаю, не стоит и браться. Хотя, признаться, и изыскиваются возможности, но тут, для того чтобы знать наверное, вам, любезный вы мой, лучше переговорить на месте в самом банке. Там ведь они все мастера на подобные штуки, и посему сами и подскажут как сподручнее к вашему делу подступиться.
– Эх, коли бы знать, с кем о подобном то деле перемолвиться – всё было бы проще! Научите, Николай Николаевич, окажите милость, ведь весь свой век за вас молить Бога буду!.. – взмолился Чичиков, разве что не со слезою в голосе.
– Ну, тут—то, как раз ничего мудрёного нету, – отвечал Николай Николаевич. – Можете и от моего имени перетолковать, хотя бы даже и с секретарем Кредитного комитета, Он—то вас как надобно просветит и всему нужному научит. Но, разумеется, Павел Иванович, тут, как вы понимаете, без особого подходу не обойдётся, и пускай секретарь, и невесть какая птица, но и он – человек, и у него тоже свои амбиции имеются…
– Об этом не извольте даже и беспокоиться! Это я, дорогой Николай Николаевич, как нельзя лучше понимаю. Что же тут поделать, ежели таково естество человеков, что им без амбиций никак нельзя. Иначе ведь и не проживёшь в наше—то время! Да и посудите сами, кому охота брать на себя труды по чужим делам, коли из того не будет проку? Так что с этой стороны мною всё будет соблюдено, – проговорил Чичиков вздыхая смиренно и строя во чертах лица своего понимание.
– Ну, вот и славно, – сказал Николай Николаевич, – В таком случае, в любой удобный вам час ступайте в Земельный Банк и спросите там титулярного советника Аяякина. Как я знаю, он всегда с самого утра в присутствии сидит, так что вам мудрёно будет его не застать, он вам всё и растолкует, тем более, ежели будет знать, что явились вы от меня.
Обнадёженный столь успешно завершившимся разговором, к которому Павел Иванович приступал с сомнением и учащённым биением сердца, он ещё несколько времени покружил по гостиной зале, потолкался в её углах, а потом незаметно для окружающих простился с Иваном Даниловичем и отправился восвояси, по той причине, что после разговора с ревизором ничто уж не сулило ему ни малейшего интересу.
Но по возвращении в нумера к Труту Павла Ивановича всё же ожидал сюрприз. То было письмо от Ноздрёва, адресованное нашему герою и Чичиков поначалу хотел было даже пристукнуть Петрушку, коему велено было никого из чужих в комнаты не впускать, но Петрушка отговорился от наказания тем, что сказал, будто письмо сие подсунуто было под дверь нумера неизвестною рукою, а в этом никакой его вины нет, с чем Павел Иванович не мог не согласиться, так что Петрушке на сей раз удалось избегнуть обещанных барином тумаков.
Письмо, которое, скинувши с себя шинель, принялся читать Чичиков, была совершеннейшая абракадабра, сквозь которую лишь местами проскальзывали слова и фразы подвластные разумению, из коих всё же с трудом, но можно было заключить, что Ноздрёв якобы всегда, с самого раннего своего детства, горячее любил Павла Ивановича, почитая того за лучшего из людей, с какими его когда—либо сводила судьба, а посему он вовсе не чаял той «размолвки» (как написано было в письме), что случилась меж ними. Заканчивалось сие послание признаниями в вечной любви и преданности и обещаниями быть Павлу Ивановичу верным другом до самой гробовой доски. Страница, по которой там и сям сидели кляксы, обильно была сдобрена, к тому же, грамматическими ошибками – Буква «Ять» гуляла по строчкам, как хотела, а точки, запятые и восклицательные знаки, которых было столько, что иные места в письме легко можно было принять за изображение частокола, прыгали и скакали повсюду на совершенной свободе.
Дважды перечитавши письмо, Чичиков улёгся на кровать и покусывая уголок Ноздрёвского послания, явно стал что—то обдумывать, а потом, словно бы надумавши, не изорвал листка, как того вполне можно было ожидать, но сложивши его вчетверо спрятал на дно своей шкатулки вместе с остальными бумагами, имевшими касательство до Ноздрёва. После чего уже вытребовал у призванного им коридорного чаю с горячими ватрушками, к коим были присовокуплены ещё и блины с какою—то припёкою, и лишь покончивши с принесённой коридорным снедью, отправился почивать.
До самого утра Павел Иванович спал спокойным и безмятежным сном, каким обычно удаётся забыться лишь счастливцам, вполне довольным своею жизнью, либо очень спокойным и уравновешенным людям, и сон его был настолько крепок, что он даже не слышал, как среди ночи кто—то бегал по коридору, стуча о пол босыми пятками, как плакала некая женщина, где—то за стеною, и как истошно вопя, звали доктора. И лишь пробудившись поутру, уже о десятом часе, он узнал от Петрушки, что в соседнем нумере кто—то наложил на себя руки, повесившись ночью на снурке.
От подобного известия всё тело Павла Ивановича проняло мелкою дрожью, а в сердце кольнуло тонкою и больною иголкой, что словно бы так и засела где—то там во глубине его груди. Поднявши на Петрушку испуганные глаза, он спросил его с дрожью в голосе:
– А кто был таков, часом ли не знаешь?
– Никак нет, барин, не знаю. Только вот сказывали, будто кто—то сбежавший из «жёлтого дому», – отвечал Петрушка, а сам не видал, не знаю, потому и врать не хочу.
«Этого не может быть, чтобы из «жёлтого дому»! Да и зачем было ему?! Зачем было ему?!..», – забилось и застучало у Чичикова в голове, и он, чувствуя, как задрожали его пальцы мелкой дрожью, сказал Петрушке:
– Так, не мешкая собираться! Потому, что мы съезжаем сей же час, и чтобы у меня враз было всё готово, как я вернусь! – бросил Чичиков вскакивая с постели и накинувши кое как на себя сертук, поспешил в первый этаж, в контору, с тем, чтобы расплатиться.
«Не приведи Господь, ни сегодня, завтра начнется следствие, – думал Чичиков, – ведь, как пить дать, меня притянут, потому, как видывали нас с ним вдвоём не раз – откуда он только, прости Господи, взялся на мою голову. А там и Обуховка, и участие моё в его вызволении – всё вылезет наружу и тогда уж мне, конечно же, не поздоровится. Потому, что во всё примутся вникать, все бумаги мои перекопают, и тогда уж точно выйдет мне Сибирь со всеми моими «мёртвыми душами». Нет! Бежать, бежать, не откладывая ни на минуту! И ведь, как, собака, подгадил! И именно в то время, когда у меня уж, кажется, и ходы нужные появились до банка. Только и оставалось, что воспользоваться протекцией Николая Николаевича, и нанесть визит, так нет же – вот вам, Павел Иванович, кушайте фигу на прованском масле! И наместо того, чтобы обделывать дела, как оно потребно, мне нынче придётся спасаться бегством, потому что, видите ли, кому—то взбрела в голову фантазия вешаться на снурке! Воистину – нечистая сила поставила его на моём пути! Но нет, врёшь, меня так просто не взять!..», – думал Чичиков, стучась к управляющему.
Счёт, выставленный управляющим, был огромен! В нём проставлено было всё – оплата и за нумер, и за воду, и за дрова, и за постой коляски, и за лошадей, и за овёс, и за Селифана жившего при лошадях, так, будто и он сей овёс тоже жевал. Но Чичиков не стал торговаться. Не тратя времени даром, он расплатился без лишних слов, попросивши управляющего распорядиться по—поводу его экипажа. На вопрос о том, куда он намерен путь держать, Чичиков отвечал весьма расплывчато, что, дескать отправляется он нынче на север в Архангельскую губернию, по особенной важности делам, вероятно таковым образом намереваясь навести на ложный след возможную погоню. Со своей стороны он не сделал решительно никаких расспросов относительно ночного происшествия. Довольно было и того, что всего лишь днями он выправил у домоуправителя справку касательно жильцов, проживавших в сорок первом нумере. Думая сейчас об этом, Чичиков ощущал неподдельные страх и досаду.
«А как и вправду вздумают увязать одно с другим, – промелькнула в голове его ещё одна тревожная мысль, – Господи, что же это тогда будет?!»
Тут же, подстёгнутый сей мыслью бросился он назад к себе в четвёртый этаж с тем, чтобы поторопить Петрушку, но когда, запыхавшись, вбежал он в свой нумер, Петрушка уж был готов, разве что оставалось уложить ему какие—то один или же два пустяка и тогда точно можно было бы отправляться в путь. Тут же зван был Чичиковым и коридорный, для того, чтобы в один приём снесли бы они вместе с Петрушкою, пусть и небольшой его багаж, но всё же требующий, как оказалось, четырёх рук. Коляска уж поджидала их у подъезда. На сей раз не сыскалось у Селифана никаких проволочек и Чичиков, взобравшись в неё и откинувшись на сидения своего экипажа, только и бросил что – «Погоняй!», а сам, натянувши до упору складной верх коляски, забился в угол, хоронясь от любопытствующих взоров, что начинали мерещиться ему чуть ли не повсюду.
Когда миновали они с добрый десяток улиц, оставивши позади злополучный Трутов дом, решился, наконец, Павел Иванович перевесть дух, потому как место, в которое они попали, петляя проулками да проходными дворами, являло собою обычный Петербургский задворок и посему выглядело тихим и глухим. С одной стороны сего задворка помещался какой—то чахлый и замусоренный по весне сквер, подпиравший собою глухую каменную стену большого дома, а с другой сквозь ворота проходного дворика отсвечивала вода некоего канала, какого – Павел Иванович не знал. Пытаясь успокоить свои вконец было расстроившиеся нервы, Чичиков принялся обдумывать приключившееся с ним происшествие, и то, каковым образом лучше было бы повесть себя в сложившихся непростых обстоятельствах. С одной стороны ему как будто надобно было без промедления убираться из Петербурга, но и то предприятие, что забрало у него уже часть жизни, тоже необходимо было продолжать.
«Ну, в чём тут моя вина, коли кому—то вздумалось лезть в петлю? Чего мне бояться?..», – говорил он себе, так, словно бы пытался заговорить подобным манером беспокойно стучавшее у него в груди сердце. Но сердце отвечало ему другое – оно говорило Чичикову, что вина его видна совершенно ясно, и стоит лишь потянуть за ниточку, коей и являлась та злополучная выписка из домовой книги, стоившая ему пяти рублей, как тут же, словно бы сами собою выскочат и проживавшая в доме Трута Наталья Петровна, и Ноздрёв, и вся история с Обуховской больницей, и консилиумом, к которому и он приложил немалые усилия, а там, того и гляди, выползет на свет, точно прятавшаяся в подземелье гадина, что соскучилась по солнышку, и его история, в которой смешаются в одну кучу и бараньи тулупчики, прятавшие под собою брабантские кружева, и «мёртвые души» распирающие его со штучными выкладками шкатулку, и поддельное завещание миллионной старухи, всё снова всплывёт на поверхность, и тогда уж ему действительно не поздоровиться.
Однако сии разумные увещевания сердца недолго тревожили ум нашего героя, совсем скоро в нём возникло и другое чувство, всё с большей настойчивостью принявшееся заявлять о себе, и чувство сие было всегдашнее стремление Павла Ивановича к выгоде, по существу служившее для него ни чем иным, как путеводною нитью проходящей через всю его полную приключений жизнь. И, конечно же, под его влиянием решил Чичиков искусить свою судьбу ещё один раз, резонно полагая, что персону его вряд ли стерегут уже на всяком углу каждой петербургской улицы, с чем и решил отправиться на встречу с титулярным советником Аяякиным.
Для того же, чтобы сохранить хотя бы какую—то секретность в передвижениях, и не мелькать своею коляскою по улицам, велел он Селифану с Петрушкою, дожидаться его, не сходя с места, в сих тихих задворках, а сам, пройдя проходным двориком сквозь который светила сиявшая под весенним солнцем гладь «безвестного» канала, кликнул извозчика, что подвернулся весьма к случаю, и надвинувши на глаза картуз и пряча лицо в воротник шинели, отправился пытать счастья в Государственный Земельный Банк.
Дорогою он несколько раз крепким словцом ругнул Ноздрёва за те обстоятельства, в кои был ввергнут он ныне страшным и безбожным его поступком, но в то же время Чичиков чувствовал, что не может всерьёз сердиться на этого бедняка, которого он точно уж погубил. Наверное, сие проистекало отчасти и из—за большой впечатлительности нашего героя, разве что не впервые в жизни столкнувшегося с подобным происшествием, способным вызвать у каждого в душе страх, сумятицу и переполох. Хотя надо признаться, что подобные происшествия вовсе не редкость в Петербурге. Здесь они случаются весьма часто, и наша столица, превосходящая прочие мировые столицы славою и величием, богата и на подобные случаи. То проигравшийся в пух и прах офицеришко, которому нечем заплатить карточный долг пустит себе пулю в лоб, то несчастливый любовник наглотается либо мышьяка, либо какой другой дряни, а то и просто спасаясь от сварливой жены и «дружелюбных» своих домочадцев шагнет с крыши дома на каменную мостовую, словно бы надеясь таковым образом освободиться от опостылевшей жизни и улететь в синие небеса, жалкий, затёртый человечек с семьюстами рублей годового жалованья. К слову сказать, не замечали ли вы, господа, такого удивительного и никак не объяснённого наукою факта – чем меньше достаток, тем более он прижимает к земле своего обладателя, будто непосильная, тяжкая ноша.
Добравшись наконец—то до Земельного Банка, и велевши извозчику дожидаться его, по той причине, что ему трудно было бы одному отыскать тот задворок, в котором оставил верных своих Селифана с Петрушкою, Чичиков первым делом решил справиться у привратника о том, как отыскать ему в сем обширном здании Кредитный комитет, надеясь встретиться там с Аяякиным, обещанным ему вчера на ужине у Ивана Даниловича. Но и тут ждало его разочарование – оказалось, что Аяякин захворал, а вместо него принимает некто Коловратский, тоже титулярный советник и тоже секретарь. Воистину день сей был немилостив к Павлу Ивановичу, но, несмотря на подобную, столь неудобную для нашего героя комиссию, он всё же решил нанесть визит означенному секретарю, втайне надеясь, что и ему должен быть известен старичок Николай Николаевич, пусть нынче и пребывающий в отставке. Посему попросил он служителя провесть его в какую надобно залу, поразившую его великолепием мраморов, паркетов и множеством усердно машущих перьями чиновников. Служитель указал Павлу Ивановичу на нужного ему титулярного советника, что сидел в углу залы за отдельным столом и прилежно что—то записывал в некий серого цвета формуляр. Несмотря на свой совсем нестарый ещё возраст, чиновник сей был абсолютно лыс и как можно было судить – худ и долговяз. На тонком птичьем его носе сидели круглые стёклы очков, а сквозь узкую полоску рта высунулся и был виден бледный кончик розового его языка, как надо думать немало помогавший при заполнении бумаг своему обладателю.
Несколько робея, Чичиков приблизился к заветному столу, над которым склонился столь усердно предававшийся своим обязанностям чиновник, но тот, сделавши вид, будто не видит посетителя, ещё ниже согнулся над столом, правда язык им был тут же убран за тоненькие, в ниточку, губы, а всё лицо сделалось точно бы обрамлённым рамою сердитого и сосредоточенного внимания к целиком забирающей его работе. Павел Иванович кашлянул было в кулак, дабы лучше сделалось видным его присутствие, и сказал:
– Простите меня великодушно, любезнейший, за то, что осмеливаюсь, так сказать, вторгаться в наиполезнейшие труды ваши, но коли бы не нужда, ни в коем случае не осмелился бы вас обеспокоить…
На что секретарь молча и не поднимая птичьего носу от бумаг, ткнул обгрызенным пером в сторону стоявшего тут же стула, и продолжил свои занятия. Так, в молчании, сопровождаемом стоявшим в присутствии треском перьев, прошла минута, другая, прежде чем Чичиков осмелился произнесть:
– Я, собственно, рассчитывал переговорить с господином Аяякиным, но служитель сообщил мне, что на беду тот захворал, посему—то я и решился обратиться за советом к вам, потому как думаю – это всё равно. Ведь господин Аяякин тоже дела моего не знает, я ведь наведываюсь к вам в присутствие в первый раз.
Сие замечание Чичикова также сопровождаемо было молчанием, посему сделавши в словах небольшой перерыв, Павел Иванович вновь попытался было завязать разговор.
– Мне рекомендовано было перетолковать о моём деле с кем—нибудь из вашего комитета Николаем Николаевичем – прежним начальником канцелярии Думской Ревизионной Комиссии, не изволите ли вы, любезнейший, знать сего господина?
Тут секретарь впервые сделал попытку оторвать было нос свой от бумаг.
– Имею счастье!.. – сказал он, но по тону, коим он это произнёс, Чичиков понял, что он как раз и не почитал подобное знакомство за большое счастье.
«Однако же, как же это я неудачно сегодня сюда зашёл, – подумал Чичиков, – и впрямь надо было дожидаться Аяякина.»
Он уже обдумывал, под каким бы благовидным предлогом покинуть ему присутствие Кредитного комитета, когда секретарь, покончивши с упражнениями в чистописании, ухватил вдруг бумаги, положенные Чичиковым в углу стола и принялся их читать. Прошло ещё несколько времени, в которое изучаемы были купчие, совершённые Павлом Ивановичем, после чего секретарь, глянувши на него поверх круглых своих стёкол, спросил:
– Как пологаю, речь идёт о закладе?
– Именно так, милейший – о закладе. Посему собственно и решился на то, чтобы обеспокоить вас своею…, – начал было Чичиков, но секретарь живо укоротил этот его порыв, заявивши с возмущением во взоре, блещущем сквозь круглые стёклы очков:
– Как же это вы, милостивый государь, решили крестьян закладывать, ежели за них подати ещё не уплачены?
На что Чичиков принялся сбивчиво и краснея объяснять секретарю, что желал бы прежде заложить крестьян, а затем уже с полученных сумм и оплатить подати, потому как иначе к этому у него нет никакой возможности, ибо лишён средств, потребных на поддержание самоей жизни, а сам при этом подумал:
«Господи, это надобно сразу же всё таковым вот образом испортить!»
Секретарь же, точно не слыша всех этих направленных до него жалобных призывов, глянул в бумаги ещё раз и сказал, покачивая своею лысою головою, словно бы хороня сим отрицающим жестом все пустые надежды Павла Ивановича:
– Да к тому же и без земли! Нет, милостивый государь, и речи быть не может, и не рассчитывайте даже!
Что было тут делать бедному Павлу Ивановичу, которого тут же прошибло холодным потом. Он попытался было разжалобить секретаря упоминаниями и о незначащем черве мира сего, коим будто бы являлся, и о барке, гонимой жестокими волнами, вспомнил о многих врагах не единожды покушавшихся на святая святых – жизнь нашего героя, и доведших до сегодняшнего плачевного положения, когда спасти его может разве что один заклад в казну, но секретарь оставался глух ко всем этим обращенным до него зовам. Отложив в сторону бумаги, поданные ему Чичиковым, он снова вернулся к переписыванию формуляра, даже не глядя на потевшего со страху просителя, и лишь когда, прикрывши ладонью, Павел Иванович подсунул под один из лежавших на столе листов легонько хрустнувшую, свежую ассигнацию, секретарь тот час же переменился. И в лице его, прежде отстраненно—хмуром, и во всей долговязой фигуре, состроились вдруг такое радушие и такая приятность, что засияли даже сидевшие на его птичьем носе кругляшки очков.
– Ах, простите, – сказал секретарь, сызнова поворошивши бумаги Павла Ивановича, – я признаться, проглядел то обстоятельство, что крестьяне куплены вами на вывод. Это, конечно же, несколько меняет дело.
– Научите, голубчик, научите, – запел тут Чичиков сладким голосом, поглаживая ладошкою сукно зелёного секретарского рукава. – Научите, отец родной! Век за вас Господа Бога молить буду, и малым деткам своим накажу, – пел Павел Иванович.
– Ну, хорошо, – согласился секретарь, в задумчивости покусывая перо. – Стало быть на вывод в Херсонскую губернию… Так, так, так!.. Знаете—ка, сударь вы мой, нам с вами надобно будет поступить вот каковым манером. Нынче у нас тут большие строгости в отношении правильного оформления бумаг, поэтому вы уж потрудитесь, обязательно, доставить свидетельство за собственноручным подписанием капитана—исправника о том, что крестьяне ваши, дескать освидетельствованы. Да и само переселение, тоже надобно будет оформить, как положено – по суду. И самое главное – из Херсонской губернии, от тамошнего капитана—исправника тоже свидетельство приложить, о том, что переселение сие состоялось, а то, сами знаете, милостивый государь, крестьяне, ведь они мрут дорогою.
Услыхавши такое, Чичиков, признаться, впал в уныние. Он совершенно понял то, что ему нечего рассчитывать на скорые деньги, и что сделанное им дело всего лишь – полдела, а полдела, покуда впереди. Впереди ещё все эти путешествия по капитанам—исправникам и по пыльным уездным судам, где надобно будет выправить ему целый ворох бумаг, для того, чтобы лишь только подступиться к тем деньгам, что он уже разве не почитал своими, и словно бы чуял их где—то совсем рядом, так, что руки его уж готовы были хватать их горстями. Но, несмотря на всё то смятение чувств, что охватило нашего героя, он всё же нашёл в себе силы для того, чтобы улыбнуться, наместо того чтобы сидеть с кислою миною, и, склоняясь доверительно к секретарскому плечу, спросил:
– А скажите, многоуважаемый, верно ли я слыхивал, что имеются некие возможности в получении закладов больших, нежели обычные, и не были бы вы столь любезны, чтобы просветить и меня на сей счёт?
На что секретарь, приподнявши краешек того листка, под которым мирно притаилась ассигнация, поглядел в глаза Чичикова с приязненною улыбкою, и Павел Иванович, не мешкая, достал ещё одну хрустнувшую бумажку, которая тут же отправилась за своею товаркою под листок.
– Что ж, – сказал секретарь, – возможность получить за ревизскую душу до шестидесяти процентов ея стоимости, действительно имеется, но на то должны быть определённые мотивы…
– И каковы же мотивы? – не удержавшись, спросил Чичиков.
– О, весьма разнообразные! Такие, например, как всевозможные заслуги перед отечеством, ордена, воинския награды… Многое…, – отвечал секретарь.
– Ну, а ежели ничего из сказанного только что вами не имеется, как быть тогда? – снова спросил Чичиков.
– Не имеется, так сделается, – сказал секретарь, для пущей важности прикрывая глаза.







