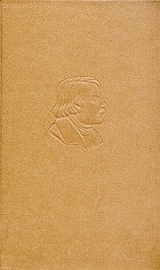
Текст книги "Мертвые души. Том 3"
Автор книги: Юрий Авакян
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)
Юрий Арамович Авакян
Мёртвые души
Поэма
Том третий
Перед тобой, дорогой читатель, третий том «Мёртвых душ», который Николай Васильевич Гоголь только задумал при создании первого тома, но ни одной строчки не написал, а второй том постигла печальная участь, о которой знает каждый поклонник творчества Гоголя.
Мечтой жизни Юрия Арамовича Авакяна было воссоздание второго тома поэмы «Мёртвых душ» Николая Васильевича Гоголя. Перед Юрием Арамовичем стояла необыкновенно сложная задача – воссоздать текст второго тома, бережно сохраняя и стиль, и язык автора бессмертного произведения; максимально используя фрагменты оригинального текста, те, что сохранило для нас Провидение.
В 1994 году второй том был воссоздан. Заново были написаны семь глав, те, которые в своё время не пощадил огонь, дописаны недостающие фрагменты второй, четвёртой и заключительной одиннадцатой главы. Второй воссозданный том «Мёртвых душ» – дань безмерного восхищения творчеству великого Человека, преклонении перед его памятью и осуществлённая мечта Юрия Авакяна.
После поступления второго воссозданного тома в продажу, Юрий Арамович получил огромное количество отличных отзывов от читателей. Второй воссозданный том признали не только российские гоголеведы. Отличные отклики приходили и от иностранных рецензентов. Это вдохновило Юрия Авакяна дописать трилогию до конца, как с самого начала и задумывал Николай Васильевич Гоголь.
Юрий Авакян к тому времени тяжело болел и знал, что жить ему остаётся немного. Но не смотря на болезнь он продолжал работать над книгой каждый день. Третий том был закончен в мае 2008 года, а 8 февраля 2009 года Юрий Арамович скончался. Он был похоронен 11 февраля, в день сожжения Гоголем второго тома «Мёртвых душ».
Юрий Арамович долго думал, как завершить третий том, долго сомневался, но всё-таки решил построить судьбу главного героя так, как она заканчивается в этом произведении.
Читатель пусть сам решит, правильно ли поступил автор с героями поэмы, особенно с Чичиковым, судьба которого крайне неожиданна, но другого быть и не могло, так считал Юрий Авакян.
Отдаем на суд читателей это крайне смелое произведение.
Светлана Владимировна Авакян
http://www.deadsouls2.ru
ГЛАВА 1
Что бы там кто ни говорил, господа, а всё же надобно, конечно же, надобно пожить и в столицах! Пускай и ненадолга, пускай изредка, но покидать свои насиженные медвежьи углы, хотя бы и для того только, чтобы вдохнуть в себя всю эту столичную жизнь со всеми ея разнообразными шумом и гамом, со всею ея праздничною и праздною суетою, что будто бы растворена в воздухе – ветром летающим над широкими нарядными прошпектами, по которым снует взад и вперёд люд различного сословия и наружности, и проносятся с громоподобным грохотом чудесные экипажи, просыпая на мостовую искры из—под копыт резвых, косящих налитым кровью глазом коней, тех, что послушны лишь до щёлканья кнутов толстых надменных кучеров, да криков форейторов правящих сиими великолепными, крытыми сверкающим лаком каретами, в запятки которых вцепляются гренадерского росту ливрейные лакеи, с чьих париков летит сдуваемая на бегающим воздушным потоком белая пудра, так что порою кажется, словно их глядящие поверх экипажей головы дымятся на быстром встречном ветру.
Здесь же, ежели повезёт кому, то может увидать сей благословенный счастливец, как мелькнёт во глубине такой вот, точно бы сошедшей с картинки из модного парижскаго журнала кареты, сквозь неплотно занавешенное оконце, то величавый профиль вельможи, отправляющегося лишь по ему ведомым, государственной важности делам, то кокетливая, изящная шляпка, с глядящею из—под нея парою прелестных глазок, тех, что могут не просто ранить бедное сердце, но и вовсе разбить его вдребезги; и тогда вдруг родится в душе тревожное и радостное вместе чувство, и позовёт, повлечёт за собою с какою—то необоримою силою, куда—то к неведомой и непрожитой, никогда не бывшей с тобою жизни, где одни лишь счастье, покой да любовь... Да, что там ни говори, а всё же надобно пожить и в столицах, господа, надобно!
Поливаемый обильно холодными струями вечернего весеннего дождя, тащился по раскисающей мокрой дороге темнеющий в сумерках экипаж. При ближайшем рассмотрении оного становилось видно, что это не просто некое, теряющее очертания в вечернем воздухе пятно, издающее жалобныя стоны и скрыпы, но довольно ещё новая, разве что не щегольская коляска, наматывающая на стройныя колёсы своя комья липкой грязи и глины, из коих, собственно и слагалась вся эта вымокшая под дождём дорога, так что вознице и располагавшейся с ним рядком на козлах фигуре, как надо думать относившейся к лакейскому сословию, то и дело приходилось соскакивать с козел, расплёскивая стоявшую лужами грязь, с тем, чтобы соскрести глину, плотно убиравшую не одни только шины и ободья колёс, но и самые их шпицы.
Подобные частые остановки, признаться кажущиеся и нам чрезмерными, как надобно думать, сказывались на настроении хоронящегося за плотно запахнутою кожаной полостью седока, потому, как всякий раз, едва лишь коляска прерывала своё и без того медленное движение, уж упомянутая нами кожаная полость приоткрывалась, и из—за неё раздавался голос с явно звенящею в нем ноткою нервического неудовольствия.
– Ну что вы опять возитесь, болваны, что там у вас опять за напасть?
На что «болваны», поворотивши к коляске перемазанные грязью физиогномии, принимались с сурьёзностью объяснять строгому своему барину, что следовать далее с таковыми комьями глины на колёсах «ну никак невозможно».
– Доколе же толковать тебе, образина, по траве поезжай, по траве! По полю либо по обочине! Чего может быть проще? Вот и не будешь грязь со всей дороги на колёсы цеплять! – снова звучал прежний голос, чьи раздражённыя замечания, как можно было догадаться, относились до кучера поражавшего таящегося в коляске седока своею нерадивостью.
Но у кучера на сей предмет видать имелись иные соображения, потому, как, взобравшись на козлы после новой порции липкой грязи соскобленной им с колёс, он словно бы ненароком заводил с сидящим с ним рядом лакеем незамысловатый разговор, на самом деле предназначавшийся сердитому барину, которому напрямую перечить опасался.
– Оно конечно можно бы и по полю, – словно бы размышляя вслух, говорил он, – ну а не ровен час, какой из коней в нору провалится, ноги себе переломает? Да и с обочины в канаву запросто сползтить можно; тогда не только что колёсы, тогда!..
И многозначительно вздохнувши, он снова замолкал, предоставляя спутникам своим возможность самим вообразить те ужасные последствия, что могли бы приключиться «тогда».
Наконец миновали они последнюю станцию на пути ко влекущей их долгожданной цели, коей являлась, как верно вы уж догадались, благословенная наша столица, и нетерпение ещё сильнее взыграло в их сердцах. Небо тёмное, укрытое тёмными же плотными облаками оставалось у них за спиною, уступая место освещённому бесчисленными огнями небосводу, возвещавшему об их приближении к огромному, невиданному ими доселе граду. Нетерпеливый наш седок, распахнувши кожаную полость, то и дело высовывался из коляски и, приподнимаясь на носки ладных лаковых полусапожек, стремился получше разглядеть брезжившие впереди огни. Что, согласитесь, вовсе небезопасно проделывать на российских наших дорогах, где рытвина соседствует с ухабом, тот – с выбоиною и все они дружно сплетаясь воедино с канавою, упираются в большую чёрную кочку. Но сие рвение его вполне возможно было и понять и объяснить: ибо поскорее хотелось узреть ему тот самый город, что влечёт к себе и манит, не только изо всех обширных просторов отечества нашего, несметные толпы народу, жаждущего обресть в пределах его удачу богатство и успех, но и многочисленных чужестранцев, хорошо понимающих то, что нигде не удастся им так легко и быстро обзавестись состоянием, как в России.
Во всей фигуре этого кутающегося в тёплую шинель седока, то опускающегося на эластические подушки коляски, то вновь вскакивающего с них с тем чтобы лучше рассмотреть тот либо иной из чем—то приглянувшихся ему огоньков, явно угадывалось нечто хорошо знакомое, что не в силах была скрыть даже царящая вокруг темень. И шея его, упрятанная по самый подбородок в шерстяной, радужных цветов платок, несколько выгоревший и поблекший, как думается от долгого ношения, и картуз – тёмный, надвинутый чуть ли не на глаза, с завязанными в «бант» снурками, и большая сабля, на которую, не вынимая ея из ножен, опирался точно о трость сей вытягивающийся в струнку господин, да и сама коляска сменившая ту самую, достопамятную бричку в коих колесят по Руси отставные подполковники, штабс—капитаны, помещики, имеющие около сотни душ и прочая, и прочая – всё говорило о том, что здесь у самых пределов «Северной Пальмиры» вновь пересеклись пути наши со столь дорогим писательскому моему перу Павлом Ивановичем Чичиковым и, стало быть, впереди ждут нас новыя приключения и проказы на которыя так горазд то ли сам Павел Иванович, то ли тот бес, что морочит и водит его по кругу жизни, как водит по кругу слепую свою лошадь трудолюбивый мельник.
Увы, увы! Но с прискорбием приходится отметить, что время, минувшее с нашей последней с ним встречи всё же отложило на нём свои отпечатки, чему, впрочем, немало поспособствовали и те невзгоды да злоключения, что выпали на долю Павла Ивановича, но тут уж ничего не поделаешь, потому, как таков его удел. И всё же, как бы там ни было, но о нём, как и прежде можно было сказать, что он хотя и не красавец, но и не урод, не худ, но и не то чтобы толст, пускай и сделались более округлыми благородныя линии его брюшка; что же до того, будто бы стал он глядеть старше, то и тут нельзя было сказать о нём, что сделался он стар, хотя вся фигура его нынче уж сделалась не в пример осанистее нежели прежде, но сие, как известно многим идёт лишь на пользу, придавая им словно бы более веса в обществе. Редеющий волос Павла Ивановича тот, что и прежде был одною из его забот, стал уж заметно реже, но и здесь нельзя было назвать его плешивым, а так лишь – слегка лысеющим, средних лет господином, либо же господином с весьма высоким лбом.
Въезд его в столицу, как впрочем, и во все иные населённые пункты отечества нашего, те, что довелось ему посетить, не привлёк ничьего внимания и не наделал никакого шуму, чего нельзя было сказать об его отъездах из сих благословенных селений, всегда куда более удававшихся в этом смысле нашему герою. Здесь же всего то и было, что расписался он в подорожной книге, прописавши в ней имя своё и звание, да прочитавши в объявлениях, где можно было бы остановиться на постой, проследовал далее всё ещё охваченный волнением от предстоящего ему первого свидания с Петербургом. Но к досаде его, те окраинныя улицы, по которым несла его тройка, вовсе не выглядели столицею, а были весьма унылы и замусолены. От них то влево, то вправо, петляя меж серых бараков и мануфактур расползались замысловатыя переулки прятавшие во глубине своей ещё большую, погруженную во тьму унылость, а изо всей иллюминации, коей манил к себе Петербург плясавшего в коляске от нетерпения Павла Ивановича, оставалась лишь печальная Луна глядящая сквозь прорехи в уже обессилевших изошедших долгим дождём облаках, да ея дрожащее отражение мелькающее то в одной, то в другой придорожной луже.
Когда подъехали они, наконец, к Кокушкину мосту, настроение у Павла Ивановича сделалось совсем уж тихое, потому, как вокруг стояли одни лишь доходныя домы, из подвалов и подворотен коих, не смотря на поздний уж час, что—то гремело и ухало. Глядя на подслеповатыя и закопчённыя окна сиих громогласных подвалов, Чичиков справедливо решил, что тут помещаются не иначе, как ремесленныя мастерские. Его несколько удивило то, что обладатели сих мастерских не стесняясь неурочным временем продолжают оглашать стуками окрестность, ничуть не смущаясь тем, что могут принести многия неудобства обитателям самих доходных домов. Откуда ему было знать то, что хозяевами сих мастерских были по большей части немцы сделавшия себе в России на своих ремёслах изрядныя состояния, а нынче уж владеющие и самими домами, и видно почитавшие даже и обитателей этих домов за свою собственность.
Остановившись у одного из подобных домов, глядевшего настоящею машиною и убедившись в том, что сей дом и есть тот самый «доходный дом Зверькова», о котором в объявлении виденном им на заставе было прописано весьма заманчиво, Чичиков прошёл во глубину большого подъезда с тем, чтобы договориться с домоуправителем о ночлеге.
Домоуправитель живший тут же, во первом этаже, бывший то ли немец, то ли чухонец; чего впрочем, так и не разобрал Чичиков, глядел на Павла Ивановича сонно, строя во всей своей чухонской физиогномии всяческия ужимки да зевки, должные видимо подчеркнуть то, что подняли его с постели во столь неурочный час, и что приличныя господа вселяются в «апартаманы» с утра, либо на худой конец до обеду. Для тех же, кто желал бы только переночевать, имеются при дорогах трактиры, постоялыя дворы, станции и прочия прибежища.
– Как это на одну только ночь? – вопрошал он, зевая так, что заместо слова «ночь» у него выворотилось «ноучь» – словно мало ему было его чухонского прононсу, так он ещё угодил и в аглицкий.
Чичиков смешался, потому, как красноречивыя зевки домоуправителя, его удивление просьбе Павла Ивановича о ночлеге, пускай и сонное, но вполне искренное, заставили нашего героя думать, что он либо сказал, либо произвёл в своих действиях нечто такое, на что, по мнению домоуправителя, способен был лишь человек несветский и не наученный хорошим манерам.
Однако он тут же обругал себя за подобныя мысли, прекрасно понимая, что сие всё вздор, и что этот «чухонский немец» не имеет никакого права зевать ему прямо в лицо, выворачивая сонную свою пасть с наполовину выпавшими, наполовину выкрошившимися зубами, а должен лишь кликнуть коридорного и распорядившись насчёт багажа прописать Чичикова в домовой книге. Но может быть робость, поселившаяся в его сердце от мысли о том, что вот он наконец—то и в Петербурге, в столице, какой нет равных среди прочих столиц мировых, то ли усталость от долгого пути, сделали своё дело, и наместо того чтобы возмутиться подлыми зеваниями домоуправителя, Чичиков что—то залепетал в ответ, словно бы засеменивши в своих словах, так будто и не слова это были, а осторожныя шажочки, коими он несмело приближался до слуха сего «чухонскаго немца».
– Дело, видите ли, в том, что я впервые в Петербурге. Не знаю ещё ни цен здешних, ни порядков. Вот посему и хотел бы пооглядеться, с тем, чтобы прояснить для себя образ мыслей и жизни столичной, – сказал Чичиков.
На что домоуправитель сделавши совершенно уж осоловелую мину, коротко бросил:
– У нас сто двадцать рублей в месяц!..
«Однако! – подумал Чичиков, – это выходит четыре целковых в сутки! – и с некоторой надеждою спросил.
– Это, конечно же, с пансионом?
Отчего с домоуправителя слетела вся его сонная одурь, и, поглядевши на Чичикова так, словно пред ним стоял некто по кому точно уж давно скучает смирительный дом, он ответил:
– Нет, это стены и дрова с водою! – и увидавши в лице Чичикова замешательство сказал, зевнувши напоследок так, что сделались видными кусочки чего—то, что ел он за ужином, расположившиеся во многочисленных прорехах промеж его зубов.
– Ежели вам дорого, то отправляйтесь к Труту! – и захлопнул пред носом Чичикова дверь своей комнаты.
Поначалу Чичиков опешился от подобного наскоку, и оттого, что не мог взять в толк, что же означает сие – «отправляйтесь к Труту». То ли это было доброе пожелание, то ли некое изощрённое чухонское ругательство. Поэтому он с минуту стоял, выпучивши глаза и хватая ртом воздух, не в силах решить, что же ему делать далее – отправляться ли туда, куда послал его «чухонский немец», либо молотить в захлопнувшуюся пред носом дверь кулаком, требуя с того объяснений. Но на счастье Чичикова пробегавший мимо малый, одетый в серый фланелевый сертучек с позументом и, как надобно думать служивший здесь коридорным, разрешил бывшие в Павле Ивановиче сомнения, рассказавши, что дом Трута стоит тут же недалече, у Кокушкина мосту, и даже вышедши с Чичиковым из подъезду объяснил, как туда проехать, на прощание, выставивши лодочкою ладонь справедливо ожидая от Чичикова награды, на что тот сделал вид, будто не заметил сего дружелюбного жеста. И то дело – нечего баловать чужую прислугу! Коляска отъехала от дому, а малый поглядел ей вслед, поскрёб в затылке и, сплюнувши в сердцах на мостовую, поплёлся восвояси.
У Трута и взаправду было дешевле – всего два рубля с шестью гривенными в сутки, опять же без пансиону, но Чичиков не стал более ломаться и, хотя свободные комнаты были лишь в четвёртом этаже, он прописался в домовой книге, внёс за неделю задатку и распорядившись на счёт коляски и багажа, прихвативши с собою лишь шкатулку с выкладками из карельской берёзы да саблю, поднялся узкою тёмною лестницею в свой нумер. Подъем несколько смутил его, потому, как покрылся он испариною: и глубокий его лоб и спина, да и прочия части его тела сделались влажными, и даже появилась некоторая отдышка; из чего он заключил, что будет это нехорошо вот эдак, каждый день утомлять себя, хотя бы и по той причине, что в сыром петербургском климате это совсем нездорово для лёгких, да подобным манером и белье будет занашиваться не в пример быстрее обычного. Посему и решил Чичиков, что при первой же удобной возможности сменит он сие временное пристанище, на что—либо более сообразное.
Доставшийся Павлу Ивановичу нумер был о двух небольших комнатках, с крашеными зелёною краскою стенами, по которым кем—то из малярского сословия то тут, то там посажены были жёлтенькия цветочки, призванныя, как видно оживить общий довольно унылый тон нумера. Цветочки сии по большей части уже обтёрлись и осыпались, так что наместо них оставались по стенам лишь бледныя пятны и посему представлялось, будто это некто усердный, не жалея для того времени покрыл все стены ровными плевками. Первая из комнаток изображавшая собою прихожею была заметно меньше той, коей долженствовало служить постояльцу кабинетом, спальнею и гостиною в одно время. В прихожей помимо большой вешалки с отдельною полочкою для шляп и картузов помещались ещё – небольшой шкапчик, узкая кушетка, явно предназначавшаяся для лакея и мятое жестяное ведро для мусора. Во второй комнатке пол был убран довольно уж поистёршимся ковром, в самой середине которого, прикрывая толстою своею ногою изрядную дыру расположился круглый стол с глубокою бороздящею его поверхность царапиною – плодом чьих—то стараний. Большой умывальник с серою мраморною доскою и зеркалом, диван с низкою изогнутою спинкою, шкап кое—как крытый лаком да пара скрыпучих стульев довершали убранство, сей замечательной комнаты.
Двое окошек, что были, в сей комнате, как нужно думать глядели на улицу. Но сквозь них нынче, увы ничего нельзя было разглядеть по той причине, что на дворе стояла уже глухая ночь – петербургская, сырая ночь наполненная запахами плесени, протухлой воды, солёного морского ветра, гари и ещё чего—то особенного, лишь ей присущего, точно бы таящего в себе некую невидимую, прячущуюся в пустых улицах опасность, от которой холодком пробирает обывательское сердце и тогда невольно ищет обыватель взглядом засовы и крюки коими хочет отгородиться от большого и страшного города, и лишь уверившись в том, что все запоры на местах, задувает свою свечу, погружаясь в нервический, беспокойный сон, полный тревожных и зыбких сновидений.
Дождавшись коридорного втащившего на четвёртый этаж весь небогатый Чичиковский багаж, среди которого находился всё тот же, хорошо нам известный большой чемодан, некогда сиявший белизною, а нынче уж изрядно исцарапанный и потёртый, несколько узлов с чем—то, что невозможно было понять и разве что не позеленевший от времени дорожный сак, Чичиков одарил слугу пятаком и велевши Петрушке себя раздеть, не мешкая завалился спать на недовольно скрыпнувшей ему в ответ кровати. Сон сморил его сразу и уже через минуту он насвистывал посредством обеих своих носовых закруток такие музыки, что в соседнем нумере за стеною залилась с перепугу звонким нескончаемым лаем, разбуженная им чья—то собачонка.
Ну что ж, покуда ночь стоит на дворе, да покуда спит наш герой подперевши кулаком пухлую свою щёку, не худо бы нам оборотить свои взоры назад и как требует того не один только избранный нами жанр поэмы, долженствующий отличаться и стройностью и взаимною гармониею частей, но и простая справедливость в отношении верных наших читателей, коих попросту не может не интересовать то, что же приключилось с Павлом Ивановичем Чичиковым во всё то довольно изрядное время покуда отдыхало наше писательское перо в ожидании музы, и что же произошло с той поры, как оставили мы его на холодной зимней дороге, ведущей прочь из Тьфуславльской губернии в обществе верных его Селифана и Петрушки. Ведь что ни говори, а ещё и по сей день, нет, нет, а вспомянут где—нибудь за чашкою вечернего чая, либо за карточною игрою, либо за ещё каким—нибудь приятным времяпрепровождением славные тьфуславльские обыватели нашего, столь споро отличившегося героя. И им стало быть тоже небезынтересно: каково ему теперь, где обретается он нынче, и куда прибила жизнь бедного нашего Павла Ивановича со всем тем ворохом «мертвецов», что скупил он трясясь в своём экипаже по бесконечным российским дорогам.
Ну что ж, воротимся несколько назад, к тому, казалось бы, уж канувшему в вечность мгновению, когда увидел внезапно Павел Иванович нагоняюшую его экипаж знакомую и зловещую карету, в которой сопровождаемый ротою гусар катил грозный и скорый на расправу князь, отправлявшийся с докладом по министерству в тот самый далёкий Петербург, где нынче мирно почивал, укрывшись одеялом, по самую свою бороду наш герой.
Мало сказать, что появление сей кареты, вызвало в душе у Чичикова смятение; потому, что сердце его в ту минуту словно бы оборвалось и почудилось Павлу Ивановичу, будто покидает все его члены и самое жизнь! И каждая, самая что ни на есть тончайшая жилочка его естества забилась, задрожала мелкой дрожью, а кровь вся без остатку точно бы отойдя от сердца прилила внезапно к вискам заполнивши голову его гулким своим шумом, так что казалось – ещё мгновение и прорвётся, лопнет некая зыбкая преграда, и изойдёт он своею перепуганною насмерть кровью, что хлынет у него горлом, прольётся из носу, из глаз пятная всё вокруг красным своим крапом.
Но вот промчалась карета, обдала порывом сырого холодного ветра и Чичиков не веря ещё своей удаче, не в силах перевесть дух повалился на остынувшия кожаныя подушки сидения и хватая широко разинутым ртом воздух чувствовал, как каждый его студёный глоток достигая до самого сердца словно бы приносит тому успокоение.
– Стой! Не гони, не гони! – только и сумел просипеть он сквозь стиснутое волнением горло оборотясь до Селифана, на что тот послушно и поспешно осадил коней и, выровнявши коляску у края дороги повернулся к барину поглядывая на того виновато мигающими глазками, всем видом своим показывая участие в Павле Ивановиче и готовность до новых его указаний. А уносящейся в даль по замёрзшему тракту ужасной карете, вослед которой Чичиков глядел расширившимися со страху глазами, и дела уж не было до остающегося где—то там, позади маленького, нашкодившего человечка, насмерть перепуганного своими же проказами и шкодами.
Прошло немалое время в которое уже и карета исчезнула без следа, истаявши в студёной мглистой дымке, стелящейся над дорогою, и морозец, словно бы сделавшись крепче, одел тонкою ледяною попоною спины остывающих у обочины, застоявшихся лошадей, а Чичиков всё так же, словно сомнамбула сидел боясь пошевельнуться и прижавши обе руки ко груди шептал что—то неслышное своими трясущимися белыми с перепугу губами. В тот час ему на самом деле казалось, что произведи он только хотя бы и самое мелкое движение, употреби малый, даже и не видимый глазу жест, и тут рухнет сие, только что бывшее с ним нежданное чудо – по которому зловещая карета со влекомым ею в далёкий Петербург князем промчалась мимо него. Промчалась точно, не видя и не зная того, кто он есть таков – Чичиков Павел Иванов сын, ещё вчера сидевший в каморе Тьфуславльского острога.
Но вот, наконец, страх, волновавший и будораживший его кровь утихнул, сердце, воротившись из пяток, стало на место и в душе его всё явственнее принялась утверждаться мысль о том, что вот пронеслась, пролетела мимо него лютая опасность, осенивши чёрным своим крылом, но, о счастье, не задела его, не зацепила! И, что этот вот замёрзнувший серый тракт – свобода! И этот воздух студёный и мглистый – свобода! И снег, пятнающий спины его коней, и убирающий покрытые рогожкою фигуры Селифана и Петрушки белою ноздреватою коркою – тоже свобода! Тут же почуял он непомерный, несообразный ни с чем аппетит: способность управиться с обедом, который пришёлся бы в пору, мало что двоим, а то и троим сотрапезникам. А ещё ему захотелось водки – в большой потеющей гранёной рюмке. И так чтобы закусить ея не каким—то там солёным огурцом или рыжиком, а чем—то горячим, острым и шкворчащим в сотейнике; чем—то, что плавало бы в красном жарком соусе, булькало бы мелко нарезанной зеленью и кореньями, и во что можно было бы, махнувши рукою на хорошие манеры, опустить чуть ли не половину белой пушистой булки, с тем, чтобы насосала она в себя, набрала соку, и лишь затем отправить ея в рот. Посему—то выйдя из оцепенения, в которое был он погружен нежданною встречею, приказал он Селифану править до ближайшего трактира, и тот, к слову сказать, не замедлил явиться взору нашего героя за первым же поворотом с тем, чтобы укрыть под своей сенью наших продрогших путников, давши им кров, пищу и приют.
Нынче нам уж трудно вспомнить, чем и как укреплял свои пошатнувшиеся силы Павел Иванович, но вот мысли и настроения, посетившие его в тот час, питаемы были, не до конца ещё пережитым им, недавним страхом. Оттого—то и решено было им, свернувши с главного тракту ехать кружными, дальними путями, дабы неровен час, а не свела бы его вновь злодейка судьба с чёрною княжескою каретою, подведя под сиятельный и беспощадный княжеский гнев.
Отобедавши на славу, и вопреки обыкновению своему не заведя ни с кем, ни разговоров, ни новых знакомств, он в пятом уже часе покинул гостеприимный кров приютившего его трактира, и, глядя на розовое, на вечерней заре солнце, поспешил продолжить свой путь. Его поставленная на полозки коляска резво и бойко бежала по промёрзнувшей звонкой дороге, и у первого же большого поворота вильнувши в сторону, пошла, петлять по узким ведущим в глухомань и неизвестность проселкам, рассыпая над ними звон замирающих в морозном воздухе колокольчиков, и хороня среди этих бескрайних полей и дремучих лесов след нашего героя с тем, чтобы мог он, переведши дух, осесть на время, никем не узнанный в какой—нибудь прячущейся среди лесов усадьбе, коей хозяева и слыхом не слыхивали бы ни о Чичикове с его мёртвыми душами, ни о поддельных завещаниях миллионных старух, ни о брабантских кружевах и баранах наряженных в тулупчики, ни о радзивиловской таможне. Либо укрыться в маленьком уездном городишке, под крышею старой обветшалой гостиницы, забившись с головою под тяжелое ватное одеяло, замкнувши нумер на три оборота ключа, заперевши ставни на окнах – и спать, спать, спать! Спать мёртвым сном – может быть год, а то и два, покуда не порастет быльём вся эта произошедшая так недавно история, и не потухнет, сей живущий в каждом уголку его сердца страх.
Не глядя на сгустившиеся уж зимние сумерки и тёмное, раскинувшееся над ним небо, Чичиков вовсе не опасался того, что может заблудиться в этом незнакомом и глухом захолустье, резонно пологая, что дорога на то и дорога, чтобы привесть его, в конце концов, к жилью людей ея проторивших. Тем более, что во время многочисленных своих путешествий он имел возможность не раз убедиться, в справедливости сей нехитрой мысли.
Не успели они отмахать и десяти вёрст, как уж подвернулась им деревенька, а затем и другая. А вот и сельцо покатило навстречу, убирая синеющий в сумерках косогор, но Чичиков всё твердил себе – «рано», да «рано», стремясь насколько возможно далее уйти из пределов тьфуславльской губернии. И лишь когда последния лучи зимнего солнца исчезнули с небеснаго свода не оставивши по себе и следа, когда тьма, разлившись повсюду, нарушаема была разве что одними только звёздами, блещущими в вышине холодным равнодушным до всего блеском, а притомившиеся от долгого бега кони покрылись белым инеем от замерзающего на встречном ветру пота, решил наконец—то Павел Иванович, что можно бы и остановиться, с тем чтобы дать отдых и коням, и своим дворовым людям, да и самому погреться у какого Бог пошлёт огонька.
Через три четверти часу ровнаго конскаго бегу выплыло из—за густых дерев обступивших дорогу, большое селение, со стоящим несколько поодаль господским домом, отороченным сзади толи парком, толи еловым лесом – чего нельзя было уж разобрать в темноте, и, своротивши с дороги, наши путники не мешкая, поспешили к нему. Почуявши близкое жильё и отдых, кони попластавши копытами по замёрзнувшей деревенской улице, приободряясь, дружно налегли на постромки, и коляска, выровнявши свой несколько кособокий ход, бойко побежала к подмигивавшему из—за дерев жёлтым светом своих окошек, господскому дому. Строение сие, об одном этаже, было, однако же, довольно велико, и как можно было судить – просторно. Крыльцо его убрано было круглым деревянным портиком, опирающимся на деревянные же колонны покрытыя щекатуркою, и даже по сию зимнюю пору сохранившие следы белой известки, бывшей на них. Окна дома частью были просто темны, частью занавешены ставнями, и лишь в нескольких из них, тех, что мигали Чичикову из—за дерев, горел свет. Поравнявшись с высоким дощатым забором Селифан, не слезая с козел, принялся стучать кнутовищем о тесовыя наглухо запертые ворота и стуки эти далеко разносились в звенящем тишиною вечернем воздухе, но, увы, помимо сего они так и не произвели никакого иного эффекту. Никто не отозвался на них, никто не спешил растворять ворота – встречать притомившихся путников, и лишь пара сердитых дворовых псов залилась хриплым простуженным лаем.
Чичиков некоторое время глядел на бесплодныя попытки своего возницы, строя во чертах лица своего презрительное неудовольствие, а затем голосом в котором сквозили раздраженныя бестолковыми действиями Селифана нервы произнес:







